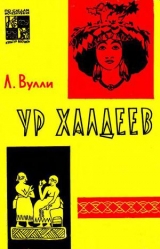
Текст книги "Ур Халдеев"
Автор книги: Чарльз Леонард Вулли
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
Теперь весь обряд погребения стал нам понятен. Тело царя вместе со слугами, число которых могло быть различно, помещали в усыпальницу, запечатывали дверь, и на маленькой площадке перед входом совершали жертвоприношение. Затем могилу начинали засыпать. Когда над поверхностью оставался только купол усыпальницы, вокруг него зажигали костры и справляли тризну. В глиняную трубу, уходившую вниз к подножью усыпальницы, совершали возлияния в честь умершего. Затем в могилу ссыпали новый слой земля. В нем оставляли приношение подземному богу, прикрыв его перевернутым глиняным горшком, чтобы в пищу не попала земля. А сверху, в наполовину засыпанной могиле, возводили из кирпича-сырца подземный покой, который постепенно заполнялся. Сначала в него приносили глину и утаптывали ее, чтобы на твердом полу расставить дары и положить принесенного в жертву человека. Все это засыпали землей, делали новый глинобитный пол, приносили новые дары и еще одну жертву во славу покоящегося внизу мертвеца. Так продолжалось до тех пор, пока могила не оказывалась заполненной почти до самого верха. Тогда половину могилы перекрывали сводом из кирпича-сырца и в эту верхнюю могилу ставили гроб с телом человека, который был, по-видимому, главной жертвой. Здесь же царь Мес-калам-дуг оставил в дар безымянной царице свои золотые кинжалы и печать со своим именем. Верхнее погребение в свою очередь засыпали землей, заполняли всю могилу доверху, а над нею, возможно, возводили нечто вроде погребального храма, дабы место это было свято и неприкосновенно.
Каждый этап этой тщательно разработанной церемонии, по-видимому, сопровождался религиозными обрядами, и все погребение должно было продолжаться довольно долго. Погребальные обряды в деталях, возможно, менялись, однако находка второй, к сожалению ограбленной, царской гробницы с точно такими же слоями жертвоприношений над усыпальницей доказывает, что первая гробница была не случайным явлением. Она достоверно иллюстрирует обычный погребальный обряд царей.
В Месопотамии никто до нас не находил подобных гробниц, и нам не с чем было их сопоставить. Археология не знала тогда ничего похожего. Царские погребения были уникальны по времени, по богатству, по архитектуре и тем более по сложности связанного с ними ритуала. К тому же в шумерийской литературе нет даже намека на человеческие жертвоприношения во время царских похорон. Этот обычай, насколько нам известно, противоречит всем традициям шумерийцев.
Раскопки кладбища навели меня на мысль, что погребения, столь значительно отличающиеся от обычных могил, могли быть только царскими гробницами. В отчете о предварительных результатах наших исследований я без колебаний выдвинул эту точку зрения, даже не предполагая, что она может вызвать возражения. Но в действительности так оно и случилось. Немедленно появилась другая теория, и до сих пор ученые не могут прийти к соглашению.
Эта теория гласит, что найденные нами массовые погребения представляют собой могилы жертв праздника Плодородия. Действительно, в Шумере исторической эпохи одним из главных религиозных обрядов была ежегодная церемония моления о плодородии полей, стад и рода человеческого. Во время этого обряда великого бога – покровителя города – выносили из его храма и праздновали его свадьбу с богиней. Предполагается, что роль бога играл сам царь.
В мифологии многих народов жатва связывается с представлением о боге, который умирает зимой и оживает весной. Таков, например, миф о Таммузе, или Адонисе. Следовательно, обряд праздника Плодородия предполагает гибель главного действующего лица. Если этим лицом был действительно царь, то вряд ли он пошел бы на добровольную жертву. Гораздо вероятнее, что при жертвоприношении в праздник Плодородия у него был заместитель, который, по-видимому, некоторое время пользовался титулом и правами царя, чтобы затем умереть вместо него.
Таким образом, согласно этой теории, гробницы Ура представляют собой погребения ритуальных «царей», принесенных в жертву ради блага страны вместе с их ритуальными «придворными». О том, что «цари» были не настоящими, якобы можно судить, во-первых, по отсутствию в шумерийских текстах каких-либо упоминаний о человеческих жертвоприношениях во славу земных владык, а во-вторых, по тому, что ни одно из имен, обнаруженных на цилиндрических печатях в гробницах, не встречается в списке шумерийских царей.
На мой взгляд, эта теория жертвоприношений в честь праздника Плодородия не выдерживает серьезной критики. Действительно, в шумерийских текстах не упоминается о человеческих жертвоприношениях на похоронах царей. Но ведь ни один из текстов и не описывает царских похорон! Следовательно, такое негативное свидетельство ничего не доказывает. Зато нам хорошо известны тексты с описанием ежегодного праздника Плодородия, в которых тоже нет ни единого слова о человеческих жертвоприношениях. В данном случае такое умолчание приобретает силу доказательства и позволяет сделать вывод: значит, никаких жертвоприношении во время праздника Плодородия и не было.
Далее. В соответствии с этой теорией в захоронениях погребали обоих участников «свадьбы богов». Значит, мы должны были находить в каждой гробнице прах «мужчины и женщины». Но ничего похожего мы не нашли. Во всех гробницах всегда был прах только одного владельца – либо мужчины, либо женщины.
Далее. В невесты богу явно выбирали девственниц, по-видимому самых красивых и уж наверняка молодых. Но Шубад была женщиной около сорока лет.
И, наконец, последнее. Праздник Плодородия, несомненно, был ежегодным обрядом. Наше кладбище с тысячами могил, зачастую расположенных в пять-шесть слоев друг над другом, существовало на протяжении длительного времени. Однако мы обнаружили здесь только шестнадцать царских гробниц, о которых можно спорить. Неужели жители древнего Ура справляли этот важнейший обряд лишь время от времени, а большую часть лет не заботились о плодородии своих полей, полагаясь на волю случая? В это трудно поверить.
Из истории других стран можно привести немало примеров человеческих жертвоприношений над прахом владыки. Взять хотя бы погребения египетских фараонов первых династий. Кстати, по времени они относятся примерно к тому же периоду, что и гробницы Ура. Но гораздо существеннее то, что в Шумере нечто подобное человеческим жертвоприношениям существовало еще очень долго, вплоть до исторического периода третьей династии Ура! Огромные усыпальницы царей этой династии (описанные ниже) явно предназначались для массового захоронения. Так умалчивание литературных текстов опровергается свидетельством археологических данных.
Однако лишь новые находки, сделанные уже после возникновения гипотезы о жертвах праздника Плодородия, позволили подойти вплотную к разрешению этого вопроса. Грабители пощадили только две усыпальницы, где остались личные вещи царственных покойников. Во всех остальных случаях эти предметы, которые могли бы многое нам рассказать, исчезли бесследно. Поэтому особую ценность приобретают цилиндрические печати с именами.
Мы исходили из предположения, что титул Шубад «нин», т. е. «благородная женщина», считался царским титулом и означал «царица». Но вот была обнаружена печать Мес-калам-дуга, не «князя», погребенного с великой пышностью в частной гробнице, а другого Мес-калам-дуга, который называет себя «лугалом», «царем». Наконец, в третьей царской гробнице, принадлежащей А-калам-дугу, мы нашли печать с более точным титулом: «царь Ура».
Право же, трудно предположить, что А-калам-дуг передал своему временному заместителю, предназначенному в жертву богам плодородия, столь важную и столь сугубо личную вещь, как царская печать!
Итак, мы узнали несколько царских имен. В списке царей Шумера их нет, но этого и следовало ожидать. Ведь в списке царей приводятся имена только тех правителей, чья власть, по преданию, распространялась на весь Шумер, таких, например, как цари первой династии Ура. А это огромное кладбище, судя по археологической стратиграфии, существовало задолго до начала эпохи первой династии. Погребенные здесь цари властвовали не над всем Шумером, а, как свидетельствует печать А-калам-дуга, лишь над Уром. Это были местные царьки, повелители городов, вассалы неведомого государя того времени, и, естественно, их имена не попали в династический список.
Была еще одна, и гораздо более серьезная причина, по которой ученые с неохотой признавали открытые нами царские гробницы за погребения царей вместе с придворными, умиравшими вслед за своим повелителем, чтобы служить ему в загробном царстве. Дело в том, что подобное решение неизбежно влечет за собой признание у шумерийцев веры в загробный мир. А это не подтверждается ни письменными источниками, ни свидетельствами более поздних погребений.
В отношении текстов ученые правы, и в отношении более поздних погребальных обрядов тоже. Но… с одним исключением, и весьма значительным: речь идет о царских гробницах третьей династии, о которых я уже упоминал. Могу еще прибавить, что бесчисленные частные могилы нашего кладбища в равной степени как будто свидетельствуют о правоте этих ученых. Царские гробницы составляют поразительное, редчайшее исключение из общего правила. Чем объяснить такое противоречие? Может быть, все дело в представлении шумерийцев о царской власти?

Царская могила
Мы знаем, что царей третьей династии Ура обожествляли после смерти и даже при жизни. Но мы не знаем наверняка, сколь древней была эта традиция.
В списке царей говорится, что «после потопа царская власть была снова ниспослана свыше». Отсюда можно заключить, что традиция эта восходит к глубокой древности и что по сути дела царская власть считалась божественной.
Но если такие правители, как А-калам-дуг и Мес-калам-дуг, одновременно были царями и богами, то это сразу разрешает все затруднения, связанные с их гробницами.
Бог не может умереть. «Смерть» бога-царя – всего лишь переход в иной мир. Там он продолжает жить и властвовать, а поэтому он берет с собой свою свиту, свои колесницы и своих воинов. В связи с этим слово «жертвоприношение» здесь, по-видимому, теряет смысл. Я уже отмечал, что эта церемония явно была добровольной: мужчины и женщины спускались в могильный ров и в усыпальницу без всякого принуждения, выпивали приготовленное дня них зелье и спокойно погружались в сон. Характерно и то, что у них не было с собой никакой погребальной утвари, даже сосудов с питьем и пищей, обязательных для покойников в частных могилах. Участники этой церемонии не были жертвами грубого, зверского убийства и, вероятно, даже не думали о смерти. Они просто готовились служить своему царственному повелителю в условиях иного мира и, по-видимому, были уверены, что их ждет гораздо лучшая участь в потустороннем мире, чем шумерийцев, умирающих естественной смертью. В те отдаленные времена вера, считающая смерть преддверием настоящей жизни, была нередким явлением.
Мы часто склонны судить о неведомом прошлом по более известным и близким нам эпохам. Но иногда это бывает опасно. Например, тексты, излагающие представления шумерийцев о потустороннем мире, рисуют поистине ужасающую картину:
Их пища – земля, едят они глину,
Над ними безмолвно крыла простирают,
Как мыши летучие, мрачные духи.
Там пыль вековая лежит на порогах.
Однако самый древний из этих текстов относится всего лишь ко II тысячелетию до н. э. А мы знаем, что в эпоху третьей династии Ура (2100 г. до н. э.) погребальный ритуал претерпел коренные изменения, и самым главным из них было сокращение до минимума погребальной утвари. По сравнению с могилами раннединастического периода погребения даже состоятельных людей той эпохи и следующего за ней периода Ларсы кажутся просто нищенскими.
Смена обычаев отражает перемену верований. Раньше каждый человек знал, что ему нужно взять с собою все необходимое для жизни или для развлечений в потустороннем мире. В частности, один из предметов погребальной утвари неопровержимо свидетельствует о верованиях древнейших времен, которые впоследствии исчезли бесследно. Я имею в виду модели лодок, обнаруженные в двух царских гробницах и во многих частных могилах раннединастического периода, а также на кладбище Саргонидов. Как правило, это были модели из битума, и лишь в гробнице Абарги мы нашли серебряную модель. В каждой из них лежали сосуды для пищи и питья.
Были высказаны два предположения: первое, что такие модели лодок с провизией предназначали в дар злому духу, чтобы он не тревожил умершего; и второе, что они должны были служить умершему: на этой лодке ему предстояло плыть к берегам потустороннего мира. Второе предположение, на мой взгляд, более вероятно. Независимо от его истолкования этот обычай исчез. Со II тысячелетия до н. э. и вплоть до последних дней существования Ура о нем не сохранилось никаких свидетельств ни в одной из многих тысяч исследованных нами могил.
Мы имели дело с эпохой, о которой до наших расколок в Уре ничего не было известно. И судить о ней следует по результатам этих раскопок. Тогда мы придем к заключению, что усыпальницы строились специально для царей и цариц, которые умерли и были похоронены так же, как хоронили их подданных. В самом деле, в частных могилах можно обнаружить почти все предметы, соответствующие погребальной утвари царей! Так, мы нашли в обыкновенной могиле женщину в точно таком же головном уборе, какой был на «придворных дамах» из царских гробниц, а рядом с ее гробом – точно такую же лиру. Одна маленькая девочка шести-семи лет от роду была погребена в головном уборе, который по сложности не уступает убору царицы Шубад. Только здесь все значительно меньше: тонкие золотые колечки свисают на лоб, маленькие буковые листья из золота прикреплены к нитям лазуритовых и сердоликовых бусин в ее прическе. Девочка сжимала в руке золотой кубок высотою не более пяти сантиметров, а рядом с нею лежали две серебряные чаши и граненый высокий серебряный бокал – миниатюрная копия бокала из царской гробницы.
Продолжая раскопки, мы дошли до границы кладбища и здесь обнаружили множество могил, которые располагались в стороне от остальных погребений. Тут были похоронены одни мужчины, и похоронены очень бедно: в могилах лежала только самая необходимая погребальная утварь. Зачастую это была лишь одна глиняная чаша или сосуд. Но почти всегда рядом с телом мы находили оружие – бронзовый кинжал или наконечник копья. Удивительное однообразие этих погребений навело нас на мысль, что здесь было воинское кладбище. Оно отличалось еще одной особенностью. В каждой могиле лежала цилиндрическая печать, но это были особенные печати: вырезанные из белых раковин, они по своим размерам, – до четырех сантиметров длиной и до трех сантиметров в диаметре, – почти вдвое превосходят нормальные цилиндрические печати. И на всех печатях с ничтожными вариациями повторяется одно и то же изображение: героический охотник со львом, терзающим барана.
Эти изображения бесспорно символизируют победу, и я полагаю, что подобные великолепные печати играли роль военных медалей, которыми награждали воинов, отличившихся на поле боя, и свидетельствовали об их заслугах. Мне кажется, что только так и можно объяснить единообразие необычных печатей, найденных нами в могилах простых солдат.
В одном из солдатских погребений с такой же простой утварью мы обнаружили нечто странное, сразу выделившее эту могилу среди всех прочих могил огромного кладбища. Рядом с прахом мужчины здесь лежала женская статуэтка из белого известняка. Это не изображение богини. Как я уже говорил, одной из любопытных особенностей кладбища является почти полное отсутствие в его погребениях религиозных символов. Перед нами обыкновенная женщина. Она стоит прямо, сложив руки молитвенным жестом. И нельзя сказать, чтобы она была очень красива, как бы высоко мы ни ценили это единственное обнаруженное нами в Уре скульптурное изображение человека той эпохи. Тем более трудно объяснить, почему один из многих тысяч мужчин, погребенных на кладбище, не захотел с ней расстаться даже в могиле. Скорее всего у него были на то сентиментальные причины. Это самое простое и, пожалуй, самое верное объяснение.
* * *
Стараясь дать читателю общее представление о могилах и описывая некоторые обнаруженные в них сокровища, я почти не говорил о том, в каком состоянии мы находили различные предметы. Правда, для того чтобы представить все великолепие погребения Мес-калам-дуга, не требуется особого воображения, поскольку большинство предметов здесь было из золота, а золото нетленно. Золотой сосуд может быть сплющен или помят, но все равно он сохраняет свой цвет и фактуру; все детали его украшений и особенности обработки так же свежи, как если бы он был только что изготовлен.
К сожалению, другие материалы не столь долговечны. Я уже говорил о том, как портится и даже совсем распадается серебро. Ведь здесь все предметы страдают одновременно от внутренних процессов распада и от страшной тяжести девяти-двенадцатиметрового слоя земли, под которым они пролежали пять тысяч лет. Часто очень трудно, не нанеся никаких повреждений, извлечь из земли какой-нибудь ценный предмет, который важно сохранить. Иногда мы проста становились в тупик, не понимая, что это за вещь и каково ее назначение. И почти все наши находки приходилось чинить и реставрировать, прежде чем выставить их для обозрения, а такая реставрация – дело необычайно сложное и кропотливое.
В виде примера приведу одну из двух статуй «козлов-вожаков» из большой ямы с принесенными в жертву людьми. Она была изготовлена следующим образом. Голова и ноги вырезаны из дерева, лазуритовые рога и вставные глаза прикреплены медными заклепками, пропущенными сквозь голову, а деревянная основа окована тонким, как лист, золотом, положенным на слой битума. Голова и ноги приделаны к грубо обтесанному деревянному чурбану, которому затем придали округленную форму тела с помощью гипса и толстого слоя битума. Живот козла прикрывает тонкий лист серебра, а спину и бока – отдельные пряди шерсти, вырезанные по одной из белых раковин и воткнутые в битум. На плечах укреплены такие же пряди из лазурита. Деревцо перед козлом – тоже деревянное, с тонкой золотой обшивкой. После того как ствол и ветки были закончены, на них укрепили цветы и листья из двойного золота.
Мы нашли обе статуи в самом плачевном состоянии. Дерево обратилось в ничто, битум – в сухой порошок, гипс раскрошился неправильными кусками. Одна из фигур упала на бок и была совершенно расплющена, так что раковины противоположных боков соприкасались между собой. Под тяжестью земли скульптура превратилась почти в силуэт! Вторая фигура, стоявшая прямо, сохранила некоторую объемность, но была приплюснута, ноги ее отвалились от тела и тоже были смяты и скручены. Детали из раковин и лазурита держались на месте только благодаря окружающей земле. Если бы мы ее сдвинули, мы потеряли бы возможность реставрировать фигуру. Поэтому мы укрепили ее большим количеством растопленного воска, наложили на выступающие части горячие провощенные полосы муслина и, только как следует запеленав козла, словно мумию, извлекли его на поверхность.
Теперь можно было приступить к реставрации. Для этого мы сначала слегка нагрели восковые пелены на боках, развели бока в стороны и вычистили изнутри всю грязь. Затем залили и залепили фигуру изнутри воском с тряпками, а потом сияли внешние пелены. Осторожно подогревая фигуру, мы придали ей первоначальную форму, не сдвинув с места ни одной инкрустирован ной пряди козлиной шерсти, которая теперь плотно держалась на внутреннем слое воска. Нам очень помогло то, что серебряная обшивка на животе козла рассыпалась в прах, открыв сравнительно большое отверстие, обеспечившее свободный доступ внутрь тела.

Фигура «козла-вожака»
Мы выпрямили ноги и постарались тонкими инструментами по возможности выправить изнутри все вмятины. Потом в золотые трубки ног вставили медную проволоку и для прочности залили полости кипящей смесью битума с воском.
Больше всего пришлось повозиться с головой. Тонкий золотой лист оказался разорванным на восемнадцать совершенно смятых и согнутых маленьких кусочков. Каждый из них нужно было расправить, вернуть ему первоначальный изгиб, укрепить изнутри, а затем найти соседние фрагменты и соединить разрозненные обрывки вместе, руководствуясь их рельефом. Это была настоящая головоломка в трех измерениях, но постепенно голова козла приобрела свойственную ей форму и характер. Внутрь тела мы вставили мягкое дерево, прикрепив к нему проволокой ноги, закрасили живот козла серебряной краской, которая заменила распавшийся металл, и статуя была восстановлена.
Разумеется, такая реставрация не передает всех тонкостей оригинала: для этого пришлось бы разобрать всю фигуру по частям и воссоздать ее заново. Но тогда она безвозвратно утратила бы если не научную ценность, то во всяком случае тот налет времени, который столь дорог нашей душе. Восстановленный предмет будет совершенно новенькой копией древнего, но кто поручится за точность этой копии? Мы предпочитали все найденные в Уре сокровища реставрировать в минимальной степени. Конечно, восстановленный заново предмет выглядит лучше, но зато в нем неизбежно чувствуется рука нашего современника.
Приведу еще один, более наглядный пример. От самой большой из каменных царских усыпальниц, беспощадно разрушенной грабителями, уцелел только один угол последней комнаты. Мы уже не надеялись там ничего найти, как вдруг перед нами мелькнул кусочек перламутровой инкрустации, а когда рабочий щеточкой снял последний слой земли, из-под него показался угол мозаики из раковин и лазурита. Это был знаменитый «штандарт» Ура, но тогда мы просто не могли понять, что это такое. Деревянная основа полностью истлела, и все мелкие частицы инкрустации осыпались, сохранив в земле лишь свое относительное расположение. Обрушенные сверху камни раскололи и продавили некогда плоскую панель. Когда дерево истлело, частицы инкрустации провалились в образовавшееся позади пространство. Из-за своей неодинаковой толщины они легли неровным шероховатым слоем. Чтобы не сдвигать их с места, приходилось действовать с предельной осторожностью. Очистив от грязи не более шести с половиной квадратных сантиметров мозаики, мы тотчас заливали это место горячим воском и только после этого принимались за следующий квадрат. Но к воску примешивалось столько грязи, что под ним исчез рисунок мозаики. Когда ее наконец извлекли на поверхность, я понял, что мы нашли какую-то прекрасную вещь, но едва ли мог сказать, что именно она собой представляет.
Теперь было бы проще простого разобрать мозаику и перенести ее, частицу за частицей, на новую панель. Современный мастер мог бы справиться с этим не хуже древнего, но тогда панель была бы уже современным изделием.
Поэтому мы сделали следующее. Поскольку мозаика была с обеих сторон панели, мы разделили два слоя и на внутреннюю сторону каждого наклеили провощенную ткань. Затем как следует очистили лицевые поверхности. После этого положили мозаику лицевой стороной на стекло, нагрели воск и пальцами уровняли отдельные частицы инкрустации, чтобы все они соприкасались со стеклом. Теперь панель стала плоской, но мозаичный рисунок был сильно искажен: частицы инкрустации сместились, между ними набилась земля и обратившиеся в пыль битум и воск, поэтому кое-где инкрустации налезали друг на друга, а кое-где лежали с широкими просветами. Мы нагрели и сняли ткань, оставив мозаику свободно лежать на стекле, удалили всю грязь и лишний воск, а затем, нажимая пальцами с боков, сдвинули инкрустации вплотную. После этого на внутреннюю сторону мозаики снова налили воск и укрепили ее тканями.
В результате получилась мозаичная панель, может быть не такая правильная и гладкая, какой она вышла из рук шумерийского мастера, но во всяком случае подлинная, со всеми следами беспощадного времени, ибо никто не разбирал и не составлял заново рисунок, сложенный этим мастером из кусочков раковин и лазурита тысячелетия тому назад.
Мы изучали «штандарт» по мере его реставрации. На месте раскопок мы действовали по существу вслепую, и только после того как панели были очищены и начали приобретать какую-то форму, стало возможным оценить все значение нашей находки. Она состояла из двух главных прямоугольных панелей высотой 22 сантиметра и длиной 55 сантиметров и двух крайних треугольных панелей. Они были так скреплены, что большие панели были наклонены внутрь. Весь «штандарт» сидел на древке: очевидно его выносили во время процессий. Действительно, он лежал у плеча человека, который, по-видимому, был царским знаменосцем.
Мозаика складывается из белых фигурок на лазуритовом, а кое-где красном поле. Самые фигурки вырезаны силуэтами из раковин, мелкие детали на них выгравированы. На треугольных панелях изображены мифологические сценки с животными. Две большие панели посвящены одна – миру, другая – войне.
На первой из них представлен царь со своей семьей во время праздничного пира. Обнаженные до пояса, в своего рода старомодных коротких юбках из овчин, члены царского дома сидят в креслах. Около них – слуги. В углу музыкант играет на маленькой арфе, а позади певица, прижав руки к груди, поет под его аккомпанемент. Эта сценка занимает верхний ряд панели. Два нижних ряда изображают слуг царя: они несут захваченную у врага добычу и провизию для пиршества. Один гонит козла, другой тащит две рыбы, третий сгибается под тяжестью перевязанного веревками тюка и т. д. Многие фигурки повторяются.
На другой стороне «штандарта» в середине верхнего ряда стоит царь: его легко отличить благодаря высокому росту. Позади него – трое приближенных или родственников, а за ними похожий на карлика ездовой держит под уздцы двух ослов, впряженных в царскую колесницу. Сам колесничий, придерживая вожжи, идет за пустой повозкой. Перед царем воины проводят обнаженных пленников со связанными позади руками, и он решает их участь.
Во втором ряду слева направо тесным строем движется фаланга тяжеловооруженных воинов. На них точно такие же медные шлемы, какие мы находили в царских гробницах, и длинные плащи из плотного материала, очевидно войлочные, – пастухи Анатолии до сих пор ходят в подобных плащах, опираясь на длинные посохи. Перед воинами легковооруженные пехотинцы без плащей уже сражаются боевыми палицами или короткими копьями с голыми воинами противника, которые либо бегут, либо падают под их ударами.
В нижнем ряду мы видим боевые колесницы Шумера. В каждую впряжена пара ослов. На колесницах стоят по два человека: возница и воин, мечущий легкие дротики. Колчаны с четырьмя такими дротиками укреплены на передних щитах колесниц.
Художник изобразил колесницы в момент вступления в бой, придав сцене реалистическую динамичность. Ослы крайней слева колесницы идут шагом, следующие пары, по мере того как под их копыта попадают тела поверженных, начинают волноваться, постепенно ускоряют бег, и, наконец, последняя переходит в галоп, от которого едва не падают ездоки.
«Штандарт» бесспорно выдающееся произведение искусства, однако его историческая ценность еще выше, ибо это самое раннее подробное изображение той армии, которая пронесла шумерийскую культуру от древнейших поселений близ Персидского залива вплоть до гор Анатолии и до берегов Средиземного моря. Раскопки могил показали, что оружие шумерийцев и по форме и по выработке намного превосходило все, чем сражались другие народы в те времена да и позднее, по крайней мере на протяжении двух тысячелетий. По изображению на «штандарте» можно судить и об организации шумерийской армии. В ту эпоху это была всесокрушающая сила. Шумерийцы располагали колесницами, которые и через две тысячи лет наводили священный ужас на евреев библейских времен, а их боевой строй был прообразом победоносной фаланги Александра Македонского. Поэтому нет ничего удивительного в том, что шумерийцы практически не встречали сопротивления до тех пор, пока соседние народы постепенно не переняли их боевой опыт.
И еще об одном рассказало нам кладбище – о поразительном развитии архитектуры. Вход в гробницу Абарги увенчан правильной кирпичной аркой, а кровля представляла собой кирпичный круглый купол с апсидами. Точно такой же купол был и над гробницей Шубад. Другие гробницы были накрыты куполами из грубоотесанного известняка. Мы нашли один такой купол, возведенный полностью на деревянном венце, с опорами на современный лад.
В этих подземных покоях не требовалось колонн. Зато в сооружениях следующей эпохи они попадаются в изобилии, а отсюда можно заключить, что шумерийцы умели их применять и раньше, в период царского кладбища. Подводя итоги, можно сказать, что жителям Ура в начале III тысячелетия до н. э. уже были известны почти все основные элементы архитектуры.
Как я уже говорил, царское кладбище относится к последней части раннединастического периода, с которого и начинается собственно шумерийская цивилизация. Это была городская цивилизация высшего типа.
Шумерийские мастера лишь временами создавали по-настоящему реалистические произведения вроде ослика – талисмана с царской колесницы Шубад, но в основном они следовали установившимися условным образцам, совершенство которых оттачивалось из поколения в поколение. Шумерийцы обладали достаточными познаниями в металлургии и столь высоким мастерством в обработке металлических изделий, что в этом с ними вряд ли сравнится хоть один народ древности. Такое мастерство, разумеется, тоже приобреталось веками. Шумерийские купцы вели торговлю с самыми отдаленными странами; шумерийские поля отличались плодородием; шумерийская армия была превосходно организована, и почти все мужчины умели писать и читать. Во всех отношениях Шумер раннединастического периода ушел намного вперед от Египта, который в ту эпоху лишь выбирался из состояния варварства. И когда Египет действительно пробудился в дни правления Менеса, первого фараона Нильской долины, наступление новой эры ознаменовались для него освоением идей и образцов более древней и высшей цивилизации. Достигшей расцвета в низовьях Евфрата, Шумер был прародиной западной культуры, и именно у шумерийцев следует искать истоки искусства и мировоззрения египтян, вавилонян, ассирийцев, финикиян, древних евреев и, наконец, даже греков.
Наши находки на царском кладбище не только прекрасны сами по себе и чрезвычайно интересны как образцы культуры совершенно неведомого народа и совершенно неизученной эпохи. Благодаря им мы можем сегодня вписать новую главу в историю нашего современного мира.








