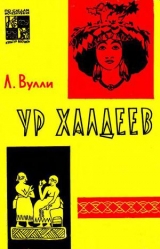
Текст книги "Ур Халдеев"
Автор книги: Чарльз Леонард Вулли
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Мы установили, что этот храм был восстановлен Набонидом, однако без каких-либо существенных изменений в плане. Всего на дюйм-два ниже его пола лежала ассирийская вымостка из кирпичей с именем Синбалатсуикби. Но помимо его имени, на этих же кирпичах был оттиснут полный текст, какой встречается лишь на глиняных конусах закладки. Мы нашли тринадцать таких кирпичей на своих местах: они были ровно уложены на тонком слое битума в углублениях под полом и стенами святилища. Надпись гласила: «Для Нингал, царицы Эгишнунгала, божественной владычицы короны, для почитаемой в городе Уре, для своей владычицы правитель Ура Синбалатсуикби отстроил заново храм любимой невесты Сина. Он изготовил статую по образу и подобию Нингал и поместил ее в храм „мудрого бога". И поселилась она в Энуне, в жилище, приготовленном для ее местопребывания».
Здесь тоже можно отметить, что работа не соответствует надписи правителя. Стены были сложены из кирпича-сырца, и кладка была настолько скверного качества, что порой кирпичи сливаются в одну массу. Они были так мягки и непрочны, что стену можно было на большую глубину проткнуть пальцем. Поэтому в большинстве случаев расположение стен мы определяли лишь по прилегавшей к ним и, к счастью, хорошо сохранившейся вымостке. Кирпичная кладка Синбалатсуикби по своему качеству стоит много ниже всего, что нам вообще встречалось в Уре. Да и опорные камни дверей все были старыми, использованными уже много раз: на некоторых сохранились даже имена царей третьей династии Ура. И если даже это объяснялось благоговением к древним святыням, то и соображения экономии тоже сыграли здесь не последнюю роль.
Пожалуй, самым интересным сооружением храма был колодец. Ассирийский правитель построил лишь его верхнюю часть, а сам колодец был заложен Урнамму и впоследствии не раз восстанавливался более поздними царями. Кирпичи Синбалатсуикби здесь не одинаковы: на них можно различить по меньшей мере восемь различных текстов, с посвящениями часовен или пьедесталов восьми разным младшим божествам. Из этого можно заключить, что боковые помещения храма Нингал служили обиталищем для младших богов, составлявших ее свиту. А поскольку колодец служил им всем одновременно, правитель постарался увековечить их имена на облицовке. Эта небольшая коллекция текстов ярко свидетельствует о том, что в одном и том же храме поклонялись разным богам. Конусы закладки Синбалатсуикби были самыми поздними. После этого периода мы их в Уре уже не находили: очевидно, старый обычай угас окончательно.

Медный фриз с фигурой быка
Эти конусы были в ходу с древнейших времен, и пользовались ими по-разному. В покатом фасаде террасы зиккурата времен царя Урнамму мы нашли множество конусов, похожих на гвозди. Они были вставлены в стену, так что стержни с надписями скрывались в кирпичной кладке, а снаружи через определенные промежутки торчали только округленные головки, образуя своего рода узор на фасаде. Впрочем, возможно, что даже их не было видно под слоем глиняной штукатурки. Позднее один из царей Ларсы выстроил на этой же террасе крепость и сторожевую башню. В ней конусы закладки не торчали в фасаде, а были уложены правильными рядами в стенах надвратной башни, за слоем облицовки из обожженного кирпича. Эти конусы гораздо больше конусов Урнамму. Вместо маленькой шляпки, как у гвоздей, у них сделаны широкие плоские глиняные диски, на которых и оттиснута повторяющаяся надпись. У ассирийских конусов вовсе нет шляпок, прятали их не в стены, а под пол. В следующий период место конусов занимают бочкообразные цилиндры, которые замуровывали в углах зданий.
Во всех случаях текст старательно прятался. Похоже, что цари думали не о том, чтобы похвастаться перед потомками, а о том, чтобы их деяния помнили сами боги: предполагалось, что боги могут видеть даже сквозь кирпичные стены. А возможно, если не с самого начала, то впоследствии, конусы закладывали и еще для одной цели. Каждый царь знал, что храм, построенный «для его жизни», не вечен и что его обветшавшие стены когда-нибудь будут восстановлены. И каждый надеялся, что, если будущий правитель найдет среди развалин свидетельство о первом основателе святилища, он отнесется к нему с уважением и, может быть, даже увековечит его имя в своей надписи, дабы почтить в своем новом храме память царя далеких лет. Очевидно, так и было в этой стране, где к традициям относились с необычайным уважением. Даже в самые поздние времена, когда Набонид восстанавливал зиккурат, он воздал должное его основателю Урнамму и его сыну. С неменьшим удовлетворением говорил он в своей надписи о том, что глубоко в основании древнего храма, который он ремонтировал, оказалась табличка закладки сына Саргона Аккадского Нарамсина, «скрытая от глаз человека три тысячи лет». Мы не можем согласиться с датировкой Набонида, которая отличается от истинной почти на тысячу лет, поскольку его прославленный предшественник жил около 2650 г. [37]37
37 По новейшим изысканиям, примерно на триста лет позже – в 2360 г. до н. э. – Ред.
[Закрыть]до н. э., однако подобный энтузиазм археолога нам вполне понятен. Мы сами находили множество разбросанных в земле конусов закладки Урнамму, но когда нам впервые довелось вытащить такой конус из глинобитной стены и когда мы увидели на его стержне надпись, сознательно скрытую от глаз человеческих более четырех тысяч лет назад, ощущение было совсем иным. Ведь даже конусы ассирийских правителей, просто спрятанные в землю под мостовой, а не воткнутые в кирпичную кладку, вызывали у нас волнение: трудно было сразу взять эти конусы, положенные здесь строителями в глубокой древности.

Общий вид раскопок
Углубляясь в развалины храма Синбалатсуикби, мы нашли еще одно свидетельство уважения или даже благоговения перед древними надписями. У самого фундамента здесь лежали четыре посвятительные таблички Куригалзу – две медные и две каменные. Должно быть, их нашли во время работ по расчистке развалин какого-то храма, который не собирались восстанавливать по старому плану или на старом месте. И хотя, теперь эти таблички потеряли всякую ценность и были совершенно бесполезны, их, тем не менее, должным образом снова погребли под святилищем. Я думаю, сделали это для того, чтобы боги не забывали о заслугах покойного царя Вавилона, чтобы память о нем пережила его погибшее сооружение.
Почтительному отношению к древним мы, возможно, обязаны и другой находкой. Под полом храма мы обнаружили каменную табличку закладки с надписью Гудеа, который был правителем Лагаша в XXII столетии до нашей эры; нашли часть стелы, посвященной богине Нингал царем Урнамму в те времена, когда он еще не успел начать победоносного восстания против своего сюзерена, а также тонко высеченную из диорита голову от маленькой статуи жреца примерно того же периода. Некогда эти вещи были частью обстановки храма. Со временем они разбивались или просто обесценивались, к их удаляли из храмовой сокровищницы. Но поступать с ними, как с обыкновенным мусором, считалось недопустимым. Поэтому мы довольно часто под храмами находим захоронения предметов, которые когда-то были почитаемы или просто играли в святилище какую-то роль.
Подобные находки – большая удача для археолога, но они же могут легко ввести его в заблуждение. Ведь прежде всего возникает мысль: если время существования храма определено правильно, значит, и найденные в нем предметы относятся к той же эпохе! Но в действительности это совсем не так. Ведь в наших соборах тоже можно найти сокровища, накопившиеся за все время существования этих зданий. Таким же складом реликвий далекого прошлого был и вавилонский храм: жрецы не любили расставаться с приношениями верующих. Поэтому, когда археолог находит груды разнообразных священных предметов, он, воздав должное благочестию жрецов, в то же время обязан помнить, что эти предметы могут быть гораздо древнее самого храма.
В одном месте под полом мы обнаружили маленькую медную статуэтку собаки. Это уже нечто совсем иное: это современный зданию амулет, положенный сюда для защиты храма. Иллюстрацией подобного обычая может служить еще одна наша находка. Среди прочих работ Синбалатсуикби перестроил древний Гигпарку или во всяком случае воздвиг свое здание на месте совершенно разрушенного Гигпарку царя Куригалзу. Как и всюду, Синбалатсуикби пользовался отвратительным кирпичом-сырцом, и стены его почти полностью развалились, так что мы сумели частично восстановить наземный план здания лишь по сохранившимся полам из обожженного кирпича. Труднее всего было определить, где кончается одна и где начинается другая комната. Но когда мы все же как-то справились с этой задачей и начали поднимать полы, мы нашли подтверждение нашим теоретическим наброскам. Вдоль каждой стены стоял ряд кирпичных коробок, расположенных прямо под полом, так как кирпичи, которыми он был вымощен, служили одновременно как бы крышками этих коробок. Каждая такая коробка сложена из трех поставленных на торец кирпичей: внутренняя, обращенная к середине комнаты сторона их оставалась открытой. Это были своего рода сторожевые будки. В них стояли фигурки, сделанные из сырой глины, облитые густой известью, а затем раскрашенные. Такие детали, как черты лица и складки одежды, нанесены черной краской с отдельными штрихами красного цвета. Фигурки сделаны чрезвычайно грубо. Они пропитались почвенными солями, расползлись и согнулись в самых причудливых позах. Некоторые оказались в таком жалком состоянии, что мы не смогли их спасти. И тем не менее они довольно любопытны.
Здесь были собаки, змеи, грифоны, люди, человеческие фигуры со львиными или бычьими головами, люди с ногами быков или рыбы с головами людей – все виды доброжелательных демонов, которые сторожат дом, избавляют от болезней и предотвращают несчастья. И перед каждым таким демоном или божком лежало несколько обугленных зерен ячменя и косточки мелких животных или птиц. В клинописных текстах упоминается об этих фигурках и о том, как их устанавливают с молитвами и магическими заклинаниями. И вот, наконец, мы впервые нашли их на месте, да еще с явными следами маленьких жертвоприношений, совершенных в момент установки «стражей» в их кирпичные «сторожевые будки» под полом.
У этих «будок» была еще одна особенность: они были сложены из плоско-выпуклых кирпичей, т. е. из древних, похожих на каравай хлеба кирпичей, вышедших из употребления более полутора тысяч лет назад. Откуда они взялись? Ведь раздобыть такие кирпичи можно было, только раскопав древние развалины города. Но для чего? По-видимому, считалось, что древность кирпичей придает им какое-то магическое свойство, которое увеличивает силу демонов-стражей.
Нам еще встретится немало примеров своеобразного увлечения археологией, особенно в последние годы владычества Вавилона, но такое увлечение всегда усиливалось подсознательной суеверной тягой к истоку всего сущего, скрытому в глубине бесчисленных столетий, к тем временам, когда люди не отличались от богов, «ко дням, когда землю населяли гиганты».
Глава IX. Навуходоносор II и последние дни Ура
В книге пророка Даниила о Навуходоносоре сказано следующее: «…он пришел в царский дворец в Вавилоне. Заговорил царь и сказал: „Не этот ли Вавилон великий построил я, не этот ли дом царский воздвиг я силой власти моей во славу своего величия?”» В данном случае слова пророка вполне оправданы. Так похвалялся царь. В 700-х годах до н. э. Вавилон намного превосходил по величине все окруженные стенами города, известные в истории. И построил его Навуходоносор. Он срыл сооружения предшественников и поставил на их месте свои гигантские здания. Поэтому современному археологу так трудно отыскать здесь, под глубоко залегающими фундаментами верхних пластов, что-либо древнее построек Навуходоносора. На площади более двадцати пяти квадратных километров буквально все здания возведены этим царем. К тому же активность Навуходоносора не ограничивалась одной столицей. В Уре он тоже предпринял обширные работы, которые должны были значительно изменить облик города.
Я полагаю, что Навуходоносор начал свои работы в Уре уже на закате жизни. Первое место, естественно, занимал Вавилон, и вряд ли царь приступил бы к благоустройству провинциальных городов, если бы не добился заметных успехов в столице. А для реконструкции Вавилона потребовалось немало времени; многие согласятся с тем, что сорокатрехлетнее царствование Навуходоносора было не слишком длительным сроком для завершения этой гигантской работы. Несомненно одно: кратковременное правление трех преемников Навуходоносора вообще не оставило в Уре следов, а когда всего шесть лет спустя после смерти Навуходоносора трон перешел к Набониду, в городе оставалось еще множество незавершенных работ. Если бы Навуходоносор успел осуществить свой план реконструкции, картина была бы иной.
Мы знаем, что Набонид зачастую лишь достраивал то, что начал строить Навуходоносор. Отличить, какая часть здания построена одним царем, а какая – другим, не всегда легко, а иногда и невозможно. Впрочем, это не имеет большого значения. Гораздо важнее другое: узнать, как выглядел Ур в VI в. до н. э., когда работы, предпринятые обоими царями, были уже завершены.
Наша задача сильно осложняется тем, что Навуходоносор был индивидуалистом и новатором: об этом можно судить хотя бы по полной перестройке всего Вавилона. Даже в вопросах религии он, как мы увидим ниже, всегда старался идти своим, особым путем. А Набонид, наоборот, был приверженцем древних традиций и старины. Он гордился тем, что сумел восстановить тот или иной старый храм в точном соответствии с первоначальным планом, как он сам говорил: «не изменив ничего даже на толщину пальца». Естественно, Набонид относился с неодобрением к трудам своего предшественника и в отдельных случаях мог даже исправлять его сооружения, если они отступали от ортодоксальных образцов. Так, например, Навуходоносор похвалялся, что на зиккурате он построил «…Эгишнунгал, храм Сина (Нанна) в Уре». Здесь речь шла о центральном сооружении священного квартала. Кроме того, как мы знаем, он перестроил большой двор и, может быть впервые, воздвиг два святилища в углах, образуемых тремя большими лестницами, ведущими на зиккурат. Совершенно очевидно, что какие-то работы он вел и на самом зиккурате, но здесь не сохранилось ни одного его кирпича. Возможно, хотя и маловероятно, что Навуходоносор оставил реконструкцию зиккурата напоследок и не успел ее осуществить. Гораздо вероятнее другое: он завершил или начал здесь перестройку, однако Набониду она показалась неправильной, и он приказал все убрать. Изучение развалин зиккурата убедило меня в том, что Навуходоносор не собирался просто восстанавливать древний оригинал времен Урнамму, – это было бы не в его характере, – но что именно хотел он здесь воздвигнуть, мы не знаем, – следов не осталось. Зато сам зиккурат нововавилонского периода сохранился хорошо, и мы можем описать его со всеми подробностями.
Набонид нашел нижнюю ступень древней башни в отличном состоянии. Даже сегодня, спустя еще две с половиной тысячи лет, стены Урнамму, сложенные из обожженного кирпича на битумном растворе, противостоят разрушительной работе времени. Поэтому вавилонскому царю нужно было только облицевать ступени трех лестниц, починить их откосы и снова поставить на стыке лестниц надвратную башню с куполом. Но выше первой ступени лежали одни развалины. Независимо от того, убрал Набонид следы работ Навуходоносора и прочих более ранних строителей, таких, например, как Синбалатсуикби, или нет, здесь ему пришлось отказаться от своего излюбленного метода реставрации с точностью «до толщины пальца», ибо здесь реставрировать было нечего. Правда, нам удалось путем тщательных раскопок восстановить план и облик зиккурата третьей династии, но ведь древний царь не располагал методами современной науки, да и времени у него было мало. Набонид просто начал раскапывать угол нижней платформы: мы нашли это отверстие, тщательно заложенное потом кирпичами самого Набонида. Здесь в кирпичной кладке, как он сам об этом с восторгом рассказывает, царь обнаружил табличку, сообщающую, что постройка башни была начата Урнамму и завершена его сыном Шульги. Однако никаких указаний на то, как выглядела эта башня, Набонид не нашел. Единственное, что ему оставалось, это сохранить и использовать нижнюю ступень как основание для зиккурата собственной конструкции. Так он и сделал. Но в течение столетий даже форма зиккуратов подвергалась изменениям. Набонид этого не учел и построил здание, совершенно не похожее на древний храм, который он хотел восстановить. Нововавилонский зиккурат вместо трех этажей имел семь. С фасада он был необычайно эффектен. Три лестницы вели снизу к квадратной башне с круглым куполом, стоявшей на нижней ступени. На этой ступени громоздилось еще шесть уменьшающихся этажей, соединенных как бы спиральной лестницей, обегавшей башню кругами. Лестница обрывалась на верхней площадке, где стоял храм Нанна – небольшое квадратное сооружение из ярко-синего глазурованного кирпича, увенчанное золотым куполом. Этот облик зиккурата довольно точно соответствует описанию вавилонской башни, которое дает греческий историк Геродот. Поэтому вполне возможно, что зиккурат Ура, как и зиккурат Вавилона, тоже был ярко раскрашен, – каждый этаж в свой цвет, соответствующий цветам планет. Нижняя ступень наверняка была черной, – на ней сохранились остатки битумного покрытия, – а на самой вершине были разбросаны глазурованные кирпичи святилища Нанна.
Впрочем, в некоторых отношениях внешний вид зиккурата был обманчив. Например, лестница не могла подниматься вокруг всей башни беспрерывной спиралью: кирпич и раствор не выдержали бы такой нагрузки. Поэтому в действительности пролеты лестниц располагались лишь по фасаду здания. Несмотря на страшные разрушения, от зиккурата царя Набонида сохранилось достаточно деталей, чтобы по ним восстановить его конструкцию. Когда поднимаешься по одной из трех больших лестниц и проходишь через квадратную башню на первую террасу, чуть правее видишь узкий пролет кирпичных ступенек, которые ведут вверх по фасаду стены на вторую террасу. Ступеньки доходят только до угла второго этажа. Дальше вокруг всей башни по второму этажу тянется горизонтальный проход середины фасада, где находилась неглубокая ниша, судя по описанию Геродота, подобная нише, имевшейся на Вавилонской башне. Здесь нужно повернуть налево и подняться по второму небольшому лестничному пролету, который на сей раз идет по стене фасада до середины налево. На третьем этаже такой же горизонтальный проход вокруг всей башни приводит опять к середине фасада, а оттуда третий лестничный пролет идет вверх направо на горизонтальный проход четвертого этажа, и т. д.
Общая высота «Горы бога», на вершине которой стоял храм Нанна, превышала пятьдесят три метра. Мы нашли только мощенную кирпичом нижнюю террасу. Судя по мостовой, Набонид выровнял всю платформу, уничтожив ступенчатую конструкцию первого этажа Урнамму, так что по краям платформы пол нововавилонского периода лежал почти на три метра выше древнего пола. Второй этаж соответствовал виду древнего сооружения, но здесь на его фасаде справа мы обнаружили первую маленькую лестницу с уцелевшими ступеньками. Стена левой половины фасада почему-то выступала вперед как раз до уровня этой лестницы. Это нас удивило. Стена и подпорная стенка лестницы были украшены плоскими контрфорсами, такими же, как на нижней платформе Урнамму. Дальше второго этажа ничего не сохранилось.
Мы долго бились над реконструкцией этого сооружения и лишь со временем поняли, что, если представить себе третий этаж точно таким же, как второй, но с обратным ходом лестницы, – от середины фасада налево, – а четвертый с такой же лестницей справа, как на втором этаже, и так далее до седьмого, – все встанет на свои места. Такая реконструкция не только соответствует уцелевшему наземному плану, но и дает нам облик строго симметричного здания значительной высоты, очень похожего на описанную Геродотом Вавилонскую башню того же периода. Здесь не может быть простого совпадения. Я думаю, мы можем с уверенностью говорить о том, что воздвигнутый Набонидом «зиккурат Эгишнунгала, который царь обновил и восстановил на прежнем месте», был именно таким.

Реконструкция зиккурата Набонида
Основным сооружением Навуходоносора в Уре была стена теменоса. Стена вокруг теменоса существовала и при третьей династии, но она давно обветшала. Мы нигде не могли найти на ней даже следов восстановительных работ последующих царей.
Кроме того, до Навуходоносора, насколько нам известно, священный квартал бога луны, состоявший из скопления всевозможных религиозных сооружений, хотя и должен был по идее представлять собой нечто единое, в действительности не имел даже четких границ. В одном месте стены храма сливались в сплошную линию, в другом – здания стояли разбросанно, а кое-где постройки теменоса незаметно переходили в городские кварталы. Навуходоносор положил всему этому конец. Он наметил грубый прямоугольник длиной примерно триста шестьдесят шесть метров при ширине сто восемьдесят три метра, охвативший все основные здания бога Нанна, и обнес его стеной из кирпича-сырца. Это была двойная стена с междустенными помещениями. Плоские кровли междустенных помещений образовали по гребню стены широкий проход, удобный для маневрирования обороняющихся. Стена имела до десяти метров в толщину и, очевидно, до девяти метров в высоту. Фасад ее украшали двойные вертикальные ниши, характерные для внешних стен храмов. На теменос вели шесть укрепленных ворот. Главные ворота с высокой башней в глубине открывали путь прямо к воротам большого двора перед зиккуратом.
Большая стена теменоса частично сохранилась и кое-где возвышается метра на два, а то и больше. Но в отдельных местах, особенно на возвышенностях, где она ничем не была защищена, трудно отыскать даже ее следы. Мы не стали откапывать всю стену, – это не принесло бы ничего нового и только ускорило бы разрушение дождем и ветром кладки из кирпича-сырца. Тщательно исследовав некоторые участки, мы на всем остальном протяжении стены лишь наметили ее план узкими траншеями, доходившими только до верхних рядов кирпичей. Таким способом нам удалось определить границы теменоса всего за восемь дней. Кое-где неожиданные изменения в направлении стены ставили нас в тупик. В самом деле, чем можно их объяснить? Местами, там, где задняя часть храма выдавалась за линию стены, ее безжалостно разрушали, и стена теменоса становилась задней стеной здания. А на некоторых участках линия стены изгибается, словно для того, чтобы охватить какое-то важное и почитаемое святилище. Но поскольку выветривание почвы зачастую не оставило никаких следов от этих святилищ, такое предположение остается неподтвержденным. Возможно, причина отклонений стены была гораздо проще. Исследования показали, что стену строили различные группы рабочих и у каждой такой группы был свой участок. Между ними не было надлежащей согласованности, поэтому основание стены на стыках участков не всегда совпадало, и линия получалась неровной. Вполне вероятно, что неправильные выступы стены объясняются несовершенством методов постройки древних мастеров-каменщиков.
Тем не менее стена теменоса была внушительным сооружением. С ее постройкой священный квартал приобрел совсем иной облик: он стал гораздо обособленнее, чем в недалеком прошлом. Однако, если говорить о боге луны, то он вовсе не нуждался в такой нелепой, дорогостоящей ограде, как это чудовищное кирпичное сооружение. Стена теменоса прежде всего была крепостной стеной. И в самом деле, в ее восточном углу стояло необычайно массивное квадратное строение, которое могло быть только крепостной башней и вряд ли подходило для каких-либо религиозных целей. Окружай священный квартал Нанна оборонительными сооружениями, как дворец земного царя, Навуходоносор тем самым возрождал древнее представление о боге – правителе города и военачальнике, дом которого служил последним опорным пунктом против врагов. Такое нововведение любопытнейшим образом переплетается со своеобразным уважением к старым традициям.
Как я уже говорил, Навуходоносор перестроил большой двор Нанна. Он почти в точности восстановил план построек Синбалатсуикби, который вел здесь работы, но одновременно применил одно важное новшество. Двор всегда был расположен довольно низко, так что с него приходилось подниматься на террасу зиккурата по лестнице в юго-западных воротах. Навуходоносор поднял уровень двора, и большой двор стал как бы продолжением террасы Этеменигура, хотя прежде он был ниже ее. Когда мы начали здесь раскопки, нас удивил и сначала поставил в тупик толстый слой почвы с массой черепков расписной посуды эль-обейдского периода, почему-то оказавшийся между мостовыми Навуходоносора и Синбалатсуикби. Обычно строители поднимали уровень полов в зданиях тогда, когда старый пол оказывался погребенным под накопившимся с годами мусором. В таких случаях чаще всего верхушки обветшавших стен обрушивали внутрь, утрамбовывали обломки и на них настилали новую мостовую. Но откуда здесь взялись черепки Эль-Обейда? Они не могли попасть сюда с мусором и не могли упасть сверху. Остается единственное предположение: Навуходоносор поднял уровень большого двора не в силу необходимости, а намеренно, и грунт для этого был завезен сюда специально. Но мы знаем по собственному печальному опыту, что докопаться до пластов, богатых черепками эль-обейдского периода, чрезвычайно трудно. Навуходоносор мог бы найти любой другой грунт для засыпки двора с гораздо большей легкостью. И тем не менее… Ради чего же он старался добыть именно эту древнюю почву? Ответ на этот вопрос дают все те же «сторожевые будки» под полом, в которых устанавливали демонов – стражей дома: считалось, что лучше всего эти будки делать из древних кирпичей. Так и здесь, по-видимому, полагали, что земля с расписными черепками времен основания Ура должна освятить двор Нанна, который с незапамятных дней был хозяином и богом-покровителем города.
Таким образом, в данном случае Навуходоносор проявил благоговейный консерватизм. Зато во всех других он был настоящим новатором. В этом можно убедиться хотя бы на ярком примере реконструкции древнего храма Энунмах. Случайно храм Энунмах стал первым зданием, которое мы откопали в Уре. Низкий холмик у подножия зиккурата выглядел весьма обещающе, и он нас не обманул. Первая же траншея, прорытая в его склоне, обнажила стену из обожженного кирпича, замыкающего мощеные комнаты. Это оказалось небольшое квадратное здание из пяти помещений. Против входа у задней стены вестибюля был кирпичный пьедестал для статуй. Четыре двери, – две в задней стене и по одной в боковых, – вели отсюда к комнатам в глубине здания. Две внутренние комнаты были совершенно одинаковыми: в каждой у двери стояла скамья, и каждую делила пополам перегородка. В дальней половине комнат у стены стояли алтари, а против них – кирпичные столы. Очевидно, здесь были святилища, в которых совершались религиозные обряды. Такими же одинаковыми выглядели и две внешние комнаты, но никаких признаков, по которым можно было бы определить их назначение, здесь не оказалось. Такое двойное устройство храма разъяснили нам надписи на кирпичах: это было общее святилище Нанна и его супруги Нингал, в котором каждое божество имело свой алтарь.
Перед зданием расстилался мощенный кирпичом двор, наполовину огороженный двумя крыльями стен из кирпича-сырца, пристроенными к ранее существовавшему квадратному зданию храма. Прямо перед входом стоял продолговатый кирпичный алтарь для приношений. Сбоку от него сохранились остатки второго, большего по размерам алтаря с закрытым стоком, который пересекал дорогу входящим в храм. Он явно предназначался для кровавых жертвоприношений. Жертву закалывали на алтаре, а ее кровь текла перед порогом святилища и, таким образом, доходила до бога, так же как и остальные приношения, которые возлагали на центральный алтарь.
На линии, соединяющей края стен из кирпича-сырца, мостовая опускалась на одну ступеньку, и дальше простирался широкий открытый двор. На кирпичах мостовой нет именных штампов, однако, судя по размерам и форме, это персидские кирпичи самых последних лет существования Ура. Так как соседние ворота в стене теменоса были восстановлены Киром [38]38
38 Персидский царь, правивший с 558 по 629 г. до н. э. – Ред.
[Закрыть], можно предположить, что он же реконструировал и этот храм. Любопытно отметить, как точно совпадают его расположение и отдельные детали внутреннего устройства с расположением и устройством большого храма в Вавилоне персидского периода, описанного Геродотом. Но дальнейшие открытия оказались еще интереснее. Было совершенно очевидно, что, хотя полы и вымощены персидскими кирпичами, стены самого храма значительно старше. На внешнем дворе сквозь дыры в новой мостовой виднелся старый пол. Такой же двойной пол, наверное, был и в комнатах. Чтобы проверить это, я распорядился вынуть в одном из святилищ двенадцать кирпичей и копать под ними вглубь.
В то время наши арабы-землекопы были еще неопытны, и мы все время твердили им, чтобы они ни в коем случае не трогали с места ни одного кирпича. Поэтому, получив мой приказ, они сначала никак не могли понять подобного святотатства, а потом вдруг решили, что мы ищем здесь спрятанное золото. Как ни пытался я их убедить, что нас интересует всего лишь второй мощенный кирпичом пол, мне это не удалось. Наладив работу, я вышел из здания, но через несколько минут один из арабов прибежал за мной. «Мы нашли золото!» – кричал он. И действительно, сразу же под плитами вымостки оказался настоящий клад золотых бусин, серег и подвесок, а также золотая булавка с маленькой женской фигуркой в длинном одеянии. Очевидно, кто-то в момент опасности спрятал здесь часть храмовых сокровищ, по-видимому украшения богини, а потом так и не смог воспользоваться этим тайником.
В то время мы по своей неопытности не смогли оценить одну любопытную особенность обнаруженного клада. Лишь позднее нам стало ясно, что он состоял из предметов разных эпох. Некоторые были изделиями нововавилонского или персидского периода, но часть весьма характерных бусин по своему типу восходит к отдаленному времени царствования Саргона Аккадского. Это говорит о том, что драгоценные предметы могли храниться в сокровищницах храмов сотни и даже тысячи лет.
Наша находка была столь же интересной, как и неожиданной. В первые дни раскопок она помогла нам завоевать известную репутацию, но больше мы не нашли ничего ни в одной из комнат храма. Такое совпадение окончательно убедило наших рабочих в том, что мы знали о существовании клада. В самом деле, почему я приказал им поднять именно эти двенадцать кирпичей?








