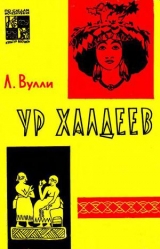
Текст книги "Ур Халдеев"
Автор книги: Чарльз Леонард Вулли
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Характерным примером жилища средней величины может служить один из домов по улице, условно названный нами «Веселой». В тех случаях, когда его расположение будет недостаточно типично или ясно, я позволю себе уточнять детали по раскопкам других домов. В своем описании я также опираюсь на «Тексты домашних предзнаменований», в которых в форме суеверных изречений излагаются некоторые правила строительства, с которыми зодчим Шумера приходилось обязательно считаться.
Входная дверь была узкой и незаметной («если дверь дома будет слишком широкой, этот дом разрушат»). Открывалась она внутрь («если дверь дома открывается наружу, жена в этом доме будет проклятием для своего мужа»). За дверью шла маленькая, мощенная кирпичом прихожая. В углу ее находился водосток и стоял сосуд с водой, чтобы каждый входящий в дом мог омыть здесь ноги. Вторая дверь, ведущая непосредственно в дом, прорезалась в боковой стене, так что с улицы внутрь дома нельзя было заглянуть. Все, кто заходил в прихожую, должны были предупреждать о себе хозяев, чтобы женское население могло скромно удалиться.
На косяках второй двери висели терракотовые маски бога Пузузу – амулеты против несущего лихорадку юго-западного ветра. Ступеньки в дверном проходе вели вниз, на центральный двор («если двор лежит выше дома, хозяйка будет выше хозяина»). Двор был вымощен кирпичами с небольшим наклоном к середине, где находилось отверстие водостока («если вода собирается к середине двора, человек соберет большие богатства»). Вокруг двора располагались выходящие в него комнаты первого этажа. Назначение их можно определить.
Во внутренней стене двора, параллельной фасаду дома, прорезана одна широкая дверь, которая ведет в приемную комнату для посетителей. Такие комнаты всегда узки и растянуты, причем вход в них прорезан в длинной стене, как в современном арабском Ливане в комнатах для гостей. Днем у задней стены здесь раскатывали ковер, чтобы гости могли сидеть. Ширина его была такой, что поперек него укладывали в ряд матрацы и гостям здесь удобно было провести ночь. В более богатых домах, например в одном из домов по «Прямой улице», к такой комнате примыкает мощенная кирпичом уборная с водостоком, умывальник для гостей и баня, а в другом углу находится чулан, по-видимому для хранения спальных принадлежностей. Напротив комнаты для гостей в стене, выходящей во двор, прорезаны две двери. Одна ведет в умывальную, узкую комнату с мощеным полом, в котором, как в современных арабских домах, проделано сточное отверстие. Вторая дверь ведет на лестницу. Лестница проходит над умывальной. Первые ступени сложены из кирпича и начинаются уже в дверном проходе. Чтобы не снижать потолок умывальной, лестница должна подниматься на достаточную высоту еще до поворота. Для этого ее нижняя ступенька расположена так высоко, что к ней приходится приставлять еще дополнительную деревянную ступеньку. Точно такая же система принята в современных домах и служит вполне удовлетворительно. Из остальных комнат первого этажа этого дома одна комната служила кухней. В ней сохранились два очага и вмазанные в глинобитный пол ручные жернова. В другой комнате мы нашли у стены низкие кирпичные скамьи или нары. Здесь была спальня для рабов. В третьей комнате оказались ручные мельницы и сосуды для хранения разных вещей: очевидно, это была общая комната для всевозможных домашних работ. Совершенно ясно, что весь нижний этаж был отведен для хозяйственных нужд и для гостей. Семья хозяев жила на втором этаже. Заключение это застало нас врасплох.
Насколько нам известно, поздневавилонские дома были одноэтажными. То же самое относится и к домам Саргонидов, исследованным в Тель-Асмаре экспедицией Чикагского института востоковедения. Кто же мог предполагать, что большинство домов Ура периода Ларсы окажутся двухэтажными? Правда, наличие лестниц само по себе еще не было решающим доказательством. Эти лестницы могли вести, например, на плоскую крышу, где обитатели домов сидели и спали в хорошую погоду. Именно так, без сомнения, использовались плоские крыши нововавилонских домов. Однако взбирались на них не по кирпичным ступеням, а по деревянным приставным лестницам, как это часто делается сейчас. А в Уре наверх вели массивные ступени, занимавшие площадь целой комнаты. При крайней тесноте нижнего этажа вряд ли кто-либо стал бы строить такой солидный проход на крышу! Единственным оправданием могло служить лишь то, что эта лестница вела на второй этаж, где располагались не менее важные комнаты дома, чем на первом. Толщина стен вполне достаточна, чтобы выдержать тяжесть стен верхнего этажа, однако, поскольку потолок вряд ли обладал такой же прочностью, план второго этажа должен был в точности воспроизводить план нижнего помещения. Внизу комнаты были проходными, но в них можно было войти через двор. Наверху места для коридоров не оставалось, а делать все комнаты смежными и проходными было неудобно. Кроме того, тексты прорицаний гласили: «Если дверь комнаты выходит на двор, дом этот расширится; если же дверь комнаты выходит в другую комнату, дом этот будет снесен». Значит, комнаты сообщались между собой как-то иначе.
Сравнение древних домов Ура с жилищами современных арабских городов до сих пор вполне оправдывалось. Поэтому, я думаю, мы можем и здесь положиться на полную аналогию. В современных домах лестница ведет на деревянную опоясывающую двор галерею, на которую выходят двери всех комнат второго этажа. Может быть, дома периода Ларсы были устроены точно таким же образом? В одном из домов по «Веселой улице» мы нашли в южном углу центрального двора один кирпич, тщательно укрепленный на мощеном полу крепким глиняным раствором. Вокруг кирпича лежали остатки обуглившегося дерева. По всей видимости, кирпич служил основанием для столба, который оказался слишком короток. Мы попробовали восстановить столбы на соответствующих местах по всем углам и убедились, что они были расставлены с таким расчетом, чтобы не заслонять двери. В то же время на них вполне могла опираться галерея шириной около метра, т. е. такая, как мы и предполагали. А что касается слишком короткого столба, поставленного на кирпич, то подобных аналогий в современных домах можно найти сколько угодно. Возможно, я слишком увлекся подробностями, пытаясь показать, на чем зиждется наша реконструкция. Но именно так и приходится обосновывать каждую мелочь. В конечном счете нам удалось установить, что крыша была не плоской, а слегка наклонной внутрь. Она выступала за стены как раз настолько, чтобы прикрывать галерею. По ее внутреннему краю шел изогнутый наружу карниз, прорезанный кое-где выступающими водосливами, по которым дождевая вода стекала на середину двора. Над двором оставалось открытое пространство, вполне достаточное для его освещения и вентиляции.
Случайная находка позволила нам обнаружить новую архитектурную подробность: над одним из дверных проходов стояла арка из обожженного кирпича; она так и провалилась в проход почти целиком. Нас долго смущали грубые кирпичные резервуары, которые мы находили в углу двора во многих домах. Наконец, в одном из таких «карманов» мы обнаружили осколки большого глиняного сосуда, и нам все стало ясно: здесь в сосудах из пористой глины охлаждалась вода, принесенная из общественного водоема. И совсем уже современный характер носят цветочные горшки, вмурованные с помощью глины в мостовую одного двора вокруг центрального водостока. Мы можем составить чрезвычайно подробное представление о частном доме, но это касается только его устройства. Никакой меблировки здесь, разумеется, не осталось. Но, должно быть, это была очень простая утварь. На печатях сохранились изображения складных или плетеных сундуков для хранения одежды, и это все. Полы устилали разноцветные коврики, на которых было разбросано множество подушек. Для ночного освещения служили похожие на маленькие соусницы масляные светильники с тоненькими фитильками.
Улицы, конечно, были узкими и грязными, с однообразными глухими фасадами, но стоило переступить порог дома, как картина сразу менялась. Дом, который мы описали, с мощеным двором и выбеленными стенами («если штукатурка выкрашена в белый цвет, это приносит счастье», но «если внутри штукатурка обваливается, дому сему грозит гибель!») – такой дом с собственной дренажной системой и дюжиной или более удобно расположенных комнат свидетельствует о достаточно высоком уровне жизни. И это были жилища не каких-нибудь выдающихся богачей, а, судя по найденным в них табличкам, дома средних горожан, лавочников, мелких торговцев, писцов. В отдельных случаях мы можем ясно представить себе их судьбу и даже их личные вкусы.
На «Широкой улице» стоял дом № 1, принадлежавший некоему Игмилсину, писцу или жрецу. Он больше обычных домов. Сначала нас поразило множество отклонений от типичного плана. Выходившие на двор двери нижних комнат оказались замурованными, так что основные жилые помещения были изолированы от двора, умывальной и комнаты для гостей. Сюда можно было проникнуть лишь через дверь в южной части, единственную дверь, соединявшую обе половины дома. Зато в северной стене двора был прорезан новый выход на улицу. Все разъяснили таблички: мы нашли их здесь около двух тысяч! Игмилсин был учителем школы для мальчиков; в соответствии с этим он и перестроил свой дом. На дворе и в комнате для гостей были классы, а остальные помещения предназначались для домашних нужд. Несколько сотен табличек представляют собой типичные «школьные упражнения», плоские круглые таблички служили для чистовых копий и т. д. На многих табличках записаны религиозные тексты, которые либо использовали для диктовки, либо заучивали наизусть. Здесь же были исторические тексты, математические таблички и таблицы умножения. Все это относилось к школе. Ряд деловых табличек, по-видимому, связанных с хозяйством храма, уточняет общественное положение учителя.
В доме № 1 по «Старой улице» внутренняя перестройка была вызвана совсем иными причинами. Этот дом соединяется с собственно «Старой улицей» длинным и узким проходом. Здание – очень старое: его фундамент уходит на большую глубину, и первоначально оно было довольно обширным. Однако к концу периода Ларсы двери в юго-восточной стене центрального двора замуровали, а изолированные таким образом комнаты присоединили к соседнему дому № 7, выходящему на «Церковную улицу». И здесь снова нам помогли таблички. В царствование Римсина из Ларсы этот дом принадлежал некоему Эаназиру, крупному торговцу медными изделиями, имевшему своих агентов в разных городах. Судя по его личному архиву, он занимался одновременно всевозможными побочными операциями: спекулировал домами и садами, давал деньги в рост и даже как-то завел торговлю поношенной одеждой. Все эти делишки он, по-видимому, финансировал за счет своей основной торговли; его агент из другого города жалуется в письме, что трижды писал хозяину, но не получал ответа. Нет ничего удивительного, что в какой-то момент Эаназир вынужден был уменьшить свой участок и продать часть дома соседу. Подобные изменения были обычным явлением. Естественно, они влекли за собой перестройки, изменявшие первоначальный план зданий. Так, например, дом № 7 по «Церковной улице» дважды расширялся за счет соседей и в результате приобрел самую причудливую форму. Превосходный дом № 1 по «Бульвару пекарей» был полностью перестроен под мастерскую: большинство комнат здесь занимали горны. Судя по миниатюрным моделям инструментов, найденным в могиле хозяина дома, он владел кузницей.
Дом № 14 по «улице Патерностер» был разделен на части. Комнаты по юго-восточной стороне от его двора вошли в рыночную часовню, которая впоследствии была переделана в харчевню. Для этого на улицу прорубили широкое окно, а сразу за ним поставили внутри кирпичный прилавок для приготовленных блюд. Одна из комнат превратилась в кухню: большую ее часть занял массивный кирпичный помост с углублениями для маленьких очагов, на которых готовилась еда. Рядом стояла круглая печь для лепешек. В целом все это весьма напоминает харчевни современных восточных базаров.
В доме № 3 по «Лабазной улице», принадлежавшем торговцу зерном, нас поразили большие кирпичные закрома под полами большинства комнат. Его оштукатуренные стены уходили вниз на глубину до двух метров. Мы удивлялись до тех пор, пока не увидели прилипшее к штукатурке зерно.
Изредка дома резко отклоняются от обычного типа. Дом № 11 по «улице Патерностер» вряд ли можно отнести к числу таких домов, потому что, по всей вероятности, это было не частное жилище, а скорее «хан» – гостиница или постоялый двор. В некоторых нижних комнатах, очевидно, размещались стойла. Часть комнат занимал сам хозяин с семьей, а остальные предназначались для постояльцев. Стены этого дома необычайно толсты: возникает предположение, что гостиница была трехэтажной. Зато дом № 15 по «Церковной улице» имел всего один этаж: здесь нет лестницы. Владелец его, некий Ибкуадад, по-видимому, вел дела с Варадсином, сыном Ламатумзы, проживавшим в доме № 3 по «улице Ниш», а также с неким Аттой, который, возможно, был отцом Нуратума, хозяина большого и богатого дома № 1 на «Лабазной улице». Интересно отметить, что другой, маленький и, очевидно, тоже одноэтажный домишко № 1 по «улице Ниш», самый скверный и бедный во всем квартале, принадлежал профессиональному ростовщику.
Во время раскопок квартала у нас сложилось довольно твердое убеждение, что во времена Римсина эта часть Ура находилась в состоянии упадка, в результате которого лучшие дома делились или переделывались под нежилые помещения. Мы не знаем, до какой степени упадок затронул другие районы города, но, по-видимому, быстро возрастающая под властью Хаммураппи мощь Вавилона сократила торговлю и подорвала благосостояние Ура. О все усиливавшемся нажиме с севера свидетельствует одна любопытная находка: в доме № 1 по «Бульвару пекарей» у кузнеца Шунингиззиды оказалась шумеро-семитская грамматика! Очевидно, некоторые свои дела ему приходилось вести уже на семитском языке.
Упадок торговли, вызванный возвышением Вавилона, наверняка определил до какой-то степени роль Ура в восстании против сына Хаммураппи. Возможно, Ур возглавлял его. В отместку за это новый царь безжалостно разрушил все дома периода Ларсы.
До сих пор я говорил только о жилых помещениях домов периода Ларсы. Но в них была еще одна и, пожалуй, самая интересная часть. С глубокой древности и вплоть до царствования Саргонидов шумерийцы, как нам известно, обычно хоронили своих мертвецов на постоянных общих кладбищах. Но в период Ларсы покойников хоронили в их домах. Этот обычай возник, вероятно, еще в дни правления третьей династии Ура. Большие мавзолеи царей этой династии уже имели облик частных домов, построенных над могильными склепами. А ко времени царей Ларсы такой обычай стал общим правилом.
Мертвецов хоронили на узком и длинном мощеном дворе позади задней стены комнаты для гостей [33]33
33 В одном из домов по «Веселой улице» нами были обнаружены полностью разрушенные задняя стена комнаты для гостей и погребальный двор за нею.
[Закрыть]. Две трети двора лежали под открытым небом, но одна сторона его была защищена выступающей крышей дома. Под навесом кирпичи вымостки лежали на несколько дюймов выше, чем на открытой части. Открытая часть и была кладбищем, а под навесом располагалась домашняя часовня.
Если приподнять кирпичи вымостки в дальнем от часовни конце двора и начать копать, то вскоре покажется вход в кирпичный сводчатый склеп, крыша которого находится всего около полуметра ниже мостовой. Вход грубо замурован кирпичами. Перед ним стоят два-три глиняных сосуда для пищи и питья. Внутри склепа может лежать десять-двенадцать скелетов. Это семейная усыпальница, которую открывали каждый раз, когда умирал взрослый член семьи. Тогда кости его предшественника довольно бесцеремонно отодвигали в угол, а покойника укладывали на середину. При следующем погребении с его скелетом поступали точно так же. Довольно часто мы находим у стен склепов один или несколько глиняных гробов с единственным телом. Я думаю, так хоронили шумерийцев, если двое родственников умирали через короткие промежутки времени, когда открывать склеп для второго трупа было нежелательно. Для детей, – а детская смертность в те времена была очень высока, – склеп никогда не вскрывали. Маленькие трупики просто укладывали в глиняные сосуды и хоронили под вымосткой двора напротив или даже под домашней часовней.
Устройство часовен всегда одинаково. К задней стене дома пристроена низкая кирпичная скамья. На ней мы иногда находили сохранившиеся на месте чаши и маленькие блюда для приношений. Над скамьей в стене сделано квадратное углубление, похожее на камин с открытым дымоходом, который поднимается вверх по стене, но не доходит до крыши: это очаг для сжигания благовоний. Открытый дымоход – вертикальная щель в стене – сделан для тяги воздуха, и в то же время он направлял благоуханные курения к верху часовни. В углу часовни стоит кирпичный алтарь, чаще из кирпича-сырца. Штукатурка его искусно выделана под панель. В одном случае мы нашли в мостовой перед алтарем укрепленные битумом гнезда для горизонтальных стержней. Стержни должны были располагаться у самого пола. Единственное объяснение, какое мы могли придумать, заключается в том, что к этим стержням крепилась нижняя часть занавеса, которым задергивали алтарь между богослужениями. Иногда в другом углу часовни прорезали дверь в небольшой чулан, который мог служить как бы «ризницей», но, очевидно, чаще здесь помещался семейный архив: мы находили в таких закутках множество табличек.
В часовнях, как и в самих домах, обычно были небольшие терракотовые статуэтки и рельефы богов или посвятителей. В одном из домов мы нашли верхнюю часть необычно большой статуи бородатого бога, на которой сохранились еще следы первоначальной раскраски. Некоторые такие статуэтки, наверняка, были связаны с богослужением в часовнях. Они должны были представлять семейных или личных богов – покровителей хозяина дома, тех самых «терафимов», которые упоминаются в легенде о Иакове и Рахили, когда Рахиль похитила богов своего отца Лабана. Домашние часовни, о которых до сих пор нигде не упоминалось в источниках, совершенно по-новому осветили самые интимные верования шумерийцев. Несомненно, в них выражается непоколебимость единства и вечности семьи. Когда умирал глава дома, его не уносили куда-то на кладбище, где он скоро был бы забыт и во всяком случае покоился бы вдали от своих потомков. Вместо этого он оставался как бы в семье, в доме и принимал участие в семейном ритуале. Прежде он сам играл в нем роль верховного жреца, а теперь его заменял сын.
В начале раскопок мы были разочарованы бедностью погребений периода Ларсы. Даже в самых наиболее тщательно сооруженных склепах под самыми большими и богатыми домами мы не находили ничего, кроме одного-двух глиняных горшков да еще таких сугубо личных вещей, как печати, серьги или кольца, которые снять с покойника было бы неблагопристойно. Беднейшая могила царского кладбища настолько превосходит самое богатое из этих погребений, что их нельзя даже сравнивать. Но все это объясняется довольно просто. Покойник периода Ларсы не нуждался в погребальной утвари, потому что и после смерти располагал всем, что есть в доме. Пищу и питье перед склепом ставили лишь для того, чтобы дух, если он вздумает выйти, насытился, умилостивился (священные тексты утверждают, будто духи умерших довольно часто пробираются в дом) и благосклонно соединился со своей семьей, тем более что он разделял с ней все домашние блага. Поклонение в домашней часовне до какой-то степени всегда относилось и к покойному предку, погребенному под полом. Старший сын наделялся титулом «возливающий масло отцу своему». Но прежде всего молитвы возносились к семейному божеству, которое было олицетворением семьи и ее покровителем.
На цилиндрических печатях того периода, как и на печатях времен третьей династии, очень часто изображался один и тот же сюжет: безымянное божество, выступающее в роли посредника и ходатая, представляет владельца печати Нанну или Нингал. Эти боги были слишком великими и возвышенными, чтобы простой смертный мог к ним приблизиться без божественного посредника. Таким посредником и был бог семьи. К нему можно было обращаться прямо. Именно ему воссылали молитвы и приносили жертвы одно поколение за другим.
Нас ожидало еще одно открытие, весьма важное для понимания религии шумерийцев. Речь идет о придорожных общественных святилищах. Кстати, о них тоже в источниках нет никаких сведений. Кое-где в начале улиц стоят ворота, почти всегда украшенные, в отличие от обычных проходов, большими терракотовыми рельефами на косяках. Эти рельефы играли ту же роль, что и скромные головы бога Пузузы на дверных косяках частных домов. Несколько кирпичных ступеней в воротах ведут к открытому мощеному двору. Это может быть самый обычный двор, как в рыночной часовне на углу «улицы Патерностер» и часовне у перекрестка, или более сложное сооружение с окруженным стенами святилищем и примыкающими помещениями, как, например, часовни Пасаг [34]34
34 Современное чтение этого имени – Хендарзанга. – Ред.
[Закрыть], или часовня барана на «Церковной улице». Описание последней дает наиболее полное представление об этих святилищах. Подобно другим часовням, часовня Пасаг относится к концу периода Ларсы. Для того чтобы пройти на ее двор, сначала нужно миновать сени. Здесь в левом углу было нечто вроде чулана или ниши – своего рода закрытый шкаф или тайник. В нем мы нашли многочисленные посвятительные приношения: глиняные модели повозок, лож, глиняную погремушку, точильные камни, оселки и более тридцати каменных наверший жезлов, на одной из которых начертано посвящение богине Пасаг. Прямо напротив хода, по другую сторону двора, стоит святилище. Его двери имеют выступающие косяки; по сторонам от входа стоят два кирпичных пьедестала высотой семьдесят пять сантиметров. Верхушка одного из них плоская, а на втором сделано покрытое битумом прямоугольное углубление, явно предназначенное для возлияний. Перед святилищем был кирпичный алтарь, залитый сверху битумом. Возле него стояла глиняная чаша, а у самого подножия алтаря лежали другие глиняные чаши и череп буйвола. Близ входа в святилище мы нашли прямоугольный известняковый блок высотой семьдесят пять сантиметров. На вершине его – чашеобразное углубление, все стороны украшены грубым рельефом, изображающим птиц и людей. Это алтарь для возлияний. Подобный алтарь мы уже видели на одном из рисунков на большой стеле Урнамму. Возле восточного угла лежала очень уродливая известняковая статуя богини, которая раньше стояла на полом деревянном постаменте. Внутри постамента помещалась маленькая медная фигурка богини. Однако руки ее, очевидно, были сделаны из какого-то другого материала, и от них ничего не сохранилось. Здесь же на дворе мы нашли еще несколько глиняных горшков, больших ручных мельниц или жерновов из черной лавы и несколько каменных пестов.
Святилище закрывалось плетенной из тростника дверью на деревянной раме. В задней стене напротив двери сделана ниша. Нижнюю часть ниши заполняет кирпичный оштукатуренный глиной и выбеленный пьедестал. На нем стояла известняковая статуя богини Пасаг. Это небольшая и не очень искусно высеченная фигурка. Еще в древности она была расколота пополам, а затем грубо склеена битумом. Ноги ее тоже исчезли, а потом фигурку вмазали в глиняное основание, чтобы она могла стоять. Несмотря ни на что, эта жалкая в художественном отношении дешевенькая статуэтка пользовалась уважением, и ее небогатые почитатели сделали все возможное, чтобы возместить нанесенный ей ущерб. На полу перед нею мы нашли множество мелких бусин, – ожерелье богини, – всевозможные глиняные сосуды, в том числе курильницу для благовоний, и шестьдесят четыре таблички с записями, относящимися к хозяйству этого маленького святилища.
Часовня Пасаг, как и все прочие, была основана кем-то из набожных горожан, который, по-видимому, выделил для нее часть своего участка. Существовала она за счет добровольных пожертвований. Ее обслуживал приходящий жрец, для которого, очевидно, и предназначались две задние комнаты с отдельным выходом на «Прямую улицу». Вознаграждением ему служили приношения верующих, а может быть, и скромное содержание, назначенное основателем часовни или еще каким-нибудь благодетелем.
До сих пор мы хорошо знали только большие храмы шумерийских и вавилонских городов. Они были посвящены великим богам, их воздвигали цари, и они были невероятно богаты. Бог города был главным землевладельцем. Это – вершина. На самой нижней ступени иерархии стояли домашние часовни. В них поклонялись личным божествам дома, у которых не было даже имени, кроме того, что он бог такой-то семьи, и все.
Придорожная часовня отличается и от тех и от других. Основанная по личной инициативе, она, тем не менее, предназначалась для общественных нужд. Она была посвящена не великим богам и не семейным божествам-покровителям, а одному из младших богов, каких у шумерийцев были тысяча. Например, богиня Пасаг считалась покровительницей путников в пустыне. И когда кто-либо собирался отправиться в такое путешествие, он прибегал к ее помощи, ибо в этом частном случае нужна была именно богиня Пасаг. Поэтому путники и приходили к ней с молитвами и жертвоприношениями: такая предосторожность никогда не бывает излишней.
Младшие боги олицетворяли собой строго ограниченные силы. Надобность в них возникала лишь от случая к случаю. Поскольку это были младшие боги, к ним можно было обращаться непосредственно любому верующему. Поэтому государство не считало себя обязанным их содержать. Частные лица строили и поддерживали святилища младших богов. Это неопровержимо свидетельствует о том, что они играли важную роль в религии народа. Ни одно событие в жизни человека не происходило без помощи того или иного божества. Именно поэтому таких божеств было огромное количество. И благоразумный человек во всех случаях жизни всегда обращался за помощью к соответствующему младшему богу или богине.
Раскопки в жилых кварталах Ура дали нам немало сведений о жизни горожан в период Ларсы, однако площадь раскопок была сравнительно невелика, и, для того чтобы составить представление о городе в целом, мы вынуждены опираться на дополнительные свидетельства.
Холмы с развалинами Ура занимают обширное пространство, но город не ограничивался только ими. Ряд кварталов сравнительно недавнего происхождения не успел образовать возвышенностей, или поднялся над уровнем почвы настолько незначительно, что на фоне общего подъема долины это совсем незаметно. Так, например, мы начали раскопки на совершенно плоской площадке в восьмистах метрах к юго-западу от зиккурата и обнаружили здесь дома периода Ларсы. В полутора километрах к северо-востоку от священного теменоса мы нашли «сокровищницу» Синидиннама из Ларсы, а к востоку от него в обширной низине оказалось такое же густое скопление домов периода Ларсы, как на «улице Патерностер».
Часть Ура, так называемый «Старый город», окруженный стенами, как установили пробные раскопки, занимал не более одной шестой площади Большого Ура. Вокруг плотно застроенного участка располагались более просторные предместья. Нам удалось обнаружить руины отдельных зданий, которые разбросаны на всем протяжении вплоть до Эль-Обейда, отстоящего от Ура на шесть с половиной километров. Кроме того, в радиусе восьмидесяти километров вокруг стояли небольшие города-спутники (во многих мы провели пробные раскопки), по сути дела представлявшие собой пригороды столицы.
Если предположить, что исследованные нами кварталы «Старого города» типичны в отношении плотности застройки, то весь «Старый город», не считая теменоса, должен был состоять примерно из 4250 домов. Предположим, что в каждом доме жило восемь человек – цифра более чем скромная, потому что в Шумере большая семья считалась благом, было широко распространено многоженство и все, как правило, имели рабов. Значит, в «Старом городе», за его стенами жило не менее 34 тысяч человек. В таком случае население Большого Ура должно было достигать 250 тысяч, а возможно, и вдвое больше. Это был поистине великий город!
Совершенно ясно, весь этот народ не мог прокормиться одним земледелием. Ур был центром торговли и ремесел, с широко разветвленными деловыми связями, о которых можно судить по табличкам, найденным в домах купцов. Сюда привозили сырье, иногда даже из-за моря, обрабатывали его в городских мастерских. В списках товаров, доставленных в Ур по каналу на торговых судах из Персидского залива, можно найти золото, медную руду, твердые породы деревьев, слоновую кость, жемчуг и драгоценные камни. Правда, верховная власть ускользнула от Ура, но ни Исин, ни Ларса не могли с ним соперничать в области торговли. Древняя столица опиралась на старые связи и стояла на удобном водном пути, соединявшем ее с морем. Поэтому во времена Римсина Ур был гораздо больше и, пожалуй, даже богаче, чем в дни правления Урнамму.








