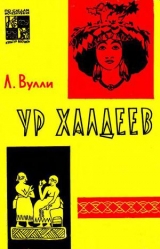
Текст книги "Ур Халдеев"
Автор книги: Чарльз Леонард Вулли
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
На площадке у входа в эту вторую гробницу лежали в две шеренги шестеро солдат в совершенно расплющенных вместе с черепами медных шлемах. Рядом с каждым было копье с медным наконечником. Ниже по склону (площадка к гробнице понижалась) стаяли две деревянные четырехосные повозки, запряженные каждая тремя быками. Один из них настолько сохранился, что нам удалось извлечь весь его скелет. Сами повозки не была орнаментированы, и только упряжь украшали продолговатые серебряные и лазуритовые бусины. Вожжи проходили сквозь серебряные кольца с амулетами, изображающими быков. Перед бычьей упряжкой лежали скелеты конюхов, а на повозках – останки возниц. От самих повозок ничего не сохранилось, но отпечатки истлевшего дерева настолько ясны, что на фотоснимках можно различить даже структуру дерева массивных колес и серовато-белый круг, оставшийся от кожаного обода или шины.
У стены каменной гробницы лежали тела девяти женщин. На них были парадные головные уборы из лазуритовых и сердоликовых бус с золотыми подвесками в форме буковых листьев, большие золотые серьги полумесяцем, серебряные «гребни» в виде кисти руки с тремя «пальцами», оканчивающимися цветами, лепестки которых инкрустированы лазуритом, золотом и перламутром, а также – ожерелья из золота и лазурита. Каменная кладка служила покойницам как бы изголовьем, ногами они были обращены к повозкам, а все пространство между ними и повозками заполняли нагроможденные друг на друга останки других мужчин и женщин. Лишь в середине оставался узкий проход к сводчатому входу в гробницу, по бокам, словно охраняя его, лежали солдаты с кинжалами и женщины.
Солдаты, лежавшие посредине могильного рва, были вооружены: один – связкой из четырех дротиков с золотыми наконечниками, двое других – набором из четырех дротиков с серебряными наконечниками; возле четвертого оказался поразительный медный рельеф – два льва, терзающие двух поверженных людей. По-видимому, это было украшение щита.
На тела «придворных дам» была поставлена прислоненная к стене гробницы деревянная арфа. От нее сохранилась только медная бычья голова да перламутровые пластинки, украшавшие резонатор. У боковой стены траншеи, также поверх скелетов, лежала вторая арфа с чудесной головой быка. Она сделана из золота, а глаза, кончики рогов и борода – из лазурита. Тут же оказался не менее восхитительный набор перламутровых пластинок с искусной резьбой. На четырех из них изображены шуточные сценки, в которых роль людей играют животные. Самое поразительное в них – это чувство юмора, столь редкое для древнего искусства. И одновременно благодаря изяществу и гармоничности рисунка, а равно тонкости резьбы они представляют один из самых убедительных образчиков, по которым мы можем судить об искусстве Шумера той ранней эпохи.

Перламутровая пластинка с резьбой
В самой гробнице воры оставили вполне достаточно вещей, для того чтобы определить, кто здесь погребен. Помимо скелетов слуг, здесь же покоился и прах владельца гробницы, имя которого, если верить надписи на цилиндрической печати, было Абарги.
Мы нашли здесь не замеченные грабителями две прислоненные к стене модели лодок: одну – медную, совершенно разрушенную временем, а вторую – серебряную, прекрасной сохранности, длиной около шестидесяти сантиметров. У нее высокие нос и корма, пять сидений и в середине арка, поддерживавшая тент над пассажирами. В уключинах уцелели даже весла с листообразными лопастями. Лодками точно такого же типа пользуются и по сей день в заболоченных низовьях Евфрата, километрах в восьмидесяти от Ура.
Усыпальница царя расположена в самом дальнем конце открытой могильной шахты. За нею оказалась вторая каменная комната, пристроенная к стене царской усыпальницы примерно в то же время или, возможно, немного позже.
Вторую комнату, так же как усыпальницу царя, закрывал сверху свод из обожженного кирпича. Она оказалась гробницей царицы. К ней-то и вела верхняя траншея, где мы отрыли повозку, запряженную ослами, и прочие приношения. В заваленной шахте над самым сводом усыпальницы мы нашли прелестную цилиндрическую печать из лазурита с именем этой царицы – Шубад. Очевидно, печать бросили сюда вместе с первыми горстями земли, когда засыпали гробницу. Свод усыпальницы Шубад тоже провалился, но, к счастью, причиной тому была не алчность грабителей, а просто тяжесть земли; погребение оказалось нетронутым.
В одном углу усыпальницы на остатках деревянных погребальных носилок лежало тело царицы. Возле ее руки был золотой кубок, а верхняя часть тела совершенно скрывалась под массой золотых, серебряных, лазуритовых, сердоликовых, агатовых и халцедоновых бус. Ниспадая длинными нитями от широкого ожерелья воротника, они образовали своего рода накидку, доходящую до самого пояса. По низу их связывала кайма цилиндрических бусин из лазурита, сердолика и золота. На правом предплечье лежали три длинные золотые булавки с лазуритовыми головками и амулеты: один лазуритовый и два золотых в форме рыбок, а четвертый – тоже золотой в виде двух сидящих газелей.
Головной убор, остатки которого покрывали раздавленный череп царицы, похож на те, что носили «придворные дамы», но только гораздо сложнее. Основой его служит широкая золотая лента. Ее можно было носить только на парике, причем огромного, почти карикатурного размера. Наверху лежали три венка. Первый, свисавший прямо на лоб, состоял из гладких золотых колец, второй – из золотых буковых листьев, а третий – из длинных золотых листьев, собранных пучками по три, с золотыми цветами, лепестки которых отделаны синей и белой инкрустацией. И все это перевязано тройной нитью сердоликовых и лазуритовых бусин. На затылке царицы был укреплен золотой «испанский гребень» с пятью зубцами, украшенными сверху золотыми цветками с лазуритовой сердцевиной. С боков парика спускались спиралями тяжелые кольца золотой проволоки, огромные золотые серьги в форме полумесяца свешивались до самых плеч, и, очевидно, к низу того же парика были прикреплены нити больших прямоугольных каменных бусин. На конце каждой такой нити висели лазуритовые амулеты, один с изображением сидящего быка, второй – теленка. Несмотря на всю сложность этого головного убора, отдельные части лежали в такой четкой последовательности, что нам удалось его полностью восстановить и подготовить для выставки некое подобие головы царицы со всеми ее украшениями.
Для этой цели мы сначала сделали гипсовый слепок с одного из наиболее сохранившихся женских черепов того же периода (череп царицы нельзя было использовать, так как он оказался совершенно разрушенным). Затем моя жена вылепила прямо на слепке восковое лицо, стараясь при этом как можно лучше выявить характерные особенности костяка. Артур Кейт, специально занимавшийся изучением черепов Ура и Эль-Обейда, признал, что восковой портрет верно воспроизводит тип шумерийки раннего периода. На восковую голову мы надели парик соответствующих размеров и сделали такую же прическу, как на терракотовых статуэтках, которые хотя и относятся к более позднему периоду, но, по-видимому, отражают старую моду. Затем мы осторожно извлекли из гробницы золотой обруч. Чтобы не нарушить расположения подвесок, весь головной убор мы укрепили изнутри и снаружи полосками клейкой бумаги и проволочными скрепками. Опустив его на парик, мы разрезали бумажные полоски и проволоку. Обруч естественно лег на свое место, и никаких дополнительных поправок не потребовалось. Венки были восстановлены и прикреплены к нему в прежней последовательности, установленной еще во время раскопок. Хотя это и не портрет царицы, но, по крайней мере, он показывает тип женщины, на которую она должна была походить. Реконструкция головы в целом со всеми возможными подробностями помогает нам представить, как выглядела при жизни царица Ура.
Рядом с телом царицы лежал головной убор иного типа. Он представлял собой диадему, сшитую, по-видимому, из полоски мягкой белой кожи. Диадема была сплошь расшита тысячами крохотных лазуритовых бусинок, а по этому густо-синему фону шел ряд изящных золотых фигурок животных: оленей, газелей, быков и коз. Между фигурками были размещены гроздья гранатов по три плода, укрытых листьями, и веточки какого-то другого дерева с золотыми стебельками и плодами или стручками из золота и сердолика. В промежутках были нашиты золотые розетки, а внизу свешивались подвески в форме пальметок из крученой золотой проволоки.
У погребальных носилок согнувшись лежали две служанки – одна в головах, другая в ногах. По всей усыпальнице были расставлены всевозможные приношения; золотая чаша, серебряная и медная посуда, каменные сосуды, глиняные вазы для пищи, посеребренная голова коровы, два серебряных алтаря для жертвоприношений, серебряные светильники и множество раковин с зеленой краской. Подобные раковины попадаются почти во всех женских погребениях. В них бывает белая, красная или черная краска, которая употреблялась как косметическое средство, однако, по-видимому, наиболее обычной краской была зеленая. Раковины царицы Шубад необычайно велики. Среди них есть две искусственные, одна золотая, другая серебряная, тоже с зеленой краской. Теперь находка внесла ясность, и все наши прежние затруднения рассеялись. Гробницы царя Абарги и царицы Шубад были совершенно одинаковы. Однако, если в первом случае все помещения располагались на одном уровне, то во втором – усыпальница царицы была вырыта ниже уровня шахты. Возможно, что они были мужем и женой, царь умер первым и был погребен здесь, а царица пожелала, чтобы ее похоронили как можно ближе к усыпальнице супруга. Чтобы выполнить ее волю, могильщики вновь раскопали шахту над усыпальницей царя, дошли до кирпичного свода, потом взяли чуть в сторону и вырыли колодец, где и была сооружена усыпальница царицы. Однако сокровища, погребенные вместе с телом царя, были для рабочих слишком большим соблазном. Входная галерея его гробницы, где лежали «придворные дамы», была защищена почти двухметровым слоем земли, раскапывать который они не решились, боясь, что их заметят, зато основные богатства царской усыпальницы находились у них прямо под ногами. Рабочие взломали кирпичный свод, вытащили из усыпальницы свою добычу, а над проломом, чтобы скрыть совершенное святотатство, поставили большой сундук с одеяниями царицы. Пожалуй, только так и можно объяснить тот факт, что усыпальница царя, расположенная непосредственно под нетронутой гробницей царицы, оказалась ограбленной.

Головной убор царицы Шубад
Итак, мы исследовали две почти одинаковые царские гробницы. Единственная разница между ними заключалась в том, что усыпальница царицы была расположена ниже помещений, где лежали остальные жертвы, но и это различие можно объяснить причинами сентиментального порядка. Того, что рассказали нам оба погребения, вполне достаточно, чтобы ясно представить себе, как они происходили.
Сначала в смешанной почве мусорного отвала выкапывали грубо прямоугольную яму глубиной до десяти метров и площадью примерно пятнадцать метров на десять по верхнему краю. Ее земляные стены старались сделать по возможности вертикальными, но обычно во избежание обвала они все равно имели какой-то наклон. Сверху в стене прорезали вход в эту гигантскую могилу. Спуск был просто пологий или со ступеньками. На дне, в углу ямы, строили затем усыпальницу – каменный склеп под кирпичным сводом, с дверью в одной из более длинных стен. Она занимала немного места. Тело царя сносили вниз по наклонному спуску и укладывали в усыпальнице. Иногда, а вернее как правило, царей хоронили в деревянных гробах. Лишь царица Шубад лежала на открытых погребальных носилках да еще одна царица из второй и последней неразграбленной гробницы была положена просто на пол усыпальницы. Вместе с телом покойного в усыпальнице оставалось трое или четверо его приближенных. В усыпальнице Шубад две прислужницы лежали у ее погребальных носилок, а третья – чуть поодаль. В усыпальнице другой, безымянной, царицы мы нашли тела четырех служанок. В ограбленных усыпальницах царей разбросанные кости также указывают, что здесь лежало несколько тел. Этих приближенных, очевидно, убивали или отравляли каким-нибудь сильным ядом, перед тем как замуровать вход в усыпальницу.
Тело владыки хоронили со всеми украшениями и знаками его царственного достоинства. Рядом с ним ставили обычную погребальную утварь, только здесь она была гораздо многочисленнее и богаче. Вместо глиняной посуды для пищи и питья царю оставляли множество сосудов из серебра и золота. Зато его приближенных, облаченных в «придворные» одеяния, даже не укладывали в позу умерших. Они и после смерти как бы продолжали служить своему повелителю. Им не давали никакой погребальной посуды, потому что они сами были только частью погребальной утвари царя. После того как вход в усыпальницу замуровывали кирпичом и заштукатуривали, завершалась первая часть погребального ритуала и начиналась вторая, самая драматическая часть церемонии. Ясное представление о ней дают гробницы царицы Шубад и ее супруга.
В огромную, пустую открытую сверху могилу, стены и пол которой устланы циновками, спускалась погребальная процессия: жрецы, руководившие выполнением обрядов, воины, слуги, женщины в разноцветных сверкающих одеяниях и пышных головных уборах из сердолика и лазурита, золота и серебра, военачальники со всеми знаками отличия и музыканты с лирами или арфами. За ними въезжали или спускались пятясь повозки, запряженные быками или ослами. На повозках сидели возницы, ездовые вели упряжки под уздцы. Все занимали заранее отведенные им места на дне могильного рва, и четверо воинов, замыкая процессию, становились на страже у выхода. У всех мужчин и женщин были с собой небольшие чаши из глины, камня или металла – единственный предмет, необходимый для завершения обряда.
Затем, по-видимому, начиналась какая-то церемония. Во всяком случае она наверняка сопровождалась до самого конца музыкой арфистов. И наконец, все выпивали из своих чаш смертоносное зелье, которое либо приносили с собой, либо находили на дне могилы. В одной из гробниц мы нашли посередине рва большой медный горшок, из которого обреченные люди могли черпать отраву. После этого каждый укладывался на свое место в ожидании смерти. Кто-то еще должен был спуститься в могилу и убить животных. Мы обнаружили, что их кости лежат поверх скелетов ездовых, следовательно, животные умирали последними. Эти же люди, по-видимому, проверяли, все ли в могиле в должном порядке. Так, в гробнице царя они положили лиры на тела музыкантш, забывшихся последним сном у стены усыпальницы. Потом на тела погруженных в небытие людей обрушивали сверху землю, и захоронение начиналось.
Подробности этой церемонии мы восстановили по описанным выше гробницам Шубад и Абарги. Как я уже говорил, царские гробницы сильно отличаются одна от другой, однако погребальные церемонии происходили в них примерно одинаково. Единичная усыпальница превращалась в целое сооружение с рядом покоев, занимающих всю площадь могилы. Но один лишь покой служил в нем усыпальницей для царя, а все остальные предназначались для его погребальной свиты и играли роль «открытой могилы» в захоронениях с одной каменной усыпальницей. В одном случае человеческие жертвоприношения во славу царственного мертвеца были совершены еще до постройки его усыпальницы, ее возвели уже на слое земли, под которым лежали на циновках на дне могилы тела жертв. Но, как правило, погребальная церемония происходила так, как описано выше.
Самым ярким примером «жертвенной могилы» может служить одна из исследованных нами царских гробниц. Грабители беспощадно разрушили усыпальницу, от нее осталась лишь часть одной стены да груда известняковых блоков, зато «жертвенная могила» сохранилась полностью. Это и понятно! Прорыть узкий лаз и проникнуть в каменную усыпальницу было сравнительно несложно, но вскрыть всю могилу и извлечь из-под земли каждую жертву погребения можно только путем широких раскопок. Несомненно, что древние грабители не осмеливались действовать так открыто.
Могила с обычным пологим спуском и наклонными стенами, обмазанными глиной и завешанными циновками, по дну занимала площадь девять на восемь метров. Вдоль стены у входа лежали в ряд шесть стражей с ножами или топорами. Перед ними стоял большой медный сосуд, а вокруг него простерлись четыре арфистки. Руки одной из них так и окоченели на струнах инструмента. Все остальное пространство было занято телами шестидесяти четырех придворных дам, уложенных в несколько ровных рядов. Все они были облачены в своеобразные ритуальные одеяния. Несколько нитей и лоскутов, сохранявшихся под металлическими или каменными предметами, говорят о том, что эти одеяния состояли из короткой алой туники с рукавами, расшитыми по обшлагу золотым, лазуритовым и сердоликовым бисером. Иногда тунику перехватывал пояс из белых перламутровых колец. Спереди ее, по-видимому, закалывали длинной серебряной или медной булавкой.
На женщинах были ожерелья типа «ошейника» из золота и лазурита, а помимо того, – другие, более свободные ожерелья из золотых, серебряных, лазуритовых и сердоликовых бусин. В ушах они носили огромные золотые или серебряные серьги в форме полумесяца. Спираль из крученой золотой или серебряной проволоки поддерживала локоны над ушами. Головные уборы женщин весьма походили на убор царицы Шубад. Длинная золотая или серебряная лента многочисленными кольцами охватывала прическу. У женщин более высокого ранга внизу к ленте были прикреплены тройные нити золотых, лазуритовых и сердоликовых бусин с золотыми свисающими на лоб подвесками в форме буковых листьев. У двадцати восьми «придворных дам» были в прическах золотые ленты; у остальных – серебряные. К сожалению, такой металл, как серебро, подвержен разрушительному действию содержащихся в почве кислот, и от него остаются лишь тонкие полоски. В данном случае серебро головных уборов, непосредственно соприкасавшихся с разлагающимися тканями тела, вообще исчезло. В лучшем случае на костях черепа удается обнаружить красноватый налет – остатки порошкообразного хлористого серебра. Поэтому, хотя мы и знали наверняка, что женщины носили серебряные ленты, у нас не было ни одного вещественного доказательства. Наконец, в одном случае нам повезло. Золотые серьги были на месте, однако на черепе не оказалось даже следов красноватого налета, который должны были бы оставить серебряные детали головного убора. Эта особенность была нами тотчас замечена. Затем, когда все тело было полностью откопано, мы нашли рядом с ним, примерно на уровне пояса, небольшой плоский диск из серого металла, несомненно серебра. Диск диаметром чуть больше восьми сантиметров казался маленькой круглой коробочкой. И только вечером, уже дома, когда я очистил свою находку, чтобы описать ее подробнее, мне стало понятно ее истинное назначение. Это была свернутая серебряная лента для прически, которой ни разу не воспользовались. Вероятно, девушка хранила ее в кармане. Впечатление было такое, словно она принесла ленту из дома, свернув ее в тугую спираль и перевязав, чтобы спираль не разворачивалась. Получилась довольно плотная масса металла, к тому же хорошо защищенная одеяниями. Благодаря такому стечению обстоятельств лента прекрасно сохранилась: можно без труда различить все ее тончайшие изгибы. Мы не знаем, почему эта женщина не смогла украсить свою прическу серебряным убором. Возможно, она опоздала к началу церемонии, а потом у нее уже не хватило времени. Во всяком случае благодаря ее рассеянности мы получили единственный экземпляр серебряной ленты для волос, который нам удалось сохранить.
Очень плохо сохраняются в земле ткани. Лишь изредка под каким-нибудь перевернутым каменным сосудом мы находили остатки материи, хотя и похожие на тончайшую пыль, но сохранившие фактуру ткани. Отдельные медные сосуды, окислившись, также сохранили нам несколько клочков одеяний, с которыми они соприкасались. По таким остаткам мы узнали, что женщины в жертвенной могиле были облачены в одежды из ярко красной шерстяной ткани. Судя по тому, что у многих женщин на запястьях сохранились по одной или по две нити бисерного шитья с обшлагов, эти одежды имели рукава и вряд ли походили на накидки.
Очевидно, царские похороны были живописнейшим зрелищем. Ярко разряженная процессия торжественно спускалась в увешанную циновками яму. Золото и серебро сверкали на фоне алых туник. Здесь были не несчастные рабы, которых убивали, как быков, а знатные люди в своих лучших, парадных одеяниях. И шли они на жертву, по-видимому, добровольно. По их представлениям, этот страшный ритуал был просто переходом из одного мира в другой. Они уходили вслед за своим повелителем, чтобы служить ему в ином мире точно так же, как они это делали на земле.
Само собой разумеется, что такую до предела загроможденную могилу можно было раскапывать лишь постепенно. Сначала мы убирали землю, так что все тела почти выступали на поверхность, покрытые лишь тонким слоем битого кирпича. При погребении на мертвых сбрасывали сначала этот кирпич и лишь потом засыпали могилу землей. Теперь стоило копнуть поглубже, как из-под земли появлялась то золотая лента, то золотой буковый лист, говорящие о том, что здесь повсюду лежали тела в богатых уборах. Все это мы тотчас присыпали землей, чтобы каждое украшение оставалось на своем месте, пока мы до него не дойдем в процессе методического исследования.
Мы разбили всю площадь могилы на квадраты, в каждом из которых лежало по пять-шесть тел, и, начиная с угла, приступили к работе. Каждый квадрат нужно было расчистить, зарисовать, описать, собрать и извлечь все обнаруженные в нем предметы, и лишь после этого перейти к следующему.
Дело оказалось кропотливым, особенно когда мы хотели извлечь целый череп со всеми сохранившимися на нем украшениями, не сдвигая их с места. Венки, цепи и ожерелья после реставрации выглядят неплохо и под стеклом витрины, но гораздо интереснее сохранить их для музея в том виде, в каком они были найдены. Поэтому мы тщательнейшим образом очищали скальпелями и щетками черепа, на которых лучше всего сохранилось расположение бусин и золотых украшений, снимали с них грязь, ничего не трогая с места, – задача не из легких, так как они могли легко сдвинуться, – а затем обливали кипящим парафином, скрепляя все в единую массу. После этого мы укрепляли весь ком из парафина, золота, костей и земли, осторожно обертывая его в провощенные ткани. Только в таком виде его можно было, наконец, поднять и вынести на поверхность. Впоследствии мы заливали эти черепа гипсом, предварительно снимая с них лишние наслоения парафина. В таком виде они были не только интересными экспонатами, но и служили нам образцами, по которым мы проверяли правильность восстановления других черепов.
Обязательной принадлежностью царских гробниц является арфа или лира. В этой большой могиле было по крайней мере четыре лиры, и среди них – самая прекрасная из всех найденных нами. Ее резонатор украшал широкий мозаичный узор, в котором чередовались красный, белый и синий цвета. Две ее вертикальные стойки были инкрустированы перламутром, лазуритом и красным камнем, причем пояса инкрустации перемежались широкими золотыми ободками. Верхняя перекладина из гладкого дерева была с одной стороны до половины окована серебром. Переднюю сторону резонатора украшали перламутровые пластинки с вырезанными на них фигурками животных, а над ними выступала кованная из массивного золота великолепная голова бородатого быка.
Вторая лира была из серебра, с головой коровы на передней части резонатора, украшенного узкой каймой бело-синей инкрустации и перламутровыми пластинками.
Третья лира, тоже серебряная, имела форму лодки с высоко задранным носом. В лодке стояла фигура оленя.
Четвертая, деревянная, с двумя медными фигурками оленей, истлела и разрушилась до такой степени, что сейчас трудно даже сказать, действительно ли это была лира. Зато три других инструмента хорошо сохранились и по праву могут считаться украшением нашей коллекции, собранной на этом кладбище.
Самым обычным украшением арф или лир были головы животных. Мы, например, нашли голову быка, коровы, а на одном из инструментов иной формы – оленя. Впрочем, в данном случае это была не одна голова, а вся фигурка животного. Однако особой разницы здесь по существу нет; в других случаях весь резонатор представляет собой как бы тело животного, изображенного условно, чуть ли не в манере кубистов, одними прямыми линиями, но все же достаточно ясно, чтобы понять, что это за зверь.

Остатки арфы.
Реставрированная арфа с головой быка
Сохранилась одна надпись времен правителя Гудеа, в которой он описывает арфу, подаренную им храму. Правда, Гудеа жил на тысячу лет позднее, но ведь традиции тоже живут тысячелетиями! Так вот, арфа Гудеа была украшена головой быка, и звук ее сравнивается с бычьим мычанием. Если между животным, украшающим арфу, и ее звучанием действительно существовала какая-то связь, можно предположить, что из наших трех инструментов лира с бычьей головой играла роль баса, с коровьей головой – тенора, а с оленем – по-видимому, альта. Во всяком случае находка четырех лир в одной гробнице свидетельствует о том, что уже в те отдаленные времена люди имели представление о гармонии. Этот факт очень важен для истории музыки.
В углу той же могилы лежали две статуи из золота, лазурита и белого перламутра. Несмотря на небольшое различие в размерах, они явно составляли пару. Да и изображают они одно и то же. На маленькой продолговатой подставке, украшенной серебряными пластинками и красно-розовой мозаикой, стоит на задних ногах козел-вожак, опираясь передними копытами на деревцо или куст, к которому его передние ноги прикованы серебряными цепями. Деревцо высоко поднимает свои золотые цветы и листья, так что золотая голова козла с лазуритовыми рогами и бородой как бы высовывается между ветвей. Невольно нам на память пришла библейская притча о «козле-вожаке», застрявшем в лесной чаще. Однако эта статуя была создана за полторы тысячи лет до рождения Авраама, и подобную параллель трудно объяснить. Это произведение шумерийского скульптора, несомненно, имело религиозное значение. Подобные изображения обычны для искусства раннего периода. По-видимому, они иллюстрируют какую-то всем известную в те времена легенду, и у нас нет никаких оснований предполагать, что эта легенда и ее образы не пережили на много веков своих создателей. Автор книги Бытия вполне мог воспользоваться знакомым образом для подтверждения своих собственных взглядов. Во всяком случае здесь мы нашли поразительно точную иллюстрацию к библейской фразе.
Бесспорно, погребальная церемония не оканчивалась тем, что могилу зарывали и царская усыпальница вместе со всеми окружавшими ее мертвецами скрывалась под слоем земли. Однако мы долго не могли найти никаких свидетельств о завершающей стадии этого обряда: верхние слои кладбища были слишком уж изрыты более поздними захоронениями и грабителями могил. Лишь в сезон 1928/29 г. нам наконец улыбнулось счастье. Мы вели раскопки на участке, где могилы простых людей располагались у самой поверхности необычайно тесно. К нашему удивлению, такая могила с глиняным гробом оказалась вырубленной в толще массивной стены из кирпича-сырца.
Добравшись до фасада этой стены, мы обнаружили здесь множество глиняных кувшинов, алебастровую вазу и едва заметные серые линии, очерчивающие прямоугольный след, который оставил деревянный ящик. Снимая землю слой за слоем, мы нашли в ящике два кинжала с золотыми лезвиями и золотыми заклепками на рукоятках, а между ними цилиндрическую печать из белого перламутра с надписью: «Царь Мес-калам-дуг». Рядом с ящиком стоял деревянный гроб с телом мужчины, однако найденные в нем предметы ничем не напоминали убранства царственной особы. Стена не только уходила дальше в глубь почвы, но и продолжалась в стороны. Когда мы обнажили ее верхний контур, выяснилось, что стеной обнесен огромный квадрат, в котором деревянный гроб занимает весьма скромное место в углу. Нам стало ясно, что до царской усыпальницы мы еще не дошли. Под глинобитным полом, на котором стоял гроб, оказался новый довольно толстый слой с глиняной посудой. По-видимому, он занимал всю огороженную стеною площадь. В этом же слое, но в противоположном от гроба углу, мы нашли еще одно погребение мужчины с оружием и каменными и медными вазами. Сняв глинобитный пол, мы обнажили новый слой посуды и погребение. Под ними было еще несколько слоев жертвоприношений, чередующихся с прослойками глины. Ниже и до самого основания стены шла чистая земля, которой засыпали могилу. В этом слое мы нашли только большой глиняный сосуд, перевернутый вверх дном, а под ним – две-три маленькие чашечки для еды, расставленные на циновке, – остатки жертвенной трапезы властелина подземного царства.
Мы начали копать дальше вглубь. Внезапно перед нами появились известняковые блоки, скрепленные зеленой глиной. Они образовывали свод. Так как камни быстро оседали, мы сначала испугались, что свод проломлен грабителями, но еще через полчаса работы с облегчением увидели: каменная кладка не тронута. Перед нашими глазами предстал совершенно целый маленький купол. Это был волнующий момент. Купол опирался на венец из толстых деревянных балок, концы которых выступали наружу. Балки истлели, и в каменной кладке кровли осталось с полдюжины отверстий. Сквозь них можно было заглянуть внутрь усыпальницы: лучи электрических фонариков достигали пола, выхватывая из темноты позеленевшие медные сосуды, среди которых то тут, то там искрами вспыхивало золото. Продолжая раскопки, мы добрались до верхнего края стен усыпальницы. Здесь по углам на вязкой глине, заполнявшей пространство между усыпальницей и стенами шахты, мы нашли золу, остатки костров, разбитые глиняные сосуды и кости животных. Перед входом в усыпальницу лежали скелеты трех овец.
Каменная кладка, закрывавшая вход, была разобрана. В усыпальнице под обвалившимися деревянными балками лежало пять скелетов. Четверо мужчин, судя по их бедным украшениям, были слугами. Пятый скелет оказался женским. На этой женщине был золотой головной убор, какой носили только самые знатные особы. Длинная изогнутая булавка, неизвестной нам еще формы, скрепляла ее накидку. В руках она держала рифленый золотой кубок, украшенный резьбой. Рядом с нею лежала цилиндрическая золотая печать, единственная из когда-либо найденных нами золотых печатей. Несомненно, здесь покоилась царица.








