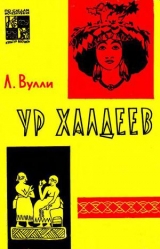
Текст книги "Ур Халдеев"
Автор книги: Чарльз Леонард Вулли
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
До сих пор нигде в Месопотамии не находили ничего похожего на эти гробницы. Поэтому я опишу их подробнее. Впрочем, чтобы дать о них представление, достаточно рассказать об одном мавзолее Шульги.
Сооружение это состоит из двух частей. Сначала были построены нижние, подземные покои, а после того как их заполнили, над ними возвели наземное здание, которое занимает площадь тридцать восемь на двадцать шесть метров. Его стены выложены из обожженного кирпича на битумном растворе и достигают толщины не менее двух с половиной метров. Таким образом, это фактически одноэтажное здание было весьма внушительным. Стены, расчлененные снаружи плоскими контрфорсами, имеют заметный наклон внутрь, подобно стенам зиккурата. Сходство усугубляется еще и тем, что они тоже не прямые, а слегка выпуклые в плане и в вертикальном разрезе. Закругленные углы в сочетании с неожиданным уступом на юго-восточной стороне придают зданию, поистине удивительное сходство с памятниками романской архитектуры.
Вход на северо-восточной стороне обрамлен наклонными пилонами с Т-образными желобами. Коридор, где некогда был водосток, ведет на мощеный открытый центральный двор. Вымостка понижается к середине двора, как черепицы на крыше, чтобы дождевая вода уходила вниз, в водосток из глиняных колец. Но здесь вместо водостока посреди двора стоит покрытый битумом глиняный бассейн для омовений. На двор выходят двери расположенных вокруг комнат. С трех сторон комнаты идут в один ряд, и лишь на северо-западной – есть второй ряд помещений сзади. В дверных проходах мы нашли среди древесной золы частицы золотой фольги: по-видимому, все двери были обшиты золотом. Между дверьми в юго-западной стене сохранились остатки кирпичного алтаря с битумными стоками спереди, – точно такой же алтарь оказался и еще в одной комнате, а у дверного косяка мы обнаружили кирпичный столб или пилон. Похожий пилон встретился нам в молельне одного частного дома периода Ларсы.
Большинство помещений не заслуживает подробного описания, однако в одной из комнат мы нашли на полу среди пепла кое-что интересное: каменные молотки со следами золота на рабочей поверхности. Очевидно, здесь грабители разбивали и плющили драгоценный металл. В двух комнатах сохранились фрагменты настенных украшений: довольно толстые полоски золота, врезанные в выпуклый орнамент. В щитообразные отверстия рисунка вставлены инкрустации из агата и лазурита. Еще в одной комнате остались маленькие звездочки и солнечные лучи из золота и лазурита. По-видимому, они упали с потолка. Во всяком случае ясно, что украшения комнат вполне удовлетворили аппетит грабителей. Даже оставшиеся украшения позволяют судить о былом великолепии ныне ободранных, голых стен.
В дверном проходе комнаты, которая нами условно обозначена четвертой, мы нашли осколки алебастровой вазы царя Шульги. В юго-восточной стене ее проделана дверь в гробницу Амарсуены. Интересно, что у нее нет косяков: очевидно, дверь не была предусмотрена по первоначальному плану, хотя не обнаружено признаков его изменений. Если этого прохода действительно первоначально не существовало, значит, те, кто его прорубил, весьма искусно заделали откосы, в точности воспроизводя старую кирпичную кладку. В толще стены рядом с проходом оказалась низенькая комната со сводчатым потолком. Она несомненно принадлежала древнему зданию. Снаружи ее прикрывает тонкий слой кладки, поврежденный при позднейшей пристройке стен гробницы Амарсуены, а изнутри – такой же слой толщиною всего в один кирпич. Для того чтобы скрыть это, в углах проема дверей отбили каждый второй кирпич. Таким образом в новой стене исчезли промежутки в местах кладки. Подобный прием использован в мавзолее Шульги неоднократно. Возможно, что это помещение предназначалось для жертв закладки. Так или иначе, эламиты взломали его и ограбили. Когда мы до нее добрались, пролом был грубо замурован смешанными кирпичами, выступавшими за линию стены, а внутри лежали два скелета и глиняные горшки периода Ларсы. Наверное, какой-то горожанин того времени случайно нашел под своим домом эту камеру и воспользовался ею как погребальным склепом.
Из обнаруженных комнат наиболее интересной оказалась пятая. Весь ее северо-западный конец занят кирпичным возвышением, состоящим из трех частей: самый низкий уступ тянулся по юго-западной стене, невысокая платформа – вдоль северо-восточной стены, а самая высокая платформа – в западном углу. Задняя часть этой платформы разрушена грабителями, которые стремились проникнуть сквозь нее к расположенной внизу могиле, зато передняя сохранилась почти полностью. Кирпичная кладка возвышений покрыта битумом, кое-где на нем сохранились кусочки золотого листа. Значит, все они были позолочены. Сверху переднего уступа двумя рядами прорезаны шесть канавок, параллельных переднему краю. Начинаются они плоскими щелями, потом постепенно углубляются, затем сворачивают под прямым углом к краю и сбегают вниз прорезями на передней части возвышения, заканчиваясь шестью небольшими кирпичными вместилищами, расположенными в ряд на полу перед платформой. В этих отделениях мы нашли древесную золу. На низкой платформе в северном углу оказались остатки одной, а может быть, и двух таких же канавок, сбегавших в кирпичные резервуары.
Вдоль юго-восточной половины юго-западной стены и вдоль всей юго-восточной стены тянется низкая кирпичная скамья или уступ, покрытый битумом. В нем тоже прорезаны длинные канавки, сбегающие к краю, обращенному ко входу в комнату. Но эти канавки заканчиваются не в кирпичных вместилищах, а в чашеобразных углублениях на верхней плоскости скамьи. Назначение этих канавок и стоков в западном углу достаточно ясно. Над каждой канавкой стояла наполненная благовонным маслом ваза с порами или с отверстием. Вытекая из вазы, масло сочилось по канавке и капало вниз на огонь, горевший в кирпичном резервуаре-очаге. Так благовония все время курились перед установленной сверху у самой стены статуей. Тексты, опубликованные профессором Лэнгдоном, подтверждают такое объяснение. В них верующий, описывая совершенное им жертвоприношение, говорит: «…семь сортов благоуханного масла… сжег я на семи огнях…» [30]30
30 «Babylonian penitential psalms», Oxford edition of guneiform, Texts, vol. VI, p. 61.
[Закрыть].
Остатки аналогичных алтарей мы нашли еще в одной комнате и, как я уже говорил, на центральном дворе. Такие же алтари обнаружены и в сооружениях Амарсуены. Все они оказались разрушенными до основания. Очевидно, под ними были замурованы какие-то ценные предметы, и эламиты, хорошо знавшие, где следует искать сокровища, не оставили здесь ничего.
Длинные канавки на скамьях у стен, по-видимому, предназначались для возлияний, а высокие пьедесталы – для твердой пищи. Здесь, несомненно, была трапезная покойного царя. Когда жертвенный дым касался его ноздрей, он вкушал беспрестанно подносимую ему еду и питье и насыщался. И вполне вероятно, что эта трапезная располагалась непосредственно над царской могилой.
Ряд ступеней вел от центрального двора к комнате, расположенной метра на два выше. Под ее толстым полом начинался спуск в могилу. Пол здесь был разбит. Грабители начали рыть ход вглубь, но вскоре остановились, поскольку их товарищи нашли более краткий путь к цели. Ниже пола земля была чистой и никем не потревоженной.
Массивные кирпичные стены уходили прямо вниз. Между двумя комнатами был тщательно заложенный кирпичами и замаскированный проход. Под полом кладка уже не была скрытой, и, наконец, мы нащупали в проходе, напротив входа в него, верхнюю ступеньку лестницы. Ниже лестница разветвлялась направо и налево, уходя вглубь. Теперь стены сжимали шахту, которую мы раскапывали, с северо-востока и с юго-запада, а над нами с обеих сторон нависали крутые высокие своды из кирпича и битума. Лестницы уходили в землю, заполнявшую все пространство под сводами. Некогда своды опирались на деревянные столбы, которые сейчас истлели бесследно. Мы боялись, что как только земля будет извлечена, кирпичи рухнут нам на головы. Работу пришлось прервать, чтобы как следует укрепить кладку. Для этого мы воспользовались старыми отверстиями для подпорок, поддерживавших в древности наклонные стропила. Понемногу расчищая землю и подставляя новые крепления, по мере того как работа продвигалась (а работа была очень опасной, потому что битумный раствор высох, потерял свои вяжущие свойства и кирпичи фактически не были ничем скреплены), мы, наконец, расчистили шахту и обнаружили замурованные кирпичом двери усыпальниц. Их было две. Северо-западная лестница кончалась на одном уровне с дверным проходом справа. За кирпичной кладкой в проходе еще несколько ступеней вели к сводчатой комнате десяти с половиной метров длиной. Она располагалась как раз под комнатами верхнего помещения. Юго-восточная лестница упиралась в замурованный проход напротив и вела к такой же сводчатой, но девятиметровой в длину усыпальнице. Обе усыпальницы были взломаны сверху, через пол верхних комнат, и кровли их находились в угрожающем состоянии. Поэтому, прежде чем приступить к дальнейшим исследованиям, нам пришлось провести дополнительные крепежные работы. Когда они были завершены, мы, как и ожидалось, обнаружили, что побывавшие здесь грабители поработали весьма основательно: нам остались лишь человеческие кости да глиняные черепки.

Реконструкция частного дома (внутренний дворик)
У этих усыпальниц была одна странная и даже, можно сказать, смешная особенность. Когда мы впервые проникли в них, нас поразили несуразные пропорции. Кости и черепки посуды лежали почти на уровне опор свода, – при всей своей длине комнаты были настолько низкими, что выпрямиться во весь рост здесь можно было только на середине. Затем мы заметили, что лестница из дверного прохода ведет еще куда-то вниз. Мы проделали отверстие сквозь пол, состоявший из целого ряда слоев, и, наконец, дошли до обожженных кирпичей, поставленных на ребро, с незаполненными промежутками между ними. Лишь под вторым слоем этой странной кладки оказался настоящий, связанный со стенами пол усыпальницы из пяти слоев обожженного кирпича на битумном растворе.
Дело в том, что архитектор Шульги был слишком честолюбив. Он заложил усыпальницы слишком глубоко, чуть ли не на девять метров ниже поверхности. А ведь Евфрат омывал самые стены города! В результате, когда усыпальницами пришлось воспользоваться, они были затоплены грунтовыми водами, и тогда пришлось, жертвуя пропорциями, сделать пол на полтора-два метра выше. Поскольку время не ждало, это было, пожалуй, единственным выходом.
В мавзолее Шульги, так же как в обоих мавзолеях, сложенных из кирпичей Амарсуены, было по две усыпальницы. Одна из них, несомненно, предназначалась царю, а в другой лежало сразу несколько тел. Обе усыпальницы закрыли одновременно и впоследствии ни одну из них уже не вскрывали. Оба погребения были частями одного ритуала. Для меня совершенно ясно, что «могильные рвы» царского кладбища существовали и позже и что даже царей третьей династии Ура хоронили вместе с их приближенными. Этот обычай сохранялся долго, хотя клинописные тексты о нем и не упоминают. Таким образом, здесь, как и в древних царских гробницах, совершали сложную обрядовую церемонию, о которой мы можем судить по характеру самого здания.
Главным в этом сооружении были, конечно, могилы. Поэтому, несмотря на то, что по плану они должны были заполняться впоследствии, их строили в первую очередь, вместе с наземными покоями; в окончательный вариант они входили лишь частично. Судя по уцелевшим развалинам, временное сооружение возводили главным образом над самыми могилами. Небольшие изменения в кладке стен шахты указывают, что даже это временное сооружение строилось не одновременно с могилами, а, по-видимому, только после похорон. Во всяком случае наличие этих сооружений свидетельствует о том, что погребальные обряды продолжались значительное время после самого погребения.
Оба склепа были заполнены и входы в них замурованы одновременно, но лестницы оставались открытыми. Дверь в стене верхней надстройки позволяет предположить, что люди спускались по ним, чтобы совершать какие-то обряды перед замурованными усыпальницами или на средней площадке и на деревянных помостах, нависавших над входом в могилы. О том, что такие помосты существовали, свидетельствуют отверстия в стенах, сквозь которые проходили концы поддерживающих балок. После этого возводили верхний этаж в том виде, в каком мы его нашли. Когда строительство было завершено и мощеный пол поднялся выше уровня пола временного сооружения, вход в него замуровали, помосты над лестничным спуском разобрали, шахту засыпали землей и сверху тоже замостили. Именно на этом этапе погребения произошло драматическое событие. Постепенно извлекая землю из шахты, мы обнаружили, что в верхней части кладки, закрывавшей входы в обе усыпальницы, проделаны небольшие проломы, как раз такие, чтобы внутрь мог пролезть человек. Выломанные кирпичи валялись тут же, прикрытые чистой землей, принесенной для засыпки погребений. Значит, могилы были ограблены именно в тот момент, когда их должна были скрыть земля. Никто не решился бы это сделать, пока шахта была еще открыта, но если бы даже кто-либо и решился на подобное святотатство, кирпичи вряд ли остались бы на полу под не заделанными проломами. Очевидно, грабители улучили такой момент, когда земля, став неприкосновенной, должна была сразу же скрыть все следы преступления. Только этим можно объяснить их беззаботность.
Правителей третьей династии обожествляли при жизни и поклонялись им, как богам, после смерти. Таким образом, могила принимала смертное тело царя, временное сооружение под ней служило для совершения погребальных обрядов, а постоянный мавзолей – для вечного поклонения. С этой точки зрения и следует рассматривать его форму. Он не походит на храмы третьей династии, знакомые нам по многочисленным образцам. Скорее он напоминает частный дом. И это понятно. Мавзолей представлял собой обиталище божества, но при этом учитывалось, что оно человеческого происхождения, точно так же как при жизни на земле никто не забывал о его божественной сущности. Смерть царя не означала перехода в ранг бога, а лишь переоценку его качеств. И хотя теперь приближенным приходилось служить ему уже по-иному, «храм» бога-царя в основном по-прежнему оставался его дворцом.
Юго-восточная часть мавзолея Амарсуены настолько точно повторяет, лишь в уменьшенном масштабе, мавзолей Шульги, что описывать его не стоит.
Северо-западный мавзолей отличается тем, что в нем нет комнат, выходящих на центральный двор с юго-востока, поскольку там стоит внешняя стена мавзолея Шульги, к которому он пристроен. Кроме того, здесь вместо двух усыпальниц – три. Однако все усыпальницы построены и заполнены тоже до постройки верхнего этажа.
В этом здании, как и в мавзолее Шульги, мы нашли таблички с надписями, относящимися к последним годам правления Ибисина, последнего царя из династии Урнамму, который был разбит и взят в плен эламитами. Таблички красноречиво свидетельствуют о том, кто разрушил гробницы. После такого разрушения это место было заброшено, и лишь спустя столетие, если не больше, уже в период Ларсы над развалинами мавзолеев построили частный дом. В те времена культ царей третьей династии уже угас окончательно.
Расчищая руины у северо-западной стены зиккурата, мы нашли два осколка известняка с рельефным изображением. Осколки эти играли роль опорных камней в дверях построенного позже дома. В ста сорока метрах далее, посреди двора перед Дублалмахом, нам попались другие осколки с рельефом. Они дополняли первые два. Наконец, среди развалин Энунмаха оказался еще один фрагмент, по-видимому, того же изображения. Все эти рассеянные на значительной площади осколки представляют собой большую часть стелы с закругленной верхушкой. Она достигала в высоту трех метров, при ширине в полтора метра. С двух сторон ее покрывают изображения и надписи, прославляющие деяния Урнамму. Несмотря на всю фрагментарность, эта стела остается одним из важнейших скульптурных памятников, обнаруженных нами в Уре. Насколько возможно, она была реставрирована в университетском музее Филадельфии.
Гладкие выступающие пояса делят обе стороны стелы на пять горизонтальных рядов, на которых изображены различные деяния царя. Верхний ряд на обеих сторонах одинаковый: Урнамму под символом бога луны поклоняется в одном краю ряда Нанна, а в другом – Нингал. От изображений богов сохранилась только нижняя часть видящей фигуры Нингал, которая кормит грудью ребенка, возможно царского сына Шульги. Над двумя фигурами Урнамму парят ангелы с сосудами в руках, из которых на землю льется вода. На широкой полосе между рядами перечисляются названия каналов, проведенных по повелению царя вблизи Ура. Текст надписи объясняет изображение: Урнамму проложил каналы, однако воду и плодородие полям ниспослали боги.
Вторая сцена на стеле сохранилась лучше всех. По краям ряда сидят Нанна и Нингал. Урнамму, которого сопровождает его богиня-покровительница, совершает перед ними возлияния, наливая воду в вазу с плодами земли. В ответ на это Нанна протягивает ему измерительный жезл и свернутую кольцом веревку – рулетку зодчего. Тем самым он побуждает царя построить ему храм.
В следующем ряду царь выполняет повеление бога луны. От этого ряда уцелел один угол. Здесь позади сидящей фигуры Нанна, – его легко узнать по рогатому головному убору божества, – царь несет на плечах строительные инструменты: кирку, циркуль и корзину для раствора. Ему помогает обритый наголо жрец. Остальная часть ряда представлена жалкими осколками, но и на них мы видим на фоне кирпичной кладки людей на лестницах с корзинами раствора на плечах. Это строительство зиккурата. Перед нами изображенная мастером той эпохи картина закладки прекраснейшего сооружения, остатки которого мы раскопали в Уре.
Связь между жертвенным возлиянием царя и приказом бога разъясняется в надписи на глиняном посвятительном кирпиче закладки, который нам удалось найти. Надпись гласит; «Для Нанна, своего владыки, Урнамму, могучий муж, царь Ура, царь Шумера и Аккада, воздвиг храм Нанна… он спас растения в садах…» Смысл ясен; когда Нанна поселится в подобающем ему доме, тогда он обеспечит плодородие земли. На обломках рядов с другой стороны стелы изображены сцены: жертвоприношения, когда жрец вспарывает тушу быка, чтобы прочесть предзнаменования по его печени; сцена военного триумфа: пленников со связанными за спиной руками подводят к сидящему богу; сценка, на которой барабанщики бьют в огромный барабан, очевидно, также празднуя победу, и, наконец, сцена жертвоприношения, в которой роль бога, возможно, играет сам царь. Мы ведь знаем, что Урнамму был обожествлен после смерти, а может быть, еще и при жизни, Обычно, восхваляя шумерийских царей, говорили: «он почитал богов, он разбил своих недругов, он был справедлив к народу, и он прокладывал каналы». Три из этих благих деяний изображены на стеле. А где же четвертое?
Когда Нанна протягивает царю измерительный жезл и веревку, он, несомненно, повелевает строить ему храм, ибо это специальные инструменты зодчего. Но почему царь Вавилона Хаммураппи приказал высечь на камне над своими прославленными законами точно такую же группу? Там тоже бог протягивает царю жезл и веревку, но на сей раз ни о каком строительстве храма нет и речи. Дело в том, что эти предметы имеют два значения: прямое и символическое. Символически веревка означает правильную меру, а жезл – прямое, справедливое поведение. Именно таков был дух законов Хаммураппи, и Урнамму, помимо ясного повеления строить, принимал от бога и это второе символическое значение орудий зодчего. Таким образом, в стеле были отражены все обязанности царя.
Как я уже говорил, эта стела – важнейший памятник скульптуры из найденных нами в Уре. Ее историческое значение огромно, поскольку памятников третьей династии вообще ничтожно мало. Однако с художественной точки зрения она далеко не так совершенна, как мне казалось в первые, волнующие часы после ее находки. Стела превосходна по технике, но в ней нет ни капли вдохновения. За одно-два поколения до этого царь Лагаша Гудеа изготовил для себя такую же стелу с перечислением деяний и достоинств правителя. На ней изображены такие же эпизоды, да и выполнены они примерно так же.
Скульптор царя Урнамму был искусным резчиком по камню, однако он работал по традиционному шаблону и не смог создать ничего оригинального. Ур, столица всей страны, мог претендовать на самое лучшее. Никогда еще в Шумере не строили столь обширных зданий, сочетавших массивную мощь с такой архитектурной утонченностью, какой смогли достичь лишь древние греки. Да и по богатству украшений с ним вряд ли мог соперничать хоть один храм предшествующих правителей Шумера. И тем не менее, если сравнить точную, но обычную по выполнению стелу Урнамму со свежей и изобретательной резьбой табличек из раковин с царского кладбища или, наоборот, тонкую, но вялую резьбу цилиндрических печатей времен Урнамму с живым и драматическим рисунком печатей Саргонидов, мы увидим, что в эпоху третьей династии искусство Шумера пришло к упадку.








