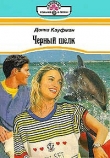Текст книги "Муравечество"
Автор книги: Чарли Кауфман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
– Мистер Розенберг, – говорит он.
– Да. Хотя я предпочитаю гендерно-нейтральное обращение «микс».
– Совершенно верно, – говорит он. – Вы можете войти, микс Розенберг.
Я захожу в кабинет. Заставил ли он меня зайти с помощью гипноза? Или я зашел, потому что он просто попросил? В любом случае, переступая порог, я чувствую, что теряю контроль над ситуацией. Стоит ли мне беспокоиться или это, наоборот, воодушевляет – что он, возможно, настолько хорош в своем ремесле, что я даже не замечаю, как он манипулирует мной?
Я сажусь на кушетку.
– Здесь сижу я, – говорит он.
– А, – говорю я. – Простите.
Поднимаюсь, оглядываю кабинет. Здесь больше нет мест, куда можно присесть, разве что за стол.
– Вы хотите, чтобы я сел за стол?
– Нет. Здесь тоже сижу я, хотя и не сейчас.
– Тогда где?
Он указывает на складной стул у стены.
– А.
– Лучше всего, когда клиенту не настолько комфортно, чтобы он уснул.
– Понимаю, – говорю я.
Раскладываю стул и сажусь.
– Добро пожаловать в мои офисные помещения, – говорит он. – То, что я здесь практикую, – не совсем гипноз. Я называю это «гипгноз».
– Гипноз?
– Нет. Гипгноз.
– Не слышу никакой разницы, – говорю я.
– Там еще одна буква.
– Какая буква?
– «Г».
– А.
– Нет. «Г», – поправляет он.
– Понял. И где она находится?
– А. Между «п» и «н».
– А. Понял. Типа как «гнозис», – говорю я.
– Вы сказали «гнозис» или «нозис»?
– Гнозис. Слова «нозис» не существует.
– Тогда да. Вам известно, что означает слово «гнозис»?
– Да.
– Что?
– Это какой-то экзамен? Знание. В основном в духовном смысле. Знание о Боге и о самом себе, – говорю я.
– Прекрасно, – говорит он. – Теперь расскажите, зачем вы пришли.
И – вот так просто – я чувствую сильное желание рассказать. Что за странной силой он обладает? Если уж совсем начистоту, должен признать, что при мысли о передаче ему власти над собой я почувствовал легкое волнение в паху.
– Мне нужно вспомнить фильм, настолько подробно, насколько это возможно.
– Интересно, – говорит он. – Конечно, я могу помочь. Я часто работаю с клиентами, которые пытаются восстановить воспоминания о насилии, утраченном времени или прошлых жизнях.
«Прошлых жизнях? – думаю я. – Он что, обкурился?»
– Я знаю, о чем вы думаете, – говорит он. – В конце концов, я умею читать мысли – я, как вы нас называете, телепат.
Он прав; я действительно называю таких, как он, телепатами. Еще я называю их шарлатанами.
– Или шарлатанами, – усмехаясь, говорит он. – Так вы нас тоже называете. Все это я уже слышал, микс Розенберг.
Кем бы он ни был на самом деле, он хорош.
– Слушайте, – продолжает он, – я могу вам помочь. Я введу вас в состояние гипгнотической релаксации и помогу получить доступ к воспоминаниям, которые вы считали навеки утраченными. Вам следует знать, что я работаю не только с теми, кого похищали инопланетяне, или с теми, кто хочет вспомнить свою прошлую жизнь, – я, кстати, верю и в то и в другое, – но и с полицией Нью-Йорка и несколькими другими крупными полицейскими департаментами.
– Ого. – Я впечатлен. – И каковы ваши успехи?
– Я у них занимаюсь оформлением документов, и я чертовски в этом хорош. Самое главное: чтобы все получилось, мне нужно ваше полное доверие. Возможно, у вас есть какие-то опасения насчет меня или моих методов, которые я мог бы развеять?
– Полагаю, я действительно опасаюсь, что, пока буду под гипнозом, вы внушите мне ложные воспоминания.
– Зачем мне это?
– Я не говорю, что вы обязательно так поступите. Просто отвечаю на ваш вопрос об опасениях. Это просто пришло мне в голову. Мне необходимо вспомнить фильм в деталях.
– Слушайте, – говорит он. – Я профессионал с учеными степенями. И мне не нравятся ваши обвинения.
– Что вы, никаких обвинений. Я вас не обвиняю. Просто надеялся, что вы меня успокоите.
– Знаете, кажется, у нас ничего не получится, – говорит он. – Вам лучше уйти.
– Но я не хочу уходить!
– Тогда возьмите свои слова обратно.
– Обратно?
– Возьмите обратно свои слова о том, что вы опасаетесь, будто я могу внушить вам ложные воспоминания.
– Беру свои слова обратно.
– Значит, вы не думаете, будто я способен на такое?
– Полагаю, нет.
– Хорошо. Надеюсь, теперь вам легче. – Он улыбается.
И это странно, но мне действительно легче. Я еще раз проигрываю наш разговор в голове. Срабатывают все возможные системы оповещения об опасности. Однако я чувствую себя спокойным, открытым ему и готовым.
– Начнем, пожалуй? – спрашивает он.
– Да.
– Хорошо. Отлично. Фильм, который вам нужно вспомнить, – как он называется?
– На самом деле у него нет названия. Он выше любого названия.
– Но ведь мы должны как-то называть его во время наших разговоров?
– «Веселая погода», – говорю я, хотя и сам не знаю почему.
– Хорошо. «Веселая погода». «Веселая погода» существует у вас в сознании. Целиком. В первозданном виде. Неповрежденная. Вы можете видеть ее во всех деталях, как если бы снова смотрели на экране.
– Это правда? Просто я читал, что память совсем не похожа на запись, она скорее как…
– Так, все, немедленно выметайтесь.
– Но я не хочу.
– Тогда скажите, что это правда.
– Это правда.
И теперь я действительно думаю, что это правда. Странно. Я по натуре бунтарь. Моя главная рыночная ценность как кинокритика/теоретика – подвергать сомнению, оспаривать норму, свежевать киношные клише везде, где попадутся. И все же как только Барассини заставляет меня соглашаться с идеями, которые – я точно знаю – попросту неверны, неожиданно для самого себя я ему верю. Возможно, Барассини – это отец, которого у меня никогда не было, хотя отец у меня был и, надо сказать, очень похожий на Барассини. Может быть, Барассини – отец, который был у меня всегда. О, папочка.
– Великолепно, – говорит он. – Теперь я хочу, чтобы вы смотрели мне в глаза и внимательно слушали все, что я скажу. Почувствуйте, как мои слова проникают в ваше сознание. Откройтесь моим словам. Почувствуйте, как они глубоко входят в вас, касаются вашего ума там, где никто и никогда не касался. Вы благодарны за мои слова, за ту уверенность, что они вселяют. Вам спокойно оттого, что я вас контролирую. Мои слова ласкают вас. Они владеют вами. Чувствуете?
– Да.
– Хорошо. Вы же хотите доставить моим словам удовольствие?
– Да.
– Скажите вслух.
– Я хочу доставить удовольствие вашим словам.
– И доставите. Если окунетесь в себя так глубоко, как никогда раньше. Готовы?
– Да.
– Хорошо. Скажите, что вы видите.
– Магелланова пингвина. Он водится на Фолкленд…
– Глубже.
– «Выскочка», фильм 1999 года режиссера Александра Пэйна. Это…
– Глубже.
– Мать бьет меня, потому что я канючу. Вечно канючу.
– К этому мы еще вернемся. Глубже.
– Черно-белое изображение на экране.
– Рассказывайте.
– Я не знаю. Оно кажется огромным. Темное. Оно длится вечно. Снег на экране. Помехи.
– Теперь этот фильм – ваша частичка. Как только сливки попали в кофе, их уже не разделить.
– Я не понимаю, – говорю я.
– Фильм можно пересмотреть только в том виде, в котором он внедрился в ваш разум. Это закон энтропии.
– Я просто думал, это будет типа как когда вы помогаете свидетелю преступления вспомнить номер машины.
– Если это все, чего вы хотите, то вам к Гипно Бобу. Он прекрасно вас обслужит.
– Хорошо. – Я встаю и иду к двери.
– Но я думаю, вы хотите большего.
– Нет.
– Вам нужна правда.
– Ну да, но…
– Понятно. Видимо, я в вас ошибся. Вы обойдетесь и Гипно Бобом.
– Хорошо. – Я берусь за дверную ручку. – У вас есть его адрес или я увижу по витрине?
– Позвольте, я скажу вот что: искусство привлекает нас только тем, что раскрывает самое тайное в нас самих.
– Это…
– Годар, да. Ваш герой, не так ли?
– Но как вы узнали?
– Знание. Гнозис. Этот фильм существует лишь потому, что вы его посмотрели, и лишь в том, что он открыл в вас самих. Если же хотите извлечь его из памяти целиком, придется глубоко зарыться в свое сознание. Но это не то, чего вы хотите. Гипно Боб вас вполне устроит. Я слышал, его услугами пользуется Дэвид Мэннинг из «Риджфилд Пресс».
– Но Дэвид Мэннинг – это вымышленный критик, созданный маркетологами «Сони Пикчерз», чтобы писать восторженные рецензии на их фильмы с плохими отзывами.
– Ой, правда? Я не знал.
– Но тогда откуда вы…
– Не знаю. Просто хочу сказать, что на вашем месте я бы очень тщательно выбирал тех, кого впускаю в свой мозг. Мне бы не хотелось закончить жизнь вымышленным автоматическим зомби-орудием в руках бездушной корпорации.
– Думаю, мне лучше продолжить сеансы с вами, – говорю я.
– Только если вы сами этого хотите.
– Думаю, что хочу.
– Вы сонный.
– Что? Прямо сейчас?
– Пора начинать. Это долгий процесс.
– Насколько долгий?
– Инго снимал свой фильм девяносто лет. Полагаете, его вспоминание займет меньше времени?
– Но у меня нет в запасе девяноста лет! Откуда вы знаете, сколько времени фильм занял у Инго? Я вам не говорил. Я вам и имя не говорил.
– Я запишу вам адрес Гипно Боба.
– Нет. Я готов.
– Вам хочется спать.
И правда. Одно простое предложение от мастера гипноза…
– Гипгноза, – поправляет он.
…гипгноза отправляет меня лениво кружиться по воронке вздремоченности.
Глава 26
– Вы в квартире Инго. Расскажите, что чувствуете, – говорит Барассини.
– Стул жесткий. Давит на мои ягодичные кости. Комната темная, затхлая. Я волнуюсь. Я хочу, чтобы фильм был отличным. Хочу, чтобы он изменил мою жизнь, как во время просмотра, так и впоследствии, когда я стану его воспевать. Если он ужасен, значит, я ничего не выгадал. Остался там же, где был. Даже хуже, потому что время прошло и я стал ближе к могиле. И придется говорить Инго, что мне понравилось, тогда как будет очевидно, что нет. Я плохой актер в том смысле, что не умею врать. Это мое проклятье: другие всегда точно знают, что я чувствую. Пожалуй, в каком-то смысле из-за этого я блестящий актер, если мой персонаж по сценарию испытывает те же эмоции, что и я в момент съемок. Может, я стал бы лучшим актером в истории. Даже уверен, что стал бы. Надо бы попробоваться на эту роль. Позже загляну в «Бэкстэйдж»[57]. Включается проектор. Жужжит и тарахтит, на экране появляется прямоугольник света, затем возникает покрытый царапинами черный ракорд, а потом – «китаянка». Погодите-ка, это Цай? Отмотайте назад!
Но фильм неумолимо движется вперед, кадр с «китаянкой» сменяется новым каждую двадцать четвертую долю секунды, а последовательность из 1/24-х долей секунд у меня на глазах превращается в историю. Я должен тщательно запомнить все кадры до единого. Барассини прав: каждый переживает фильм по-своему, и каждый по праву получает свое переживание. Каждый видит фильм по-разному, но если фильма не смотрел никто, то его не существует. Он как мысли мертвеца. Их нельзя прочесть, значит, их не существует. Следовательно, чтобы фильм Инго существовал, я должен его пересказать, а чтобы его пересказать, я должен пропустить его сквозь фильтр своей души.
Так что это не новеллизация. Новеллизация – ниже рангом. Как книга всегда лучше фильма (за исключением единственного приличного фильма Трюффо Tirez sur le Pianiste[58] [1960]), так и фильм всегда лучше новеллизации. Для того, что я хочу сделать, тоже должен быть какой-то термин. Как назвать одновременно интерпретацию, критику, приукрашивание, углубление? То, что не проигрывает в сравнении со зрительским опытом. В конце концов, я критик, который смотрит фильм только один раз и, по возможности, в кинотеатре со зрителями, которые заплатили за билеты. Я настаиваю на справедливой рыночной стоимости. Вот истинный зрительский опыт. Фильм – это не только образы на экране и звук из динамиков. А перевод всего этого мозгом в историю. Это социальная среда. Это год, когда ты смотрел, твой возраст, состояние брака. Это то, что случилось с тобой на пути в кинотеатр, и что ожидаешь после, и кто сидит слева и справа от тебя. Как от них пахнет. Кто сидит перед тобой. Кто пинает – или не пинает – твое кресло сзади. Это твое беспокойство из-за звонка от врача. Это то, что у тебя был секс. Или не было. Или будет. Или знание, что больше не будет никогда. Это твоя зависть: к режиссеру, к парочке, сидящей перед тобой в обнимку. Это попкорн. Арахис в шоколаде. Что тебе надо в туалет. Что кто-то ест пахучий сэндвич с тунцом. Они что, тайком его сюда протащили? Это нечестно – что жулики едят сэндвичи, а остальные терпят вонь. Это приостановка неверия. Сцена, из-за которой закатываешь глаза. Это твоя критика актерской игры. Это твои попытки вспомнить, где раньше видел этого актера. Это твои предсказания того, что случится дальше. Это твоя гордость, когда оказывается, что ты угадал. Это твое удивление, когда режиссер обманывает ожидания. Это жизнь, которую тебе дано прожить лишь однажды. Мы к ней готовимся, но она все равно нас удивляет. События фильма предопределены, но раскрываются лишь со временем, постепенно. Поэтому мы воспринимаем фильм как нечто живое, словно мы можем изменить исход. Мы кричим на актеров на экране. Мы стискиваем зубы, будто это поможет. И хоть фильм предопределен, но мир – нет. Так что фильм может меняться и в этом смысле. Может сломаться проектор. Может, на этом просмотре громко смеются. Может, в зале террорист. Все эти вероятности слоями лежат поверх фильма, в котором вероятностей нет. Поэтому текст, содержащий в себе весь этот внешний и внутренний опыт фильма, – никакая не новеллизация. Это гораздо больше. Это свидетельство, и именно так оно должно называться: свидетельство о человеческом опыте – этот пластик, этот свет, эта стрекочущая 1/24 секунды, по которым я и фильм путешествуем сквозь время: вместе, но по отдельности, два соседствующих одиночества. Первоначальное значения слово martyr («мученик») – «свидетель»; тот, кто дает показания. И это будет свидетельство. Или погодите, разве я смотрю фильмы не по семь раз? В одиночестве? В гостиной же? И разве не переворачиваю телевизор вверх ногами? Я внезапно запутался. Я не…
– Вы замолчали, – говорит Барассини.
– Да?
– Вы просто сидите на стуле и меняете выражения лица. Был момент, когда вы выглядели так, словно, возможно, учуяли запах сэндвича с тунцом.
– Ага. Вообще-то. Ага. Хм, и вы это поняли по лицу?
– Вы хороший актер.
– Фишка в том, чтобы быть в моменте.
– Слушайте, – продолжает он. – Я могу вам помочь. Но в этом состоянии вы должны говорить. Это единственный способ сделать так, чтобы после пробуждения вы не забыли о том, что нашли в своем подсознании. Все, что вы скажете, я запишу. Вы должны мне довериться.
– Полагаю, с доверием у меня проблемы.
– Вам следует знать, что я работаю не только с теми, кого похищали инопланетяне, или с теми, кто хочет вспомнить свою прошлую жизнь, – я, кстати, верю и в то и в другое, – но также я работаю с полицией Нью-Йорка и несколькими другими крупными полицейскими департаментами.
– Разве вы это уже не говорили?
– Нет.
– Хм.
Я правда впечатлен. В юности, когда учился по стипендии Фулбрайта в Кембридже, я участвовал в исследованиях экстрасенсорного восприятия под руководством великого Роберта Генри Таулесса[59]. Он установил, что у меня выдающийся и очень редкий дар отрицательного экстрасенсорного восприятия (кроме меня, был лишь один документально подтвержденный случай – в XV веке, Йоханн Гергис, фламандский мастер по починке кузнечных мехов). Когда со мной провели опыты на картах Зенера, результаты были несомненны: мои предположения оказывались неверны в 99 процентах случаев – это настолько маловероятно, что просто поразительно. Более того, мои результаты настолько впечатляли, что меня заметили в Скотланд-Ярде и несколько раз обращались за моими услугами, чтобы помочь определить, где точно можно не искать похищенных детей. Некоторое время я даже выступал на «Кембриджской кукурузной бирже»[60], где угадывал инициалы случайно выбранных зрителей.
– Среди ваших близких есть кто-то, чье имя начинается на X? – спрашивал я добровольца.
Ошибался в девяноста девяти случаях из ста. Я всегда был уверен, что в их жизни есть кто-то с именем на «X». Видел ясно как день. Когда я опрашивал очередную зрительницу, чей муж оказался губернатором Акротири и Декелии, его превосходительством Христофором Хавьером Хорхесом, эхсвайром, меня забросали помидорами и со свистом выгнали со сцены.
– Самое главное: чтобы все получилось, – говорит Барассини, – мне нужно ваше полное доверие. Возможно, у вас есть какие-то опасения насчет меня или моих методов, которые я мог бы мастерски развеять перед тем, как мы углубимся в гипноз?
– Мне не нравится то, как вы произносите слово «углубúмся».
– Какое слово?
– Углубúмся.
– А, вот как его произносят.
– Да, – говорю я.
Он смотрит мне прямо в глаза.
– А теперь как?
– Углýбимся.
– Хорошо. Ну что ж, углубимся, пожалуй?
– Да. Пожалуйста!
– Скажите, что вы видите.
* * *
И вот так просто я снова смотрю фильм. Марионетка в цилиндре идет против ветра. На экране? В моем сознании? Не понимаю. Но дистанции больше нет. Как нет признаков старости пленки, царапин, грязи и нестабильной проявки. Марионетка прямо здесь. Кажется, я мог бы к ней прикоснуться, но не могу. Не могу посмотреть на свою руку. Я, в сущности, камера. Я верю, что этот гипнотический эксперимент сработает. Воодушевленный, смотрю, как разыгрывается сцена. Мимо на роликовых коньках катится маленький мальчик, и я следую за ним взглядом. Он врезается в газовый фонарный столб и падает на зад. Всё в порядке! Пока он поднимается обратно на шаткие ролики, до меня вдруг доходит, что раньше я этой сцены не видел. Каким-то образом я вижу то, что находится за пределами кадра. Пытаюсь вспомнить. Может, сцена все же была в изначальном фильме. До этого момента в фильме и в моей жизни столько всего произошло. Но я почти уверен, что в самом фильме этого не видел. Возвращаюсь к мужчине, который идет против ветра, и провожу эксперимент. Пытаюсь обойти его, увидеть слева. И у меня получается. С этого ракурса я вижу на заднем плане совсем другие декорации, тоже выкрашенные в стиле Инго. Это изображение особняков из песчаника на другой стороне Восточной 62-й улицы от церкви Пресвятой Девы Марии Мира. Я узнаю эти особняки! Смотрю вверх. Увижу ли я небо? Вижу! Черно-белое, но анимированное изображение облаков, они быстро летят и вихрятся. В небе возникает маленькая точка, вскоре вырастает. Она падает? Да. Это аморфный пузырь из оригинальной первой сцены. Он беззвучно падает на землю у моих «ног». Вытекает черная жижа. С этого ракурса я вижу, что кусок глины раскололся и внутри можно разглядеть внутренности, крошечные кости, череп. Шок вырывает меня из сцены. Гипнотизер наблюдает за мной.
– В этот раз я рассказывал? – спрашиваю я.
– Рассказывали.
– Он отличается от фильма, воспоминания о котором я помню.
– Выходит, что так.
– Очень похож, но, по ощущениям, я вижу больше, с разных углов, – говорю я.
– Да.
– Это нормально?
– Никогда раньше не сталкивался с подобной проблемой. В основном работаю над обузданием вредных привычек: курение, героин, хроническая мастикация.
– Мастурбация?
– Нет.
– Мне необходимо вспомнить фильм настолько точно, насколько это возможно. Кажется, это проблема, – говорю я.
– В мире не существует такой вещи, как объективное воспоминание о произведении искусства.
– Это должен быть именно фильм Инго. Обязан. Может, если я буду ограничивать себя, получится придерживаться изначальных ракурсов, не отвлекаться и не исследовать.
– Может, Инго хотел, чтобы вы исследовали. Ведь возможно, что он специально спрятал там все эти сцены? Чтобы вы в них затерялись?
– Не уверен, что у меня хватит духу вернуться, – говорю я. – Я боюсь затеряться.
Но я возвращаюсь. И я теряюсь.
Глава 27
Кажется, я открываю все больше деталей, которых не помню из фильма. Разумеется, я наверняка воспринимал их подсознательно. Например, на пролетающей мимо газете стоит дата «30 июня 1908 года», странно знакомая. Не могу вспомнить почему. 30 июня 1908 года. 30 июня 1908 года. Что же произошло – если произошло – в этот день? Что-то ведь должно было произойти. В конце концов, в истории не существует дней без событий. В этом я почти уверен. В 1752 году пришлось пропустить одиннадцать дней, чтобы перейти с юлианского календаря на григорианский. Можно ли считать, что в эти одиннадцать дней ничего не произошло? Надо спросить моего друга Тимми, он хронолог[61]. Внезапно я смотрю, как марионетка в цилиндре сражается с ветром, и снова поражаюсь раннему мастерству юного Инго. И тут вспоминаю: русский взрыв! 30 июня 1908 года! Ну конечно. Ответ приходит сразу же, как только я перестал искать. Это урок, который полностью противоречит библейскому стиху «ищите и обрящете». Должно быть так: «не ищите и обрящете». Возможно, для традиционного западного ума это звучит слишком по-восточному. Я знаю дату события в Подкаменной Тунгуске, потому что знаю, но еще потому, что писал диссертацию о Der Schweigende Stern («Безмолвной звезде», 1960) Метцига – несправедливо заклеванном критиками фильме, целиком снятом на Totalvision, саундтрек к которому (в английской версии, значительно превосходящей оригинал) написал невероятный Гордон Залер по технологии Totalsound. Фильм рассказывал о мультикультурной и мультигендерной группе ученых задолго до того, как подобное разнообразие вошло в западное киносознание благодаря Вачовски, но я отвлекся – в голове у меня идет фильм, и я должен запомнить каждую деталь. Нельзя отвлекаться, пока рассказываю, ведь вы не видите то, что вижу я, не так ли, доктор Барассини? Доктор Барассини?
Я слышу отдаленный разговор, но только один голос.
Барассини говорит по телефону? Не могу разобрать слов. Мне нужно сфокусироваться на фильме, но сама мысль о том, что Барассини вовлечен в процесс не так, как я, отвлекает и раздражает.
– Вы же в курсе, что я слышу ваши мысли про Барассини? – откуда-то издалека доносится голос Барассини.
– А, значит, теперь вы слушаете, – огрызаюсь я.
– Моя работа – погрузить вас в гипнотическое состояние и следить за записью, чем я и занимаюсь, – говорит он.
Он прав, но почему-то его отсутствие интереса к моим воспоминаниям задевает. И подрывает мою уверенность во всем предприятии. Ибо если Барассини не заворожен каждым моим словом, то будут ли заворожены читатели?
– Мне нужно, чтобы во время сеанса вы сохраняли тишину, – говорю я. – Если вы не можете оказать мне хоть толику уважения, я найму другого гипнотизера. Возможно, Гипно Боба или кого-нибудь из его братии.
Долгое молчание, пока сцена безмолвной бури разыгрывается дальше, и наконец я слышу отдаленное и обиженное:
– Ладно.
Теперь я снова волен сконцентрироваться на воспоминаниях о фильме Инго, а также на новооткрытой способности передвигать внутри фильма свое «тело». Хотя, когда смотрю вниз, вижу только улицу. Ни ног. Ни восхитительной небольшой выпуклости животика, о которой так мечтала Фабиан в «Криминальном чтиве». Я – камера. Но со своей волей. Если камера Ишервуда[62] «совершенно пассивная, не мыслящая – только фотографирующая», то камера Розенберга динамична, разумна и обладает своей волей. «В этом ишервудском лесу есть только один Робинберг». Это остроумно, пожалуй, использую в предисловии к своей книге. Или, может быть, в эпиграфе. Или это эпитафия? Что-то вдруг не уверен. В моих воспоминаниях о фильме нет словаря, чтобы проверить.
– На сегодня время вышло, – говорит Барассини и щелкает пальцами.
– Мне нужно еще посидеть. Прийти в себя, – говорю я.
– Вам придется уйти, – говорит Барассини. – У меня следующий клиент.
– Курильщик? Вам же это неинтересно.
– Я ко всем своим клиентам отношусь одинаково. Если так хотите знать, это человек, который не может – нет, не перестает – жевать.
– Мы оба знаем, что он вам неинтересен.
– Вам придется уйти.
И я ухожу. На улице людно и воняет. И вот он я, в самой гуще. Внутри своей собственной вонючей жизни, вот только, как учила нас Штейн, там нет никакого «там». Полагаю, под «там» она имела в виду Окленд, штат Калифорния, – пригород Фриско, как называют его местные. Ни в чем из этого я сейчас не уверен, но в данный момент просто нет сил, чтобы проверить. Поэтому просто предположу, что прав. Так или иначе, какая разница. Келлиты больше нет. Моя дочь Эсме не разговаривает со мной годами: ее мать отравила наши ранее близкие отношения. Ее имя я выбрал вовсе не в качестве оммажа рассказу Сэлинджера. Он был и остается писателем, которого я презираю. Как только чудовищная правда о женоненавистнике Сэлинджере выплыла наружу, моя бывшая жена сказала Эсме, будто я решил назвать ее в честь этого эмоционально отсталого отшельника. На деле же я выбрал это имя, потому что восхищался великим британским игроком в крикет Эсме Сесилом Уингфилдом-Стратфордом, к тому же гениальным британским писателем-историком и инструктором по тренировке ума, который, кстати, был мужчиной. Так что я дал дочери гендерно-нейтральное имя.
Словно приветственный подарок, в голову вдруг приходит мысль: моя дочь возвращается домой из школы. Ей – сколько? – одиннадцать или двенадцать. Не помню. Ей хочется побыть со мной, но я работаю – смотрю от конца к началу фильм Талфана Dysgu i gi Bach Gachu[63]. Это один из самых значительных валлийских фильмов, а это уже о многом говорит. Некоторые считают, что значительного валлийского кинематографа не существует, но они, как всегда, чертовски ошибаются. Дайфодуг, Поуис, Иван, Гвилим, Гриффид, Фардд, Гвилим (не родственник), Кадваладр, Климнеб, Дилфедмед, Придудд, Гвилим (не родственник) и Клидарфрг – вот лишь несколько важных режиссеров. И я весь день ждал возможности посмотреть шедевр Талфана от конца к началу. В свои одиннадцать моя дочь не знает на и-гимрайг[64] ни слова, так что, скорее всего, не поймет ни слова и в обратном порядке. Ей будет скучно, я знаю. А я почувствую себя виноватым в том, что ей скучно, так что не смогу как следует насладиться фильмом. Я говорю ей, что папе надо работать, и чувствую себя ужасно виноватым, особенно когда вижу выражение ее глаз – безнадежное, ищущее любви, покинутое. Все, конечно, не так. Мне просто нужно поработать. Одиннадцатилетнему ребенку не понять, как сильно личность взрослого человека зависит от работы, как без работы, скорее всего, растворишься в тумане небытия. Чтобы и далее существовать для нее, мне приходится ее игнорировать. Она смотрит в окно на дождь. Эсме…
Теперь я обнаруживаю, что иду по 62-й улице из первой сцены фильма Инго. Его точность потрясает. И хотя здесь я чувствую погоду и вес собственного тела, при прогулке по дороге я все так же невидим для окружающих. Как привилегированная личность и как мужчина, справедливо порицаемый и лишенный слова в назревающей культуре, я признаю, что не имею права жалеть себя и уж точно не имею права публично жаловаться на обстоятельства. Это приведет только к тому, что меня еще сильнее отвергнет общество, к которому мне так хочется принадлежать. Но правда в том, что я действительно чувствую себя невидимкой. А в тех редких случаях, когда меня видят, меня осуждают особенно жестоко. Может, это и значит быть человеком. Но я подозреваю, что нет, ведь я вижу людей, которые переживают радость, приключения и единение с другими. Возможно, у меня ущербный характер, раз я со всеми своими преимуществами, белым цветом кожи, мужским полом и гетеросексуальностью не способен достичь этого места под названием «радость».
Какого хрена происходит с людьми? Куда пропал вкус? Почему мы, взрослые, смотрим эту излишне серьезную молодежную научную фантастику с желтой цветокоррекцией? Почему не понимаем, как смешно выглядим?
Дома я пытаюсь читать книгу Уингфилд-Стратфорда «Реконструкция сознания: открытый путь к тренировке ума» и натыкаюсь на следующее:
«Так мы блуждаем под бесконечной бомбардировкой впечатлений из внешнего мира, ни одно из которых не оставляет нас прежними. Аромат розы, лицо старого друга, ужасный или добрый поступок, любой пейзаж, что мы видим, любой звук, что мы слышим, – все это поглощается нашим существом и меняет нас к лучшему или к худшему».
Внешний и внутренний мир. Мы вбираем в себя внешний мир, он меняет нас, и мы выдаем измененную версию. Это постоянный обмен психическими жидкостями с окружающими, и так же, как вирусы, передаются и распространяются болезни ума. Даже те люди, чей недуг характеризуется отделенностью от мира, отшельничеством, как Инго, вносят свой вклад в разносортное варево психосоциальных заболеваний. Все Инго мира заражают нас своим недоверием, своей скрытностью. Мы удивляемся, почему они с нами не общаются. Дело в нас? Нас осуждают? Потому что мы белые? Или черные, если Инго был шведской версией самого себя? Разумеется, замкнутость Инго можно объяснить травмой, которую ему нанесли люди и уж наверняка само общество в целом, ведь мы говорим об афроамериканце (или шведе), чья молодость пришлась на начало двадцатого века. А какой вред причинил я? И какой еще причиню? Хоть я и прилагаю все усилия, чтобы развиваться как человек, расширять сферу познаний, быть уважительным и добрым, приходится признать, получается у меня плохо. Несомненно, единственное, что гарантирует безопасность персонажей внутри фильма Инго, – моя невидимость, мое полное отсутствие. Возможно, фильм – единственное безопасное для меня (и если на то пошло, для любого!) место. Печально осознавать, но, если не удастся целиком новеллизировать фильм, я так и останусь единственным, кто может посещать этот мир. И хотя мир, где ты призрак, – это мир без вины, надо признать, что без вины и сожаления невозможно прожить полноценную жизнь. Живое существо не может жить, не уничтожая других живых существ. Мы должны жрать друг друга, разве нет? Так устроен мир. Я замечаю Цай: она поправляет короткую стрижку, глядя в витрину галантерейного магазина. Боже, это так на нее похоже. Уверен, я достаточно далеко, чтобы она меня не заметила. Однако в голову приходит, что Цай не заметит меня, даже если я буду сидеть у нее на коленях. Она не Леви. М-м-м, колени Цай, как говорят дети. Сидеть у нее на коленях. Быть ее коленями. Я не свожу с нее глаз и случайно наступаю на маленькую собачонку, которая визжит как совсем маленькая собачонка.
– Смотри, куда прешь! – тявкает ее хозяин.
Я извиняюсь, складывая ладони в фигуру, которая на языке жестов, несомненно, означает: «Тс-с-с! Не хочу, чтобы Цай меня заметила». Она и не замечает. Конечно же, не замечает. Каково это – быть настолько независимой? Я говорю себе, что иду за ней, чтобы проверить, не идет ли она к Барассини, чтобы узнать, не сообщники ли они. И это одновременно и правда, и оправдание. Преследовать женщину – это сталкинг, а я все-таки воук, так что знаю, что женщины живут в страхе из-за сочетания разницы в размерах между полами и культуры токсичной маскулинности и задача мужчин – вести себя вежливо и уважительно к женщинам, распознавать социальные сигналы и действовать соответственно. «Нет» значит «нет». А еще – зачем им вообще говорить «нет»? Это несправедливое бремя. Мужчины должны научиться распознавать отказ по взгляду – или по отсутствию взгляда. Жестикуляция, пожимание плечами, покашливание, урчание в животе. Такому должны учить еще в школе или, может, в обязательных летних учебных центрах для мальчиков. С этим что-то надо делать. Разумеется, в данных обстоятельствах Цай легко могла бы со мной справиться. Она молодая и высокая, у нее гибкое и мускулистое тело. От мысли о том, как со мной справится Цай, между ног возникает сексуальное волнение. Я наблюдаю за ее задницей и представляю, как она прижимает меня к земле. Садится на лицо. Я жалкое создание. Я жук, слизняк, муравей.