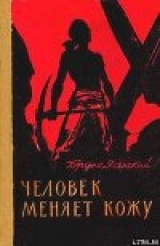
Текст книги "Человек меняет кожу"
Автор книги: Бруно Ясенский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 39 страниц)
Тогда мы оставили свои жилища и потрескавшиеся поля и ушли в Фергану…
– Да, – задумчиво подтвердил Климентий.
Старик наполнил пиалы.
– В прошлом году советская власть отправила меня лечиться в далёкую страну Крым, где люди понимают наш язык и где никогда не бывает нехватки воды: у берегов этой страны стоит море, а другого берега у моря нет. Там меня раздели догола и купали в большой длинной пиале, наполненной водой. И прежде чем окунуть меня, дохтур опустил в воду стеклянную трубку в деревяшке, и змейка поднялась по трубке и остановилась на цифре тридцать семь.
Когда я увидел этот прибор, то закричал, выскочил из белой хоны[14]14
Изба.
[Закрыть] и голый побежал по коридорам, коридоры длинные… Меня привели обратно, и дохтур долго говорил мне, из чего делают градусники, – он думал, что я в первый раз в жизни вижу эту стеклянную трубку. И он очень сердился, когда на следующий день, оставшись один, я вышвырнул её в окно. Он не понимал, что из кишлака-то уйти можно, а назад разве вернёшься?…
Опять между собеседниками прикорнуло молчание.
– А крестьянина, куда ни уйди, завсегда земля тянет, – отозвался наконец Климентий. – Земля у нас пахучая. Идёшь за плугом… суглинок, он рыхлый, липнет к нотам, всё равно как тесто ногами месишь. А в бороздах вода блещет…
– Вода… – оживился таджик. – Земля воду любит. Напьётся досыта, потом, как верблюд, бережёт её до второго полива. Верблюд четырнадцать дней без воды живёт, потом дохнет. И земля без воды дохнет: кожа у неё потрескается, шерсть вся вылезет, – лежит плешивая, вздутая, страшная. Тогда, как на падаль, слетаются на неё стервятники. Очень страшно смотреть, как дохнет земля…
Из мрака вынырнул человек, поднялся на крыльцо и открыл ключом дверь.
– Фархат!
– Здесь, товарищ начальник.
– Позови товарища Немировскую, пусть сейчас же идёт в контору. Скажи: надо написать несколько писем, чтобы завтра с утра отправить. Не забудешь? Я тебя от чая оторвал? Ничего, потом допьёшь.
– Иду, товарищ начальник.
Ерёмин прошёл в свой кабинет.
Она была сейчас в белом с поперечными чёрными крапинками, похожая на берёзу, зыбкая блондинка с мягкой гривой свёрнутых на холке свежевымытых волос.
Она услышала, как скрипит пол, исчерканный большими шагами Ерёмина, и, пройдя к своему столику, тихо достала карандаш и бумагу.
– Большое письмо?
– Да, докладная записка. Приготовили? Пишите: «В ЦК КП(б) Тадж.».
– Готово.
– Подождите, надо подумать.
Она встала и мягко положила ему руки на плечи.
– Неприятности? Изнервничался на заседании? Отдохни. Посидим здесь. Отложи, завтра напишем.
– Нет, нельзя.
Он взял её руки в свои огромные лапы, как берут птенца, осторожно, чтобы не раздавить.
– Видишь ли, я думаю, что обязан тебе об этом сообщить. Я должен отдать под суд твоего мужа.
– А за что? Или это секрет?
– Нет, к сожалению, это ни для кого не секрет. И оснований слишком много.
– Именно?
– Прежде всего за сознательное разложение сектора механизации, иными словами, за срыв всего строительства. Это достаточное основание.
– И ты полагаешь, что это исключительно его вина и что это с его стороны сознательное преступление?
– Совершенно уверен. Я слишком долго глядел на это сквозь пальцы, пока другие не собрали и не представили мне материала, раскрывающего всю его работу.
– Другие – это кто? Синицын?
– Это безразлично. Собраны сведения с его предыдущего места работы, где только своевременный отъезд позволил ему избежать суда.
– Ты не знаешь, это было до речи Сталина. Там его травили как беспартийного специалиста.
– Здесь его не травили, – наоборот, предоставили самую широкую свободу действий, которой он не преминул соответствующим образом воспользоваться.
– Ошибаешься, уверяю тебя. Знаю даже, кто наговорил: Синицын. Он терпеть не может Немировского.
– Не говори глупостей.
– Это ты говоришь глупости. Не сердись, но мне смешно слушать. Поверь мне, я, кажется, достаточно хорошо знаю Немировского и никак не могу представить его в роли политического вредителя, этакого романтического злодея. Это просто нелепо. Немировский – типичный спец, спец-середняк, без особого энтузиазма к строительству социализма, но вполне лояльный. И самое главное – ходячая посредственность, физически неспособная на активное сопротивление окружающей среде, даже на мало-мальски самостоятельное решение, – на всё, что требует от человека какой-то доли гражданского мужества. Он, во-первых, безумно труслив, политики боится, как огня. Он умер бы, наверное, от страха, вообразив себя на минуту впутанным в политический заговор.
– Это меня мало интересует. Действовал ли он в сговоре, или по собственному почину, это покажет следствие.
– Да, но само обвинение нелепо. Он мог напутать, не справиться, наконец даже плохо работать, но никогда не поверю, чтобы он сознательно что-либо разлаживал с твёрдой целью повредить строительству.
– Ты будешь иметь возможность всегда высказать своё субъективное мнение. К сожалению, у нас привыкли считаться с фактами, а фактов не опровергнешь никакой психологией.
– Но ведь нелепо же обвинять невиновного человека! Это компрометирует только обвиняющих.
– Я вижу, что инженер Немировский нашёл в тебе очень рьяную защитницу.
– Не могу же я только потому, что с ним больше не живу, радоваться или даже молчать, когда невиновного человека, все недочёты которого я превосходно знаю, хотят посадить в тюрьму, обвиняют в преступлении, к которому он не способен. Это была бы с моей стороны подлость.
– Так… А знаешь, люди полагают, что он сознательно подсунул мне тебя и закрыл глаза, чтобы связать мне руки.
– Не знаю, с каких это пор ты стал принимать во внимание, что говорят пошляки. Как это Немировский мог меня подсунуть? Что я – вещь? И это говорит коммунист!
– На предыдущей работе инженера Немировского ситуация была почти тождественная.
– Я не знала, что ты собираешь материал по истории моих бывших связей. Надо было обратиться непосредственно ко мне, я бы тебе дала более исчерпывающие сведения, из первоисточника. Я никогда, кажется, не разыгрывала из себя девственницы и не клялась, что до тебя у меня не было любовников. Думаю, отчёта в этом я никому давать не обязана.
– Просто любопытно, что любовники твои вербуются всегда из начальников твоего мужа и твои любовные увлечения замечательно совпадают с интересами инженера Немировского.
– Хочешь меня оскорбить? Это тебе не удастся. Я вижу тебя насквозь. Ты просто ревнуешь меня к Немировскому.
– Что-о-о? Ты ещё смеешь подозревать меня в каких-то глупостях! Мне нельзя арестовать вредителя, потому что я сплю с его женой, – так, что ли?
– Не кричи. Ночь. Люди сбегутся. Подумают, что вызвал меня в контору и устраиваешь сцену ревности. И без того достаточно сплетен о нас ходит. Ну, успокойся, – она закинула ему руки на шею. – Любимый мой! Сильный! Глупенький Ник выдумал, что он Ник Картер и везде ему чудятся преступники. Истрепался, изнервничался среди подлецов. На себя стал непохож. Ну давай сядем здесь, в углу. Не будем больше говорить об этом. Ты сиди тихо и молчи. Не надо говорить. Дай рот. Вот так. Сиди смирно. Я тебе расскажу что-нибудь. Помнишь, ты меня раз спрашивал, почему у меня мизинец на левой руке вывернут? Хочешь, расскажу?
Было это ещё задолго до того, как я познакомилась с Немировским. Любила я тогда одного молодого советского учёного, климатолога, и разошлись мы с ним исключительно по моей вине. Я вернулась в театр и уехала с выездной труппой в Киев. Он остался в Москве. Я ждала, что он приедет за мной. Он заупрямился. Наконец пришло письмо. Он писал, что любит меня по-прежнему, но простить не может и жить в одном и том же городе, в одной и той же стране не сумеет. Поэтому он выхлопотал научную командировку и отправляется с международной экспедицией на Шпицберген. В конце сообщал кратко, что улетает из Москвы в Берлин такого-то числа. И хотя тон письма был сухой, суровый, эта последняя фраза звучала невысказанной надеждой, что я приеду с ним повидаться.
Я два дня носила письмо, не распечатывала. Потом раскрыла, ожидала упрёков и просьб и вдруг, когда дочитала до конца, что-то схватило меня за горло. Показалось мне, что люблю этого человека так, как никого больше не смогу любить, что надо сейчас же, сию минуту, бежать, остановить его, удержать, навсегда оставаться вместе, не разлучаясь.
Отлёт его должен был состояться послезавтра. Воздушного сообщения между Киевом и Москвой не было. Я кинулась на станцию. Поезд уходил через час. Каких чудовищных усилий и ухищрений стоило мне достать билет! Я узнала по расписанию пассажирских самолётов, что самолёт из Москвы в Берлин вылетает в шесть часов утра. Мой поезд по расписанию приходил в Москву в пять часов двадцать минут. Оставалось сорок минут, чтобы схватить такси и примчаться на аэродром.
Половину дороги я обдумывала, что ему скажу. Потом легла спать. Ночью поезд подолгу застаивался на станциях.
Утром я узнала, что мы опаздываем на три часа. Проводник, заметив, должно быть, как я побледнела, стал меня утешать, что, может быть, ещё нагоним. Поезд шёл медленно и опять подолгу стоял на станциях. Я не спрашивала больше о времени. Я понимала, что опоздание наше не уменьшается.
Я ненавидела в это время машиниста. Когда поезд стоял, я, чтобы не думать о цели моего нелепого путешествия, постепенно теряющего всякий смысл, заполняла эти мучительные пробелы тем, что представляла себе, что делает в это время ненавистный машинист. Вот он сходит с паровоза. По этой линии он ездит давно, на каждой станции у него знакомые. Вот он заходит к ним. Расспрашивает о новостях. Перед ним ставят чай с вареньем. Он пьёт невозмутимо медленно. Потом просит второй стакан, потом третий, а поезд стоит. Наконец он напился, узнал подробно обо всех происшествиях. Поезд трогается.
Я ненавидела всех начальников станции: после второго звонка они ещё долго медлили, пока не давали свистка к отправлению.
Я ненавидела стрелочников, выходивших неожиданно на разъезде с красным флажком, знаменовавшим не революцию, а новую продолжительную остановку.
Я ненавидела проводников, невозмутимо разносивших по купе свой чай, безучастных к тому, приедем ли мы сегодня или послезавтра. Всё равно их жизнь проходит в дороге.
А когда на следующее утро один пассажир, проснувшись, спросил другого – сколько времени, и тот, достав часы, спокойно сообщил: шесть, а мы стояли в поле далеко-далеко от Москвы, – я, чтобы не кинуться и не разбить ему голову его же часами, взяла мизинец левой руки и медленно вывернула его, пока он не принял горизонтального положения. Потом, и в этот день, и на следующий, я долго пыталась вправить его, но он никогда уже не вернулся на своё место.
Как ты был похож на меня, Ник, сегодня, после твоего неудачного заседания! Ты убедился, что поезд твой безнадёжно запаздывает и не в состоянии нагнать намеченных сроков. И вместо того, чтобы трезво отдать себе отчёт, что виноваты неполадки в общем расписании, скрещивающиеся где-то за тысячи километров рельсы причин, минутные задержки, которые, помноженные на расстояние, вырастают в недели и месяцы, ты возомнил, как и я, что виноваты безвольные пешки, обслуживающие твой злополучный поезд: коварный машинист или тупой стрелочник, невозмутимо безразличные к тому, приедешь ли ты к сроку. И вместо того, чтобы в тупом отчаянии выламывать себе пальцы, ты пустился на ещё более нелепую операцию: попытался отсечь и отбросить меня, которую ты любишь, ведь любишь по-прежнему? Ну, пойдём, Ник. Я знаю, тебе тяжело, что ты очень одинок. Я не оставлю тебя в таком состоянии. Пойдём к тебе. Плевать мне на Немировского. Останусь у тебя, пока не уснёшь.
Возвращаясь домой с бурного совещания, Кларк у большой чинары внезапно споткнулся о какой-то длинный предмет и чуть не упал. Предмет при более тщательном осмотре оказался человеческим телом, распростёртым на земле, лицом вниз. В спине лежащего на высоте поясницы торчала блестящая рукоятка кинжала.
У Кларка по спине пробежал холодок. Басмачи? Здесь, в городе? Или, может быть, мексиканская вендетта на местный манер?
Он не знал, что ему делать. Позвать людей? Кругом не было ни души. Лохматые тропические звёзды колыхались, как репейники, на чёрной рясе неба.
Он нагнулся над лежащим и потрогал его за спину. Блестящая рукоятка со звоном покатилась на землю. Кларк удивлённо нащупал её рукой и вдруг прыснул со смеха. То, что он принял за рукоятку кинжала, оказалось бутылкой водки, торчавшей из кармана брюк.
Кларк зашагал дальше. Его искренне забавлял весь инцидент – первый промах в поисках так быстро развенчанной экзотики. Он вспомнил длинные рассказы о басмачах, скачущих по горам на легконогих афганских конях, и улыбнулся. Всё это сильно отдавало балетом.
Он поднялся на веранду, повернул ключ и зажёг электричество. Только здесь, в комнате, он почувствовал накопившуюся усталость. Он стал быстро раздеваться, снял воротник и бросил его на стол. На столе, аккуратно разложенный на самой середине, лежал лист бумаги с каким-то рисунком. Кларк нагнулся и присмотрелся внимательно.
На бумаге обыкновенным карандашом неуклюже, но вполне разборчиво был нарисован поезд, рядом с поездом пароход и справа несколько высоких домиков. Над домиками латинскими печатными буквами было выведено «Америка». Над рисунком шла длинная стрела. Стрела указывала направление поезда и парохода и упиралась в слово «Америка». Внизу листа были нарисованы большой череп и две скрещенных кости.
Кларк долго и внимательно изучал рисунок. Рука, выводившая его, несомненно редко держала в пальцах карандаш. Тем не менее смысл иероглифов был ясен. Это означало: «Уезжай поскорее обратно, не уедешь – кокнем».
На Кларка второй раз подуло холодком. Он оглядел комнату. Когда он уходил отсюда – никакого письма на столе не было. Дверь была заперта на ключ. Он подошёл к окну и толкнул его рукой. Окно было заперто изнутри. Кларк ещё раз оглядел комнату. Он нагнулся и посмотрел под кровать. Потом под стол. Больше мебели не было.
Он опять взял в руки рисунок и зачем-то посмотрел на свет. Достал из заднего кармана брюк браунинг, проверил предохранитель и положил револьвер на табуретку. После этого он ещё раз внимательно осмотрел окно. Убедившись, что оно плотно закрыто, он вытянулся на кровати и закурил. В комнату в его отсутствие ни в окно, ни в дверь никто проникнуть не мог. Была другая возможность: бумажку мог положить кто-нибудь из людей, приходивших в присутствии Кларка, и он мог этого не заметить. Было здесь только трое, Мурри – отпадает. Полозова? Отпадает. Уртабаев?…
Кларк докурил папиросу, сунул под подушку револьвер, быстро разделся, потушил свет и лёг, натянув на себя простыню. Спал плохо, мешали комары.
Глава третья
Проснулся от звуков заунывной причудливой музыки гортанных флейт, рассекаемой на такты размеренными ударами бубна. Играли на улице. Кларк соскочил с постели и толкнул рукой окно. Утренний воздух, свежий, как родниковая вода, смыл с лица тонкую паутину сна.
Улица, в лимонно-розовом свете подымающегося солнца, лежала ослепительно голая после ночной купели, не окутанная ещё зыбким покрывалом зноя, вдыхая последние крупинки тающей тени.
По дороге двигалось необыкновенное шествие. Впереди на крошечных осликах ехали два полосатых дехканина; каждый держал древко красного плаката. За ними вдоль улицы тянулась длинная кавалькада пёстрых всадников на осликах. Ослики деловито семенили, помахивая мышиными хвостами. Ноги всадников почти касались земли. Всадники плыли над землёй, торжественные и громоздкие в своих пухлых цветастых халатах, вылинявших чалмах и засаленных тюбетеях.
Впереди кавалькады, вслед за всадниками с плакатом, шли четыре музыканта. Музыканты дули в длинные тоненькие зурны, и зурны звенели носовой картавой трелью. Крайний размеренно ударял в бубен, глухой и утробный, как глиняный сосуд.
Перед музыкантами, лицом к кавалькаде, вытаптывая туфлями узорную дорожку, плыл танцор в потёртом халате, перехваченном в талии расшитым платком. Беспокойные руки танцора в набухших рукавах, вскинутые горизонтально ладонями вниз, одна согнутая в локте, другая легко брошенная в воздух, извивались и вздрагивали в лад переливам зурн. Бронзовая голова танцора плыла по воздуху, невозмутимо неподвижная, словно покоилась на ней не простая тюбетейка, а незримый сосуд, наполненный водой.
Из окна, по другую сторону веранды, выглянула растрёпанная женская голова.
– Саша, – прозвучал уже знакомый Кларку капризный голос. – Что там такое?
Немировский, кончавший мыться в углу террасы, снял с гвоздя полотенце, выбросил изо рта на дорогу длинную струю воды и сказал, вытираясь:
– Это колхозники. Приходили на хашар[15]15
Буксир
[Закрыть] в совхоз. Вчера кончили и возвращаются домой.
– Чего ж они с пяти часов утра спать не дают! – раздосадованно потянулась женщина.
– А они издалека, некоторые за двадцать-тридцать километров отсюда. Вышли пораньше, чтобы успеть до жары.
– Никогда не дадут выспаться, идиоты, со своими свистульками.
– Не ложись спать в четыре часа утра, тогда выспишься.
– Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала!.. – Она широко зевнула и с досадой задёрнула занавеску.
Кларк, впрочем, ничего не понял из этого разговора и долго ещё стоял в окне, ловя ухом отдаляющиеся переливы флейт.
Только когда утихли последние звуки, он потянулся к часам и, убедившись, что уже половина шестого, начал быстро одеваться. Он взял со стола лист с рисунком, сложил его, сунул в бумажник и вышел завтракать в столовую.
Когда он вернулся, перед верандой стояла легковая машина. На террасе ждала Полозова.
– Я думала, вы ещё спите, а вы, оказывается, и позавтракать успели. Вот и машина за вами.
– Разрешите, я только зайду на минуту в комнату, возьму блокнот и кое-какую мелочь.
Он раскрыл чемодан, вынул записную книжку, белый колониальный шлем, и, закрыв чемодан, надел шлем на голову.
– Знаете что, – услышал он над собой голос Полозовой; она стояла, опершись на подоконник. – Хотите послушать товарищеский совет, – не надевайте этого. Оставьте этот котелок дома. Возьмите кепку.
– А почему? – смутился Кларк.
– Это, конечно, пустяк, но колониальные шлемы имеют уже своеобразный политический стиль. По ту сторону границы, в Индии, они отличают господина-колонизатора от раба туземца. У нас этот стиль колет глаза. Мы все носим здесь тюбетейки. Это и проще, и легче, и практичнее. Хотите, я вам завтра достану тюбетейку?
Заметив смущение Кларка, она поспешно добавила:
– Вы, пожалуйста, не обижайтесь. Если хотите, можете ехать и в этом. Я просто хотела по-дружески предупредить вас от косых взглядов рабочих; они привыкли, что наши инженеры и руководители не отличаются особенно от них своим костюмом.
Кларк молча надел кепку, запер комнату и, проверив рукой окно, прошёл к машине.
– Жалко, что вы не видели сегодня колхозников, возвращавшихся с хашара из совхоза с музыкой, с танцами. Исключительная картина.
– Видел, действительно очень красиво. Совершенно своеобразная музыка, похожая немного на напевы индийских заклинателей змей, и очень своеобразный танец.
– Плевать на музыку… Извините, я не то… Я хотела сказать, что это – внешнее, несущественное. Это экзотика, которая привлекает внимание каждого европейца. Вы знаете, что такое хашар? Крестьяне из отдалённых кишлаков пришли помогать совхозу. Хотели оплатить им трудодни – отказались. Говорят, пусть район построит нам за это школу. Обещали прийти и на окучку и на сбор. Вы понимаете, что в этой стране, где ещё до двадцать шестого года байство и муллы вели за собой большую часть дехканства, – это целая революция.
– Да, это очень интересно…
Полозова замолчала. Автомобиль мчался по плато, навстречу надвигающемуся горному хребту. Горы на фоне бледно-голубоватого, чуть выцветшего неба, без единой крапинки, казались декорацией, вырезанной из картона. Мелкие морщины и изломы, обведённые коричневой тенью, выделялись на них рельефней, чем на настоящих.
У подножия гор лежал городок из фанеры: несколько деревянных бараков, несколько горбатых палаток из брезента с кривыми окошками из желатина в раскоряченных стенах, простой грузовик с разбитым кузовом, неподвижный и мрачный как статист.
Около центрального барака толпились, входили и выходили люди самой причудливой наружности: русские мужички с окладистыми бородами, одни в замасленных, подпоясанных бечёвками рубахах, другие в ватных кацавейках и рыжих яловочных сапогах; бронзовые парни в голубых, красных, зелёных майках, кто в картузе, кто в тюбетейке, кто в огромной соломенной шляпе, похожей на мексиканское сомбреро; цветистые таджики в тюбетейках и халатах; краснокожие люди неведомой национальности, с телом, словно ошпаренным кипятком, в куцых трусах, заслоняющих исключительно то, что необходимо. Среди этой разношёрстной толпы деловито суетилась кучка людей в брезентовых сапогах и белых рубахах с засученными рукавами.
Всё это удивительно смахивало на съёмку американского приключенческого фильма с отважными золотоискателями в пустыне. Люди в брезентовых сапогах, торопливо шнырявшие между бараками, напоминали кинооператоров, проверяющих последние детали мизансцены. Кларк невольно огляделся в поисках киноаппарата.
Машина остановилась у входа в барак. В комнате, в которую ввела Кларка Полозова, столы стояли сплошной лавой. Протискиваться между ними надо было узенькой извилистой тропинкой. Люди, стоявшие у столов, кричали на людей, сидевших за столами. Кто-то бил кулаком по столу так, что звенели чернильницы. Сидящий за столом человек в очках, откинувшись на спинку стула, терпеливо ждал, пока у посетителя не разболится рука, и только от времени до времени невозмутимо повторял одну и ту же фразу: «Ничего не могу поделать».
Между столами шмыгали люди с какими-то бумагами. Кларк, вслед за Полозовой, протиснулся наконец за перегородку. За перегородкой сидел Четверяков, разбирая кипу бумаг, испещрённых зигзагами красного карандаша.
Полозова обратилась к Четверякову, но в ту же минуту за перегородку ворвался усатый детина в сетке и белых штанах, весьма похожих на кальсоны, отстранил рукою Кларка и Полозову и, сорвав с головы тюбетейку, кинул её на пол перед Четверяковым.
– Не могу с этими сукиными детьми работать. Делайте со мной что хотите, не могу.
– Не кричите, Теплых, – спокойно заметил Четверяков. – Я не глухой. И не сорите на пол, – указал он головой на измятую тюбетейку. – В чём дело?
– Бригады Тарелкина и Кузнецова не вышли на работу.
– Почему?
– Говорят, третий день махорки не выдают. Не дадите махры, не будем работать!
– Скажите им, что махорка будет завтра или послезавтра. Скажите, что не подоспел транспорт из Сталинабада. Ну, сами знаете, что надо сказать. Зачем приходите ко мне с такими пустяками?
– Говорил, толковал – всё равно, что об стенку горохом. Не пойдём – и всё. Вчера уже бузили, не хотели выходить, но я их уломал, обещал, что сегодня будет. А теперь и слушать не хотят: «Вы, говорят, на посуле, что на стуле. Даёшь махру и никаких!» Не выйдут. Я их знаю.
– Чего же вы от меня хотите? Откуда я возьму махорки? Обращайтесь к Ерёмину.
– Да нет махры, ни одной пачки нет. Я уже всё вверх ногами перерыл.
– А чем же я могу помочь?
– Да надо же их заставить! Пусть товарищ инженер с ними поговорит. Может, вас послушают.
– Хорошо, пойдём. Пойдёмте со мной, – обратился Четверяков к Полозовой и Кларку. – Сейчас найдём кого-нибудь, кто проведёт вас на участок.
Они протиснулись вчетвером через запруженную комнату и зашагали по направлению к крайним баракам.
В бараке, куда привёл их Теплых, густо пахло портянками. На нарах у стен сидело и лежало десятков шесть рабочих. С нар в углу хрипло попискивала гармонь.
Когда Четверяков появился в бараке, гармонь оборвалась и часть рабочих привстала, остальные продолжали лежать, притворяясь, что не замечают прихода гостей.
– Товарищи, – сказал Четверяков, поправляя пенсне, – что это ещё за история? Хотите сорвать работу? Каждый сознательный рабочий должен понимать, что коллективные прогулы на строительстве равносильны вредительству. Сейчас, когда партия и советская власть поставили перед нашим строительством жёсткие сроки и с напряжением следят за ходом работ, когда дорога, дословно, каждая потерянная минута, – срывать из-за пустяков работу – это преступление, недостойное сознательного рабочего. Я уверен, что это была с вашей стороны простая демонстрация, чтобы напомнить руководству о недостатках, имеющихся в области снабжения. Я могу вас заверить, что администрация сделает всё от неё зависящее, чтобы ликвидировать перебои в подвозе продуктов. Во всяком случае, затягивать эту демонстрацию не следует. Вы оторвали и без того у строительства целый трудочас. Я не сомневаюсь, что все вы, как один, встанете немедленно на работу. Я жду, товарищи!
– Будет курево – пойдём. Не дашь махорки, и не зови! – сказал меланхолически парень в синей майке.
– Четвёртый день обещают!
– Ты нас на сознательность не бери. Сам небось папирос для себя подвезти не забыл!
– Я не курю, – сказал возмущённо Четверяков. – И вообще строительство не обязано, в ущерб снабжению предметами первой необходимости, подвозить вам махорку. Курение вовсе не необходимо для здоровья и даже вредно. Оно, как и водка, снижает трудоспособность. В колдоговоре не указано, что снабжение махоркой входит в обязанность работодателя.
– Значит, плохо составляли, надо поставить, – бросил с места мужик с рыжей бородой.
– Шибко о нашем здоровье заботятся. На прошлой неделе чай не выдали, тоже вредно. Скоро скажут по-учёному, что рабочему человеку и есть вредно.
Гармонист в углу вызывающе пиликнул два такта на гармошке.
– Суки, а не рабочие! – сказал вслух не то себе, не то Четверякову Теплых.
– Снабжать вас продуктами строительство обязано и снабжает. Не было ещё дня, чтобы оставили вас без еды. Если б управление захотело исполнять ваши капризы и ввозить вместо продуктов махорку, вы сегодня бы сидели без обеда. Считаю, что дискуссии на эту тему неуместны. О всех недостатках снабжения сможете высказаться на собрании. Теперь рабочее время, и все должны немедленно встать на работу.
– Не говори! – меланхолически бросил парень в синей майке. – Махорку дашь – пойдём!
– А ты почём можешь знать – нужна махорка рабочему человеку али нет, раз сам некурящий?
По всему бараку покатился хохот.
Гармонист восторженно брякнул на гармошке целый куплет.
– Это что такое? – раздался грозный голос у входа.
В дверях стоял Ерёмин.
Четверяков подошёл к нему вплотную.
– Рабочие бузят, не получили махорки, не хотят идти работать. Я их пробовал уговаривать – не слушают. Может быть, вы, Николай Васильевич, их образумите? Вы с ними умеете говорить. А меня ждут в конторе…
Не дожидаясь ответа, Четверяков быстро вышел из барака.
– Это ещё что такое? – грозно повторил Ерёмин.
Гармонист приумолк.
– Что вы тут за бузу затеяли? На работу не выходить? Прогуливать? Кулацкие подголоски вас тут подкручивают, а вы, как стадо баранов, против строительства идёте, против советской власти? Не дашь вам махорки, так вы и работать не будете?
– И не будем. Не дашь махорки – не будем.
– Да нет сейчас махорки, говорят вам! Всю выкурили! Откуда я вам возьму?
– Поищи – найдёшь.
– Где ж это прикажешь искать?
– У себя на квартире поищи, – небось чемодан папирос найдёшь.
– Мы не гордые, мы и папиросы покурим.
Ерёмин побагровел.
– Ах вы… да вас разогнать мало!
– Не торопись – сами уйдём.
– Поработали и хватит, пущай другие!
– Вы за пачку махорки советскую власть продадите! – кричал Ерёмин. – Мы на фронте, когда с белыми дрались, листья дубовые курили, тогда махорки не было!
– Ты тут сначала дубки посади, может и мы покурим, а то листика одного окрест днём с огнём не отыщешь. Из верблюжьего дерьма, разве что, цигарки крутить прикажете?…
Как приехал агроном
За коровьим дерьмом,
Не найдёт нигде никак —
Раскурили на табак… —
брякнул восторженно гармонист.
Барак одобрительно заржал, и подзадоренный гармонист, развернув гармонь веером, затянул во всю глотку:
Курил барин с псом сигары,
Пришла революция,
Нынче барин хвост коптит,
А собака куцая.
Кларк, задержавшийся у входа, молчаливо наблюдал за всей сценой.
– Вы, наверное, удивляетесь, что здесь происходит? – обратилась к нему Полозова. – Рабочим с вашего участка не привезли махорки, и они не хотят поэтому выйти на работу.
– Это рабочие с того участка, на котором я буду работать? – переспросил Кларк.
– Да, видите, какая неприятность сразу, при первом знакомстве.
Кларк растерянно провёл рукой по волосам. Ещё по дороге он много думал о том, какими средствами вернее всего он сможет приобрести необходимый авторитет среди подчинённых ему рабочих, установить принятые в этой стране товарищеские отношения, сохраняя надлежащую дистанцию. Неожиданный инцидент путал все обдуманные планы и, с другой стороны, создавал непредвиденную возможность каким-то удачным жестом сразу же приобрести расположение рабочих. Если сейчас он не решится на что-нибудь особенное, другой такой случай вряд ли скоро подвернётся.
Он нагнулся к Полозовой:
– Скажите, это не будет неудобно, если я попытаюсь с ними поговорить? Поскольку это рабочие с моего участка…
– Вы? А знаете, это неплохая идея!.. Товарищ Ерёмин, мистер Кларк хочет сам поговорить с рабочими своего участка. Это наверняка произведёт впечатление. Как вы думаете?
– Американец? А ну, валяй, пусть попробует.
– Давайте, мистер Кларк. Это будет очень хорошо.
Полозова выступила вперёд.
– Товарищи, к нам на строительство приехал из Америки инженер Кларк, который будет у нас здесь работать на первом участке. Он хотел бы сказать вам несколько слов и просит минуту внимания.
Гармошка умолкла.
Рабочие поднялись и присели на нарах, дальние придвинулись ближе, присматриваясь к гостю в куцых штанах. Водворилась тишина.
– Говорите, – толкнула Полозова Кларка.
Кларк смущённо откашлялся и сказал негромко по-английски:
– Рабочие, я понимаю, что без табаку курящему человеку трудно. Но ведь оттого, что вы не будете работать – ничего не изменится. Табак от этого не появится, а работа будет стоять. Будьте благоразумными не создавайте затруднений для администрации. Я присутствовал вчера на совещании, где говорилось о вопросах транспорта, и знаю, что временные затруднения со снабжением вызваны не недосмотром, а действительно физической невозможностью обслужить все области строительства при помощи очень ограниченного транспортного парка. Не создавайте лишних трудностей и выйдите на работу…
Он умолк, хотел ещё что-то сказать, но позабыл, смущённо откашлялся и не сказал больше ничего.
– Товарищи! – подумав минуту, перевела Полозова. – Инженер Кларк говорит, что у себя на родине, в Америке, он много слыхал о русских рабочих, которых американский пролетариат рассматривает как своих учителей, показавших рабочим всего мира, как надо делать революцию и как надо защищать её завоевания. Поэтому он говорит, что первая встреча с русскими рабочими принесла ему большое разочарование. Инженер Кларк говорит, что если все русские рабочие так же понимают свой долг перед революцией, то с такими рабочими социализма не построить. О том, что он здесь слышал и видел, ему стыдно будет рассказать американским рабочим.








