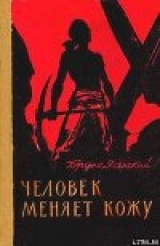
Текст книги "Человек меняет кожу"
Автор книги: Бруно Ясенский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 39 страниц)
Глава четвертая. (Продолжение)
– Значит, по-твоему, Мирзу Фаткулу убили в семнадцатом году? – следователь откинулся на спинку кресла и, прищурясь, смотрел на Уртабаева.
– На моих глазах было. А вы разве не знаете?
Джабари молча пожевал ус.
– Мирза Фаткула Махмудов жив и в добром здоровье. Позавчера приехал. Узнав случайно о твоём деле, приходил о тебе хлопотать.
– Не может быть!..
– Говорят, что разыскивал тебя повсюду, справлялся в медресе. Узнал, что ты бежал, а куда бежал, никто сказать ему не мог.
– Неужели он действительно жив?
– Говорю – жив, значит жив.
– И с нами?
– Как же, член партии. Не в пример многим другим джадидам, прошёл с нами весь путь с первых же дней. Случалось, покачивался вправо, – нет-нет да и вылезет из него буржуазно-демократическая закваска, – но, в общем, быстро выправлялся. Здорово помогал нам в борьбе с нынешней националистической контрреволюцией, – знает всю их подноготную. Ты его брошюру о джадидах читал? Хорошая брошюрка. Он там очень метко, в одной фразе, весь джадидизм охватил. Говорит: джадидизм – это такой охотник, который целился в куропатку, а попал в медведя, да сам так испугался, что бросил ружьё и убежал. Хорошо сказано, а? Метили в либеральную конституцию, а попали в социалистическую революцию! Только насчёт «бросил ружьё» это у него старая ошибка. Недооценивает он их контрреволюционной роли на нынешнем этапе. Но, в общем, преданный мужик, за партию голову отдаст… Подожди, сейчас узнаем, обещал сегодня зайти. Обязательно с тобой хотел повидаться.
Джабари нажал кнопку.
Вошёл секретарь.
– Товарищ Махмудов не заходил?
– Только что пришёл. Позвать?
– Позовите.
На пороге стоял Мирза Фаткула.
– Здравствуй, домулло! Вот встреча, а? – Фаткула обеими руками тряс руку Уртабаева. – Не ожидал? Выходит, теперь моя очередь выручать тебя из беды. А знаешь, ей-богу, ты мало изменился! Разве только луковицы на голове нет, да седеть стал немножко. Что же ты на меня уставился? Не узнаёшь? Постарел, видно, крепко? Время бежит! Разве за ним угонишься? Встреться мы с тобой на улице, ты бы меня, пожалуй, и не узнал.
– Нет, вы не очень изменились. – Уртабаев не спускал глаз с Фаткулы, – а узнать бы вас всё-таки не узнал. Просто никак не рассчитывал встретить в живых. Я и сейчас не совсем понимаю. Как же это могло случиться? Неужели вы выбрались тогда живым?
– А вот посмотри хорошенько, пощупай.
– Да, я вижу. Только глазам не верится. Ведь этими же глазами я видел, как вас выволокли во двор и исковеркали.
– Ты думаешь, там, в твоём медресе? А, это была забавная история! Значит, ты видел, как ему глаз выдрали?
– Кому ему?
– Подожди. Джабари не знает, в чём дело. Думает, верно, мы оба с ума сошли. Надо ему рассказать. Здравствуй, старина! Я с тобой и поздороваться забыл. Понимаешь, в чём дело?
– Нет, пока что не понимаю, – покачал головой следователь. – Уртабаев, видно, тоже не понимает.
– Как он меня спрятал у себя в келье, я тебе рассказывал. Помнишь? Ну вот, когда муллы ворвались в медресе, он мне говорит: «Беги в келью мудариса, там никого нет». Я, не долго думая, – туда! Вбегаю по лестнице, лестница узенькая. Келья – крошка, шага четыре, темновата. Смотрю, в углу на подушках человек лежит, в белой луковице, ишан или мулла, борода чёрная, а туфли на нём афганские – носок рогулькой. Я растерялся, назад податься некуда. Пригляделся: ишан мой спит, похрапывает. А в том углу кельи – низенький проход, наверно в другую келью. Я туда на карачках и пополз. Уйма одеял – спальня. Зашился в угол, навалил на себя кучу одеял и подушек, лежу. Слышу, в соседней келье – шум, крик, возня. Потом всё утихло. Лежу, не шевелюсь. Кто-то вошёл в келью. Опять ушли. Тихо. Лежал, лежал, наконец думаю: будь что будет, всё равно мне здесь не ночевать. Мударис вернётся, подымет шум. Надо убираться. Нарядился я в ректорский халат до пяток, чалму другую накрутил и помаленьку выглядываю. Первая келья пустая – бородатого нет. Только от чайника черепки валяются и одеяла крепко потоптаны. Я – на лестницу, с лестницы во двор. Пусто. Запахнул халат, чалму на нос надвинул и потихоньку, не спеша – к воротам. Иду, туфлями шаркаю, не оглядываюсь. Вышел из ворот, свернул в первую уличку и – бегом! Пробрался в безопасное место, а сам всё ещё себе не верю: как это мне удалось выбраться? Дня через два зашёл ко мне один товарищ, тоже из джадидов. «Знаешь, – говорит, – третьего дня, когда эмир с Миллером хотели угробить нашу делегацию, толпа мулл в погоне за одним джадидом ворвалась в медресе Мир Араб и вместо джадида исковеркала одного крупного афганского ишана. Тот из Кабула приехал, остановился у ректора медресе. Говорят, приехал с секретным поручением к эмиру. Муллы второпях приняли его за переодетого джадида, выволокли из кельи, намяли ему бока и один глаз выдрали. До смерти забили бы, если б не распознал его один домулло. Ишан подал жалобу эмиру. Эмир, говорят, велел его перевести в свой дворец, вызвал медика из русского резидентства и следствие назначил. Выжить, кажется, выживет, но глаза не вклеят. Будет всегда носить на морде памятку о джадидах…»
Джабари взглянул на Уртабаева и перестал смеяться. Лицо Уртабаева было налито кровью.
– Глаз выдрали, говоришь? Один глаз? – спрашивал он, дыша в лицо Фаткуле.
– Что ты, обалдел? Что с тобой?
Уртабаев отошёл к открытому окну.
Джабари и Фаткула переглянулись. Следователь постучал по лбу.
Когда Уртабаев повернулся, его лицо было опять спокойно. Он подошёл вплотную к столу.
– Я могу, конечно, ошибаться, – сказал он очень внятно, не своим голосом, смотря в упор на Джабари. – Я, конечно, могу ошибаться… Но вы меня сегодня спрашивали – не встречался ли я где-нибудь раньше с Ходжияровым? Мне кажется, что я с ним встречался. Только это было очень давно, и у него тогда были оба глаза. И мне потому никак не приходило в голову, что если бы Ходжиярову подстричь бороду и вставить другой глаз, он стал бы очень похож на ишана Халика Валид-и-Умар.
Известие о смерти Синицыной привёз на строительство бухгалтер Осип Викентьевич, случайно возвращавшийся из Ташкента одним поездом с Синицыной и Уртабаевым. Об Осипе Викентьевиче говорили, что в старое время был он управляющим в большом княжеском имении. Скрыть это, впрочем, Осип Викентьевич и не пытался: вид его, короткий, усатый и румяный, подтверждал это красноречивее старой фотографической карточки.
О сенсационном происшествии Осип Викентьевич первым делом рассказал в кругу семьи и подоспевших сослуживцев. Из рассказа, во-первых, явствовало, что жена Синицына сбежала к Уртабаеву, во-вторых, что Уртабаев наутро выгнал её вон, и, в-третьих, что Синицына, желая ему отомстить, кинулась на его глазах под колёса.
Все охали и ахали, а жена старшего бухгалтера громогласно заявила, что туда ей, шлюхе, и дорога: бросать такого мужа для какого-то таджика или узбека! В этом месте она выразительно посмотрела на жену младшего счетовода, о которой поговаривали, что она крутит любовь с завкооперацией, таджиком Умаровым.
Наспех поужинав, Осип Викентьевич собрался к Синицыну сообщить печальную новость и первым выразить своё соболезнование. Он хотел было идти не переодеваясь, чтобы кто-нибудь из приезжих не опередил его, но жена настояла – обязательно надеть чёрный праздничный костюм: во всём мире принято выражать соболезнование в трауре.
Осип Викентьевич обдумал дорогой всё, что полагается говорить в подобных случаях, но, очутившись перед Синицыным, забыл. Он вытер платочком усы и, не будучи в состоянии вспомнить заготовленную вступительную фразу, начал со второй:
– Разрешите, Владимир Иванович, мне, как служащему человеку, хотя и беспартийному, но преданному делу построения социализма, выразить вам своё глубокое соболезнование по поводу постигшего вас несчастия…
Синицын насторожился.
Осип Викентьевич вытер платком лоб. Определённо начал не с того конца!
– Земля дала, Владимир Иванович, земля взяла, – ляпнул он залпом приготовленную заключительную фразу. В такой редакции фраза должна звучать вполне материалистично и без религиозных предрассудков.
– Я вас не понимаю, – насупился Синицын. – О чём вы говорите?
– О безвременной кончине супруги вашей, блаженной памяти… то бишь всеми нами любимой Валентины Владимировны…
Лицо Синицына дрогнуло.
– Кто вам сказал об этом?
– Сам видел, Владимир Иванович, свидетелем несчастья случайно оказался. Одним поездом из Ташкента ехали.
– Когда это было?
– Три дня тому назад, Владимир Иванович, вечером семнадцатого числа у станции Урсатьевская, не доезжая разъезда.
Синицын отвернулся.
Осип Викентьевич помолчал.
– Ехали мы… как раз спать собрались ложиться. Вдруг поезд затормозили. Человек, говорят, выпал. Как случилось, и сам не пойму. Говорят, вышла подышать свежим воздухом на площадку. Поезда, какие у нас теперь, сами знаете, трясут, как кулацкая бричка… Много ли надо хрупкой женщине? Рвануло покрепче – и нет.
– Мучилась? – тихо спросил Синицын.
– Вот одно утешение, что не мучилась. В промежуток между вагонами спрыгнула, и сразу – голова напрочь. А то другой, бывает, попадёт неудачно, – ноги, руки отрежет, и калекой нетрудоспособным на всю жизнь останется. А разве такому жизнь? Одно мученье!
– Да, да, спасибо вам…
– Осип Викентьич…
– Спасибо вам, Осип Викентьич, что сказали. До свидания, Осип Викентьич.
На работу Синицын явился в обычное время. В парткоме в этот день разговаривали вполголоса. Вечером Синицын долго ходил по участку и вернулся домой часов в одиннадцать. Живущий через стенку Андрей Савельевич слышал долго в ночь, как секретарь расхаживал по комнате. Потом скрипела отодвигаемая мебель. Потом и это прекратилось.
Отодвинув кровать, Синицын пробрался в угол. В углу стояла портативная машинка старой конструкции, купленная по случаю в Бердичеве в 1920 году – подарок Владимира Валентине, – и небольшой Валин чемодан. Синицын открыл чемодан. Тут были старые вещи Валентины, она их не носила последние годы. Синицын вытаскивал осторожно, одну за другой. Юбка, платок, джемпер. Он долго рассматривал узенькое фланелевое платьице. В этом платье он увидел впервые Валентину в восемнадцатом году в Самаре. Ни в одном наряде она не казалась ему такой красивой. По его настоянию Валентина не выкидывала этого платья, хотя оно ей давно стало узко.
На дне чемодана лежали письма, бумаги, фотографии. Он выложил всё это на одеяло и стал неторопливо разбирать. Две старые фотографии Валентины он спрятал в бумажник. Фотографии мужчин и две-три группы он положил отдельно и принялся разбирать письма. Большинство писем было адресовано Валентине различными мужскими почерками. Не открывая конвертов, он откладывал их в сторону. Были письма и без конвертов, начинавшиеся словами: «Дорогая Валя!», «Любимая Валя!», просто «Дорогая!», просто «Любимая!». Он откладывал их не читая. Разобрав все письма, он завернул их в газету вместе с кучкой фотографий и понёс в печку. Спички тухли, отсыревшая бумага не загоралась. Наконец газета вспыхнула. Он ждал, пока не почернеет последний белый клочок, и только тогда вернулся к чемодану.
Осталось несколько листков, исписанных рукой Валентины: какие-то адреса, какие-то билеты, какие-то тезисы, конспект какого-то доклада. Три листа были напечатаны на машинке. Листы были датированы разными числами: один – 21-м годом, другой – 23-м, третий – 30-м.
Синицын взял первый листок.
7. VII.1921 г. Задумала писать дневник. Раньше такая мысль никогда, пожалуй, не пришла бы мне в голову. Когда всё ясно и понятно, незачем затевать длинные разговоры ни с другими, ни тем более с самим собой.
Ещё полгода тому назад слово «сомнения» вызывало у меня снисходительную улыбку. В моём словаре пришлось бы искать его на букву «М»: мелкобуржуазные сомнения. Возможно, моё сегодняшнее настроение тоже исчерпывается этим термином. Легче почему-то применять эпитет «мелкобуржуазный» к другим, чем к самому себе.
Иногда жалею, что кончилась война. На фронте всё было удивительно просто: победить или погибнуть. Если бы там кто-нибудь сказал мне, что можно выиграть войну и тем не менее проиграть революцию, – я бы восприняла это как плоский контрреволюционный парадокс. А ведь существует и такая возможность.
Иногда спрашиваю себя: неужели всё изменилось с этого случая на вокзале? Или я стала на всё смотреть другими глазами? Конечно, сам случай – пустяки. Конечно, задолго до этого я видела и гастрономические магазины, открытые для нэпманской публики, и ресторанчики с музыкой, и дооктябрьские масленые рожи, опять запрудившие улицы. Видела, но старалась не замечать. А вот после этого случая не замечать больше не могу. Это лезет в глаза.
Что думает Владимир? Думает ли он то, что говорит, или старается отвертеться готовыми фразами? Больше мы с ним к этой теме не возвращались. Тогда он нашёл, что я говорю, как все христианствующие. Я напомнила ему случай в Саратове, когда говорила как раз противоположное и он ответил мне той же готовой фразой. Нет, я не верю больше его фразам. Он просто боится додумать до конца и потому старается всячески загружать себя работой. Ответ надо найти самой. Никто мне его не подскажет. Пора начать жить своим умом…
Синицын отложил листок. Он хорошо помнил случай, о котором писала Валентина. Он вернулся тогда поздно вечером с работы, усталый и голодный. Её не было дома. Он вскипятил чай, достал хлеб, вытащил кусок колбасы (выдавали в тот день чайную колбасу) и принялся есть. Вошла Валентина. Она без слов сняла пальто и села в углу.
Он. Садись кушать. Наверное, проголодалась.
Она. Не буду есть.
Он. Почему?
Она. Так, не хочется…
Он. Что с тобой? Ты чем-то взволнована?
Она. Взволнована? Может быть. А ты ничем не взволнован?
Он. Нет, я просто устал.
Она. Знаешь, я только что видела, как на вокзале подобрали женщину с ребёнком. Оба умерли с голоду. Понимаешь? С го-ло-ду! Простая деревенская баба и грудной ребёнок.
Он. Наверное, беженцы из голодных районов.
Она. Ты считаешь, что это в порядке вещей?
Он. Что с тобой, Валя, Ну, успокойся. Конечно, это очень тяжело, но что же можно сделать? Пока не наладим транспорта…
Она. Ну да, причина всегда найдётся. Наладим транспорт… а пока давай кушать колбасу.
Он. А если мы тоже не будем есть, то от этого что-нибудь улучшится?
Она. Да, улучшится! Если не хватает для них, должно не хватать и для нас. Не кормите нэпманов! Будем есть все сухой хлеб. Но деревенская баба не имеет права умирать у нас с голоду! Для кого мы делали революцию, если не для неё?
Он. Революцию мы делали и для неё, и для себя. Не говори, как ребёнок. Вместо того чтобы проповедовать христианский аскетизм и посыпать голову пеплом, надо лучше работать и поскорее наладить у нас жизнь. Тогда ни один трудящийся не будет голодать. А если и наши работники повалятся от изнурения, кто за это будет драться? Разве твоя деревенская женщина.
Она. У тебя на всё один ответ. Помнишь, когда в Саратове забастовали рабочие, – им три дня не выдавали хлеба, – я сказала, что надо поставить перед заводом пулемёт и расстрелять их как предателей. Ты мне тогда ответил то же самое, что и сегодня, будто я требую от людей какого-то религиозного аскетизма во имя революции.
Он. Никакого противоречия между тем, что я говорил тогда и сейчас, нет. Рабочие правильно требовали от своей республики, чтобы она накормила их семьи. Неправильно было то, что они подставляли ей ножку, не учитывая временных затруднений. Нужно было только объяснить им эту простую вещь, и они все стали на работу. А ты требовала от них отречения во имя революции, так же как требуешь его сейчас, в несколько другой обстановке, – всеобщего христианского уравнения перед лицом наших неполадок.
Он говорил ещё долго, объяснял, приводил примеры и, казалось, убедил её, поскольку к этому вопросу в разговорах с ним Валентина больше не возвращалась.
Синицын взял следующий листок, помеченный 11 мая 1923 г.
ткпткпкхкткптктпкптктпктпкитррятфккнтногхринпстп
Давно не писала на машинке. Надо прочистить буквы. Машинка чихает и кашляет.
На дворе весна. ВЕСНА. ВеСнА. Хорошо! Сегодня еду в Крым. В КРЫМ. На целых шесть недель! Н. едет тоже. Люблю Н. А может, не люблю? Нет, люблю. Кажется, люблю. Раз кажется, значит люблю. Все любят, а когда перестают любить, тогда им кажется, что им казалось. Всё это пустяки. ПУСТЯКИ. Вот уже два месяца, как длится наш роман. Роман? За целых два месяца мы ни разу не могли остаться наедине. У него дома – жена, ребятишки. У меня – невозможно, кругом знакомые Володьки. Надоело вечно встречаться на улице или в кино. НАДОЕЛО. Н. достал двухместное купе в международном. Володька достал для меня броню в мягком. Обязательно хочет меня проводить на вокзал. Ну и что же, пожалуйста! Пересяду дорогой.
Володька очень ласков. Сам выхлопотал путёвку. Радуется: наконец отдохну и поправлюсь. Заботливость Володьки портит мне настроение. Может быть, нехорошо, что его обманываю? Может, следовало бы рассказать обо всём? Рассказать – значит разойтись. Нужно ли это делать сейчас? Во-первых, не знаю ещё сама, люблю ли наверное Н. и буду ли с ним жить. Во-вторых, думает ли об этом Н.? У него жена, дети. Никогда мы с ним на эту тему не говорили. Поживём в Крыму, там видно будет. И потом, что значит «обманываю»? Что я – собственность Володькина? Неужели мне нельзя любить никого, кроме него? Пустяки. Буржуазные предрассудки. Катехизис. Делаю, что хочу, и буду делать, как мне удобнее. Володька сам больше страдал бы, если б я ему сказала, что от него ухожу. Зачем причинять ему боль? В конце концов факт, о котором не знаем, не существует. Володька сам как-то говорил по поводу Астафьевой, поведением которой возмущались наши товарищи, что женщина свободна делать то, что хочет: если они продолжают жить вместе с Астафьевым, это доказывает только, что их сожительство основано на чём-то гораздо более прочном, нежели простое физическое влечение.
Да, да, да! В конце концов революция – это не великий пост, а коммунизм – не монашеское отречение от благ жизни. Наоборот, это – борьба за то, чтобы не кучке привилегированных, а всем, всем, всем жизнь давала больше радости и наслаждения. Наше поколение отдало этой борьбе свои лучшие годы: пять лет лишений и отказа от всего. Пять лет, на проценты от которых будут жить будущие поколения. Так неужели мы не вправе выжать из нашей жестокой действительности для себя даже ту каплю радости, которую можем в ней найти? Пустяки! Что ж это выходит, как у Горького: для лучшего человека живём? А откуда я знаю, что будущий человек будет лучше? И что он не будет думать обо мне со снисходительным сожалением: вот дура была!
Я рада, что мои взгляды совпадают со взглядами Н. Пусть он только беспартийный спец, но в вопросах личной жизни он мыслит гораздо, больше по-коммунистически, чем Володька с его восьмилетним партстажем.
Ну, пора собираться. Скоро придёт Володька паковать мой чемодан.
Синицын взял последний густо исписанный лист.
Хорог. 16 ноября 1930 г.
Давно не писала. Писем посылать некому. Попробую немного размять пальцы. Совсем разучилась быстро писать. Надо будет в течение этой зимы поупражняться. Буду писать дневник. Начинала уже по крайней мере пять раз и никогда не напечатала больше одной страницы. Не хватает усидчивости. Тут, пожалуй, от одной скуки можно сделаться писательницей.
Итак, начнём с сегодняшнего дня. Почему именно с сегодняшнего? Не прикидывайтесь, Валентина Владимировна. Знаете хорошо – почему. Сегодня вам стукнуло тридцать три года. Да, да. Ровно тридцать три. Сегодня вы пробовали подсчитывать на пальцах и хотели обмануть себя, что получается только тридцать два, но ничего не вышло. Тридцать три. Точнее: один день тридцать четвёртого. Да-с!
Ровно два месяца тому назад в этот же день вы уезжали из Хорога с Муриным. И ровно месяц тому назад расстались с ним в Сталинабаде. Тоже шестнадцатого. Совпадение. Признайтесь, что, уезжая отсюда два месяца тому назад, вы не полагали, что сегодня будете сидеть опять на этом самом месте. Правда, вы говорили для приличия и Володе, и товарищам, и даже самому М.: еду в Сталинабад. А про себя думали: значительно, значительно дальше! И насовсем. Вы спрашиваете: почему же, если не по собственной воле, вы вернулись? Ведь М. уговаривал вас ехать с ним в Москву. Милая Валентина Владимировна! Я ведь – единственная женщина, которая любит вас крепко и по-настоящему. Разрешите потому ответить вам без фокусов. Вы – умная баба и вы хорошо знаете, как уговаривают, если хотят с вами строить свою жизнь и если иначе, как с вами, этой жизни не мыслят. Одно дело, милая Валентина Владимировна, приехав с экспедицией на Памир, закрутить на крыше мира роман с интересной и неглупой женой секретаря обкома. Это и приятно и пикантно. А совсем другое дело пускаться с нею в любовное плавание в Москву. Вы достаточно музыкальны, чтобы уловить, что уже в Сталинабаде М. говорил о вашей будущей совместной жизни октавой ниже, чем в Хороге. Конечно, он предлагал вам ехать с ним дальше, как это сделал бы на его месте каждый воспитанный мужчина. Но вы не станете утверждать, будто он очень уж настойчиво пытался переубедить вас, когда вы ему сказали, что вернётесь в Хорог. За что я вас люблю и уважаю, милая Валентина Владимировна, так это за то, что вы умеете в таких случаях не оттягивать неприятного решения. Когда М. проснулся и узнал, что вы уехали одна верхом в Хорог, он, наверное, хорошо думал о вас в это утро.
И вот опять в Хороге. Вы загнали лошадь, но зато успели до закрытия перевалов. Надо было быть всё-таки более предусмотрительной и не затягивать так долго своего пребывания в Сталинабаде…
Пришлось прервать писание, заходил Володя. Я так неловко заслонила собой машинку, что он повертелся по комнате и сейчас же ушёл. Наверное подумал, что я пишу письмо М. Как глупо!
Володька, ясно, догадывается о моём романе с М. Он мне не говорит об этом ни слова, но когда я вернулась, он с такой радостью и удивлением сказал: «Ты приехала?», что мне стало ясно: он не ожидал моего возвращения. Я впервые немного смутилась. Он понял и смутился тоже. И сейчас же стал поправляться: «Не рассчитывал, что ты успеешь до закрытия перевалов». Больше мы на эту тему не говорили. Он все эти дни очень ласков и старается меня чем-нибудь развлечь. Он понимает абсолютно всё и жалеет меня. Это угнетает меня хуже всего. Если б он после моего приезда выгнал меня вон, бил бы головой об стену, я или ушла б от него навсегда, или вернулась бы, выплакалась и просила бы прощенья. Но он не говорит ничего. Он будет притворяться, что ничего не знает, как притворялся и в случае с К., и в случае с Ф., и, наверное, во многих случаях. Будет лгать и заставлять лгать меня, Потому что я первая никогда с ним об этом не заговорю.
Как-то раз, ещё в Харькове, он сказал мне, что я – человек свободный и он не имеет права оказывать никакого давления на мою личную жизнь. Он считает, что этого требует коммунистическая этика, что так должен поступать по отношению к женщине, с которой живёт, новый, социалистический человек. Может быть, действительно в социалистическом обществе люди будут так жить, не страдая и не ревнуя друг друга. Может быть, действительно между мужчиной и женщиной выработаются другие, особые отношения, – товарищества и дружбы, которые до сих пор бывали только между мужчинами. Всё это очень возможно, но это – дело воспитания ещё нескольких поколений в совершенно новых условиях, не похожих на те, в которых росли и воспитывались мы. Сегодня ещё таких отношений нет и не может быть. И каждому стопроцентному коммунисту, который будет уверять, что он любит человека, с которым живёт, и что ему безразлично с кем ещё, кроме него, спит и путается этот человек, – я скажу просто: он врёт и играет комедию.
Если б я знала, что Володька не любит меня как женщину, а просто дружит со мной и не хочет разлучаться как с близким товарищем, с которым прожил долгие годы, – в этом не было бы ничего удивительного. Но я ведь знаю, что это не так. Я знаю, что он любит меня именно и прежде всего как женщину. Я не маленькая, чтобы не различать таких вещей. Я знаю, что он любит меня и ревнует, как ревновал бы на его месте каждый нормальный мужчина. Пока я была уверена, что он не догадывается о моих похождениях, врать ему не представляло никакой трудности. Но врать, когда знаешь, что человек догадывается абсолютно обо всём и сам помогает тебе лгать, становится уже глупо и дико.
Я знаю, что Володька слишком честен, чтобы согласиться на такое положение вещей сознательно: он играет комедию не только передо мной, но перед самим собой. Он создал себе всю эту ультракоммунистическую теорию невмешательства в мою личную жизнь и хочет убедить себя, что мучается именно во имя этой новой, социалистической этики. Страдания, которые вызывает в нём ревность, окупаются для него сознанием, что он поступает благородно и по-коммунистически. Если бы кто-нибудь сказал ему: «Ты терпишь все это только потому, что боишься её потерять, боишься, что не сможешь больше обладать ею», – он, наверное, назвал бы его пошляком.
И он подсознательно, но хорошо рассчитал. Первые годы после того, как я перестала его любить, его невмешательство и молчание были мне просто удобны. И я не думала уходить от него. Теперь, когда я знаю, что он давно догадывается обо всём, обманывать его становится с каждым днём неприятнее и труднее. Но в тридцать три года бросать всё и начинать новую жизнь можно только, если встретится уж очень большая любовь. Инерция прожитых лет приковывает к месту.
Вот и остались мы опять вдвоём, отрезанные от мира на восемь месяцев снеговыми перевалами, – честный, образцовый коммунист и его беспутная жена, – играть длинными зимними вечерами: я – верную, никогда не изменявшую ему подругу, он – благородного социалистического мужа, выкорчёвывающего из своего сознания буржуазные пережитки мужского собственничества и плотской ревности.
Покойной ночи, Валентина Владимировна!
В четвёртом часу утра настойчивый стук в дверь разбудил Комаренко. Уполномоченный натянул сапоги и, накинув халат, пошёл отпереть. На пороге стоял Синицын.
– Можно к тебе? Я тебя разбудил?
– Заходи, заходи. Пройди прямо в кабинет. Зажги там электричество. Я малость приоденусь и сейчас приду. Где ж это ты запылился? Пешком шёл, что ли?
– Да, пешком. Хотел немного пройтись.
– Хорошенькое немного! Ну, заходи, я сию минуту.
Через минуту он действительно появился, застёгивая китель.
– Ты меня извини, что я так ночью… – пробовал улыбнуться Синицын. – Мне с тобой поговорить надо.
– Садись. На, закуривай, слушаю.
– Понимаешь, я пришёл дать тебе показание… Я убил человека.
– Кого это? Когда?
– Жену убил.
Уполномоченный внимательно посмотрел на Синицына.
– Что это, ты бредишь? Плохо себя чувствуешь? Так бы сразу и сказал, подожди, я тебе сейчас вскипячу чайку, с коньяком, а? Попросим жинку, она это мигом.
– Спасибо, я не продрог. Пить не буду. Странный ты человек, Фёдор. Разве убийство должно быть обязательно собственноручным? Ведь я-то знаю, что её убил. А сказать об этом – не поверят. Вот почему и пришёл к тебе. Понимаешь, рассказывать тут трудно. Расскажу, – может, не поймешь. На, прочти, вот это, – он протянул густо исписанный лист.
Комаренко внимательно прочёл листок и вернул его Синицыну.
– Ну вот, видишь, – Синицын сунул лист в карман. – Что мне делать, а? Понимаешь, не к кому обратиться. Пришёл к тебе за советом.
– Преувеличиваешь ты, брат, здорово. А впрочем тебе видней. Дело, конечно, сложное. В этой области у нас контрольная комиссия не работает. Тут тебе самому, надо.
– Что самому?
– Самому разобраться. У кого из нас старья этого самого нет? Гонишь его в дверь, оно в окно лезет. Кулак с тех пор, как подрубили корни, даже облик старый потерял, в колхозы пролез, стопроцентным строителем социализма прикинулся. Поди его разоблачи! То же самое, брат, и наш внутренний кулак, нутро наше старое. Только разоблачить его ещё труднее. Кажется тебе, вытравил его уже калёным железом, а он в подсознании где-нибудь сидит, переодевается. А высунет голову – не узнаешь. Под такую тебе социалистическую идею загримируется, что поди различи. Тут, брат, каждый – сам себе контрольная комиссия.
– Но ведь я же человека убил!
– Это ты загибаешь. Нервы у тебя разгулялись. Никого ты не убивал, а просто чувствуешь себя виноватым. Чего ж тебе надо? Чтобы тебя другие наказывали? Вроде как отпущение грехов? Наложили епитимию, отработал – и чист? Тут, брат, самому поработать над собой нужно. Только без истерики, а спокойно, по-большевистски. Что ж я тебе сказать ещё могу?
– Да, конечно, что ж ты мне можешь сказать? Самому надо… Ну, спасибо и на этом.
– Подожди, чай сейчас будет. Не валяй дурака! Никуда тебя не отпущу. Попьёшь чайку, отогреешься, потом подвезу тебя на машине.
– Нет, не надо, спасибо. Пройдусь… Как это ты говоришь? Дай бог всякому!








