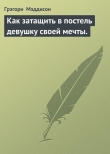Текст книги "Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии"
Автор книги: Бруно Латур
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Эта коперниковская контрреволюция сводится к изменению место положения объекта и подразумевает, что он оказывается выведен из области вещей-в-себе и помещен в коллектив, не будучи, однако, приближен к обществу. Для осознания этого смещения, этого нисхождения, исследование Мишеля Серра не менее важно, чем исследование Шейпина и Шэффера или книга Эньона. «Мы пытаемся описать явление объекта – не только инструмента или красивой статуи, но, говоря онтологически, вещи вообще. Как же объект идет к человечности?» – пишет Мишель Серр в одной из своих лучших книг (Serres, 1987, р. 162). Но проблема состоит в том, что
…в книгах нельзя найти ничего, что говорило бы о первобытном опыте, в котором объект как таковой конституирует человеческого субъекта, поскольку книги пишутся для того, чтобы покрыть забвением именно этот опыт или закрыть доступ к нему, и потому, что дискурсы заглушают своим гулом то, что происходило в этой тишине (Ibid., р. 216).
Мы располагаем сотнями мифов, рассказывающих, как субъект (или коллектив, или интерсубъективность, или эпистемы) конструирует объект, – и коперниковский переворот Канта является только одним из длинной череды примеров. Однако у нас нет ничего, что рассказывало бы о другом аспекте истории: как объект создает субъекта. Шейпин и Шэффер имеют доступ к тысячам страниц архивов, касающихся идей Бойля и Гоббса, но в их распоряжении нет ничего, что касалось бы бессловесной практики использования воздушного насоса или тех навыков, которых она требовала. Свидетельства об этой второй половине истории формируются не текстами или языками, но молчаливыми и грубыми реликтами, такими как насосы, камни и статуи. И хотя археология Серра располагается на несколько уровней ниже, чем воздушный насос, он сталкивается с тем же самым молчанием.
Народ Израилев поет свои псалмы перед разрушенной Стеной Плача: от храма больше не осталось камня на камне. Что видел, что делал, что думал древний мудрец Фалес, сидя перед египетскими пирамидами, во времена столь же далекие от нас, каким для него самого было время Хеопса, почему он изобрел геометрию перед этим нагромождением камней? Весь исламский мир мечтает совершить путешествие в Мекку, где в Каабе находится черный камень. В эпоху Ренессанса нововременная наука рождается из падения камешков: камни падают на землю. Почему Иисус сделал основателем христианской Церкви человека по имени Петр? В этих примерах заложения фундамента я намеренно смешиваю религию и научное знание (Ibid., р.213).
Почему мы должны принимать всерьез такое скоропалительное обобщение всех этих окаменелостей, смешивающее черный камень Каабы с падением тел у Галилея? По той же самой причине, по которой я серьезно отнесся к работе Шейпина и Шэффера, «намеренно смешивающей религию и научное знание в примерах заложения фундамента» нововременных науки и политики. Они отяготили эпистемологию новым неизвестным актором, насосом, не вполне отлаженным и дающим утечки. Серр отягощает эпистемологию новым неизвестным актором, бессловесными вещами. Все эти исследователи делают это по одной и той же причине антропологического порядка: наука и религия оказались заново связаны вследствие глубокого существенного переосмысления того, что значит свидетельствовать и что значит подвергать испытанию. Для Бойля, как и для Серра, наука – разновидность судебного разбирательства:
На всех языках Европы, на севере, так же как и на юге, слово «вещь»– в какой бы форме оно ни существовало – имеет в качестве своего корня или источника слово «cause», взятое из области права, политики или критики в широком смысле. Как если бы сами объекты существовали только благодаря спорам, ведущимся в публичном собрании, или благодаря решению, вынесенному судом присяжных: Язык хочет, чтобы мир возникал только из языка. По крайней мере, он так говорит (Serres, 1987 р. 111).
Латинский язык называл вещь словом res, которое указывает на определенную реальность, а именно объект юридических процедур или сам судебный процесс, поэтому в античности обвиняемый назывался reus в силу того, что он вызывался магистратами в суд. Как если бы единственно возможная человеческая реальность возникала только из решений суда. <…> И вот мы в преддверии чуда и разрешения самой великой тайны. Слово «cause», указывает на корень или источник слова «вещь»: causa, cosa; так же как thing или Ding. <…> Суд устанавливает тождество cause и вещи, слова и объекта или переход между ними путем замещения одного другим. Вещь появляется именно там (Ibid., р. 294).
В этих приведенных выше цитатах Серр обобщил результаты, которые Шейпин и Шэффер получили с таким трудом: causes, камни и факты, никогда не занимают положения вещи-в-себе. Бойля интересовал вопрос, как прекратить гражданские войны. Он пытался найти ответ, настаивая на инертности материи, требуя, чтобы присутствие Бога не было непосредственным, создавая новое закрытое пространство в прозрачном колпаке, где существование пустоты стало бы очевидным. Отныне, говорит нам Бойль, никакое свидетельство, идущее от человека, больше не будет приниматься в расчет, ни один человек, выступающий в качестве свидетеля, не будет внушать доверия; теперь доверия будут заслуживать только показания нечеловеков и инструментов, подтвержденные людьми благородного сословия. Упорное накапливание matters of fact создаст основания для появления примиренного коллектива. Однако это изобретение фактов не является открытием вещей «там, снаружи», оно есть антропологическое создание, перераспределяющее Бога, волю, любовь, ненависть и справедливость. Серр именно это нам и говорит. Мы не имеем никакого представления о том, как выглядят вещи за пределами нашего суда, наших гражданских войн, вне наших судебных процессов и нашего суда. Без предъявления обвинений (accusation) у нас нет никаких оснований начать судебное дело (cause) и мы не можем приписать причины (causes) феноменам. Эта антропологическая ситуация не ограничивается нашим донаучным прошлым, она в большей степени принадлежит нашему научному настоящему.
Таким образом, мы живем в обществе, которое является нововременным не потому, что в отличие от всех остальных оно наконец освободилось от ада коллективных отношений, религиозного мракобесия, тирании политики, но потому, что, подобно всем остальным обществам, оно перераспределило обвинения, заменив одну вещь или дело (cause) – вещь судебную, коллективную, социальную – на другую вещь – научную, несоциальную, matter-of-factuaL Мы нигде не можем наблюдать объект и субъект, не можем наблюдать одно общество, которое являлось бы первобытным, и другое, которое было бы нововременным. Мы можем наблюдать только ряд замещений, перемещений, переводов, которые мобилизуют народы и вещи в постоянно увеличивающемся масштабе.
Я представляю себе как в самом начале проносится стремительный вихрь, где трансцендентальное конституирование объектов субъектом поддерживается, как будто в ответ, симметричным конституированием субъекта объектом, проходящим в молниеносных полуциклах, без конца возобновляемых и возвращающихся к своим истокам. <…> Существует объективная трансцендентальность, конститутивные условия субъекта, возникающие за счет появления объекта как объекта вообще. О противоположных или симметричных условиях, имеющих место в турбулентном цикле, у нас есть свидетельства, следы или рассказы, написанные на весьма недолговечных языках. <…> Но об условиях, непосредственно конституирующих сам объект, нам говорят осязаемые, видимые, реальные, прекрасные, молчаливые свидетели. Они неизменно присутствуют там, как бы мы ни приблизились к истокам этой словоохотливой истории или молчаливой предыстории (Serres, 1987 р. 209).
Серр в своем столь мало нововременном произведении представляет нам прагматогонию – столь же сказочную, какой была прежняя космогония Гесиода или Гегеля. Однако она становится возможной не благодаря метаморфозам или диалектике, но за счет субституций. Новые науки, которые отклоняются, трансформируются, примешивая коллектив к вещам, никогда никем не созданным, просто позже присоединились к этой длинной мифологии замен. Те, кто следуют за сетями или занимаются исследованиями науки, всего лишь документально фиксируют /7-ю петлю этой спирали, сказочное рождение которой описывает нам Серр. Нововременная наука – это способ продолжать то, что мы делали всегда. Гоббс создает политическое тело, исходя из одушевленных тел, взятых сами по себе: он остается с гигантской искусственной конструкцией, которую представляет собой Левиафан; Бойль сводит все разногласия гражданских войн к воздушному насосу: он остается на стороне фактов. Каждая петля спирали определяет новый коллектив и новую объективность. Коллектив, находящийся в постоянном обновлении, которое организовано вокруг вещей, в свою очередь, находящихся в постоянном обновлении, ни на мгновение не перестает эволюционировать. Мы никогда не покидали антропологической матрицы – мы все еще пребываем в темных веках или, если угодно, мы еще находимся в детстве мира.
Как только мы наделяем историчностью всех акторов, чтобы предоставить место умножению квази объектов, природа и общество существует уже не в большей мере, чем Запад и Восток. Квазиобъекты оказываются удобными и соотнесенными друг с другом ориентирами, которые люди Нового Времени используют для того, чтобы дифференцировать посредников, одни из которых именуются «природными», а другие – «социальными», тогда как третьи будут названы «абсолютно природными», а четвертые – «абсолютно социальными». Исследователи, склоняющиеся к левой части оппозиции, будут названы скорее реалистами, а те, которые склоняются к правой части, – скорее конструктивистами (Pickering, 1992). Те, кто хотели бы находиться точно посередине, изобретут бесчисленные сочетания, чтобы смешивать природу и общество (или субъект), чередуя «символическое измерение» вещей с «природным измерением» обществ. Другие, более империалистически настроенные ученые, будут пытаться натурализовать общество, интегрируя его в природу, или социализировать природу, заставляя общество (или, что еще труднее, субъект) ее усваивать.
И тем не менее эти ориентиры и дискуссии продолжают носить односторонний характер. Классифицировать совокупность единиц сущего при помощи одной-единственной линии, которая идет от природы к обществу, означает, быть может, то же самое, что составлять географические карты при помощи одной долготы, таким образом редуцируя их до одной-единственной линии! Второе измерение позволяет соотнести сущности с любой широтой и развернуть карту, на которую, как я об этом говорил выше, будут одновременно нанесены и нововременная Конституция, и ее практика. Как же мы введем этот эквивалент оси Север – Юг? Смешивая различные метафоры, я бы сказал, что ее надо определить как градиент, который фиксировал бы постоянное варьирование стабильности единиц сущего, начиная событием и кончая субстанцией. Мы все еще ничего не знаем о насосе, когда говорим, что он – представитель законов природы, или представитель английского общества, или следствие приложения первого ко второму, или наоборот.

Схема 9
Нам необходимо еще выяснить, идет ли речь о механическом насосе – как событии XVII века или о насосе как приобретшей устойчивость сущности XVIII или XX века. Степень стабилизации – координата широты – здесь столь же важна, как и положение на линии, идущей от природного к социальному, – координата долготы.
Таким образом, онтология медиаторов способна изменяться. Слова, сказанные Сартром о людях, – а именно то, что их существование предшествует их сущности, – надо сказать обо всех актантах: как о сопротивлении воздуха, так и об обществе, как о материи, так и о сознании. Нам нет нужды выбирать между вакуумом п°5, действительностью внешней природы, сущность которой не зависит от человека, и вакуумом п°4 – репрезентацией, для определения которой западным мыслителям потребовались целые столетья. Или скорее мы сможем выбрать между двумя субстанциями только тогда, когда они будут стабилизированы. О самом нестабильном вакууме п°1, полученном в лаборатории Бойля, мы не можем сказать, является ли он природной или социальной сущностью, но знаем только то, что он искусственным образом возникает в лаборатории. Вакуум п°2 может быть артефактом, изготовленным человеческими руками, пока он не превратится в вакуум п°3, который начинает становиться реальностью, ускользающей от человека. Что же тогда вакуум? Ничто из вышеперечисленного. Сущность (essence) вакуума – это траектория, соединяющая все эти позиции. Иначе говоря, сопротивление воздуха имеет свою историю.
Каждый из актантов обладает единственным в своем роде следом в пространстве, которое таким образом разворачивается. Чтобы их очертить, нам не надо строить никаких гипотез о сущности природы или общества. Наложите все эти следы друг на друга – и вы получите очертания того, что нововременные, стремясь к обобщению и очищению, ошибочно называют «природой» и «обществом».
Но если мы спроецируем все эти траектории на одну-един-ственную линию, соединяющую бывший полюс природы и бывший полюс общества, то мы здесь уже ничего не поймем. Все точки (А, В, С, D, Е) будут спроецированы на единственную широту (А' В’, С D', Е'), и центральная точка А окажется локализованной на месте бывших феноменов, где, если следовать нововременному сценарию, уже ничего не может произойти. Располагая этой единственной линией, реалисты и конструктивисты смогут до бесконечности спорить об интерпретации вакуума: первые будут утверждать, что данный реальный факт не был никем создан, вторые – что данный социальный факт мы создали своими собственными руками; сторонники золотой середины будут балансировать между двумя смыслами слова «факт», используя к месту или не к месту формулу «не только, но и…». Дело в том, что сама фабрикация этого факта располагается ниже этой линии и представляет собой работу медиации, видимую только в том случае, если мы принимаем в расчет также степень стабилизации (В’, С D', Е’).
Великие массы природы и общества можно сравнить с континентами, образованными застывшими тектоническими породами. Если мы хотим понять их движение, нам надо спуститься в дышащие огнем расщелины, откуда вырывается магма, из которой, по мере ее охлаждения и постепенного наслаивания, значительно позже и значительно выше возникают две материковые поверхности, опираясь на которые, мы сможем твердо встать на ноги. Подобным образом мы должны спуститься и приблизиться к тем областям, где осуществляются смешения, которые станут, но только гораздо позже, природой или социальным. И разве слишком много будет потребовать от наших споров, чтобы, начиная с этого момента, мы наряду с долготой обсуждаемых единиц сущего точно указывали их широту и рассматривали все сущности (essences) как траектории?
Теперь мы лучше понимаем парадокс нововременных. Используя одновременно работу медиации и работу очищения, но давая представительство только второй, они в то же время играли на трансцендентности и имманентности двух инстанций – природы и общества. Это давало им четыре противоречащих друг другу ресурса, позволявших им делать все что угодно. Итак, если мы набросаем карту онтологических варьирований, то увидим, что существует не четыре региона, а только три. Двойная трансцендентность – природы, с одной стороны, и общества – с другой – соответствует одному набору стабилизированных сущностей.[25]25
В английской версии книги здесь добавлено: «Для каждого состояния общества есть соответствующее состояние природы». – Примеч. науч. ред.
[Закрыть] В противоположность этому имманентность природы и коллективов также соответствует одному региону – региону нестабильности событий, региону работы медиации. Таким образом, нововременная Конституция права: действительно, существует пропасть между природой и обществом, но эта пропасть является только запоздалым следствием стабилизации. Единственная пропасть, которую следует принимать в расчет, отделяет работу медиации от конституционного придания формы, но эта пропасть благодаря самому феномену размножения гибридов становится постоянным градиентом, который мы способны проследить, если станем опять теми, кем никогда не переставали быть, то есть ненововременными. И если мы добавим к официальной и устойчивой версии Конституции ее неофициальную, горячую или неустойчивую версию, то именно середина окажется заполненной, а крайние точки станут пустыми. Мы понимаем, почему ненововременные не приходят на смену нововременным. Ненововременные официально признают только ту практику, которую отрицают последние. Ценой маленькой контрреволюции мы, наконец, ретроспективно понимаем то, что делали всегда.
Устанавливая два измерения – нововременное и ненововременное, осуществляя эту коперниковскую контрреволюцию, перемещая объект, так же как и субъект, к центру и дальше вниз, мы, возможно, сумеем сосредоточить в своих руках самые лучшие критические ресурсы. Чтобы предоставить место умножению квазиобъектов, нововременные разработали четыре различных репертуара, которые, как они считали, несовместимы друг с другом. Первый репертуар имеет дело с внешней реальностью, хозяевами которой мы не являемся, которая существует вне нас и у которой нет ни наших страстей, ни наших желаний, хотя мы и способны ее мобилизовать и создавать. Второй репертуар рассматривает социальные связи – то, что связывает людей друг с другом, страсти и желания, которые нас волнуют, – персонифицированные силы, структурирующие общество, которое нас превосходит, хотя в то же время мы сами его создаем. Третий касается значения и смысла, актантов, формирующих истории, которые мы о них рассказываем, испытания, которым они подвергаются, приключения, которые с ними происходят, тропы и жанры, которые их организуют, большие нарративы, которые постоянно властвуют над нами, хотя в то же самое время они являются просто текстами и дискурсами. И наконец, четвертый говорит нам о Бытии и деконструирует то, о чем мы неизменно забываем, когда заботимся только о налично-сущем, которое оказывается соразмерным своему Бытию.
Эти ресурсы несовместимы друг с другом только в официальной версии Конституции. На практике нам трудно разделить четыре эти репертуара. Мы беспардонно смешиваем наши желания с вещами, смысл с социальным, коллектив с повествованиями. Как только мы выходим на след какого-нибудь квазиобъекта, он предстает перед нами иногда как вещь, иногда как рассказ, а порой как социальная связь, никогда не редуцируясь до простого сущего. Наш вакуумный насос позволяет проследить сопротивление воздуха, но точно так же очерчивает общество XVII века и определяет новый литературный жанр – рассказ о лабораторном опыте. Должны ли мы, следуя за его траекторией, утверждать, что все есть риторика, или что все есть природа, или что все есть социальная конструкция, или что все – Постав? Должны ли мы предположить, что тот же самый насос в своей сущности иногда является предметом, иногда представляет собой социальную связь, а иногда дискурс? Или в нем содержится все это понемногу? Что иногда он – простое сущее, а иногда он отмечен, смещен, взломан различием? А что если это именно мы, нововременные, искусственно разбили на части единую траекторию, которая прежде не была ни объектом, ни субъектом, ни эффектом смысла, ни чистым сущим? Что если разделение этих четырех репертуаров применяется только к стабилизированным и более поздним стадиям?
Когда-мы переходим от сущности к событиям, от очищения к медиации, от нововременного измерения к ненововременному, от революции к коперниковской контрреволюции, то нет никаких доказательств, что эти ресурсы остаются несовместимыми. О квазиобъектах и квазисубъектах мы просто скажем, что они намечают сети. Они реальны, очень реальны, и не мы, люди, их создали. Но сети коллективны, поскольку связывают нас друг с другом, поскольку идут из рук в руки и этим движением определяют нас самих. И тем не менее они дискурсивны, о них повествуется, они историчны, преисполнены страсти, они населены актантами, обладающими самостоятельными формами. Они нестабильны и опасны, они экзистенциальны и являются носителями бытия. Эта связь четырех репертуаров позволяет нам конституировать довольно просторную территорию, чтобы там могли найти прибежище Срединная Империя, подлинный общий дом ненововременного мира и одновременно его Конституция.
Синтез невозможен, пока мы остаемся действительно нововременными, поскольку природа, дискурс, общество, Бытие бесконечно нас превосходят и поскольку эти четыре совокупности определяются только за счет их разделения, которое обеспечивает наши конституционные гарантии. Но непрерывность оказывается возможной, если мы добавим к этим гарантиям практику, которую Конституция допускает в той мере, в какой ее отрицает. Нововременные правы, одновременно желая реальности, языка, общества и бытия. Они ошибаются только тогда, когда считают, что они навечно должны оставаться в состоянии противоречия. Вместо того чтобы анализировать траекторию квазиобъектов, всегда разделяя эти ресурсы, не можем ли мы писать о них так, как если бы они были непрерывно связанными друг с другом? Тогда мы, вероятно, вышли бы из прострации постмодерна.
Я признаю, что уже сыт по горло таким положением вещей, при котором всегда оказываюсь заперт лишь в языке или оказываюсь узником одних только социальных репрезентаций. Я хочу получить доступ к самим вещам, а не только к тому, какими они нам являются. Реальное не является далеким, оно доступно во всех объектах, мобилизованных миром. Не присутствует ли внешняя реальность в изобилии среди нас самих?
Довольно нам уже находиться под властью трансцендентной природы, непознаваемой, недоступной, определенной и просто истинной, населенной сущностями, погруженными, как Спящая красавица, в дремоту до того дня, когда очаровательные принцы-ученые наконец-то их обнаружат. Наши коллективы более активны, более продуктивны, более социализированы, чем это позволяли предположить наводящие тоску вещи-в-себе.
Вам не надоели эти социологии, сконструированные вокруг одного только социального, которые существуют лишь благодаря повторению слов «власть» и «легитимность», потому что не в состоянии вместить ни мир объектов, ни мир языка, которые их тем не менее конституируют? Наши коллективы реальны, более натурализованы и более дискурсивны, чем скучные люди-между-собой давали основание предположить.
Мы утомлены языковыми играми и вечным скептицизмом деконструкции смысла. Дискурс не является миром в себе, он населен актантами, смешивающимися как с вещами, так и с обществами, актантами, которые поддерживают как вещи, так и общества, и которые сами держатся на них. Интересоваться текстами – не значит удаляться от реальности, поскольку вещи тоже имеют право быть возведенными в достоинство повествования. Если говорить о текстах, то зачем же отрицать их значения для формирования социальной связи, которая удерживает нас вместе?
Мне надоело слушать обвинения вроде того, что я и мои современники забыли о Бытии, что мы живем в низменном мире, лишенном всякой субстанции, лишенном всего священного, всего своего искусства. Чтобы обнаружить эти сокровища, нам необходимо утратить исторический, научный и социальный мир, в котором мы живем. То, что мы обращаемся к наукам, технике, рынкам, вещам, отдаляет нас от различия между Бытием и сущим не более, чем от общества, политики или языка.
Реальные, как природа, повествуемые, как дискурс, коллективные, как общество, экзистенциальные, как Бытие, – таковы эти квазиобъекты, умножению которых способствовали нововременные, и если они таковы, мы должны следовать за ними, просто становясь тем, чем никогда не переставали быть – ненововременными.