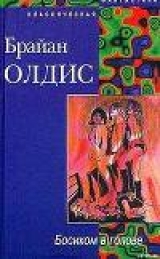
Текст книги "Босиком в голове"
Автор книги: Брайан Уилсон Олдисс
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
– Что-то я тебя не понимаю.
– Что ж тут непонятного? Ты же сам говорил о вещественном в возвышенных травах – разве не так? Птицы они что? Они любят наш город – верно? В смысле, птицам наш город нравится, если, конечно, они птицы, – чего ж тут не понять?
Да, – что верно, то верно. Птицы – они город любят. Кирпичики принимают за листики. Смотрю туда где засел трактор раскисшее поле завязнув по уши в собственном дерьме в тусклом свете земля темно-бурая почти черная. Воробьи, скворцы и птицы, мне не ведомые. Это раньше так было. Теперь они предпочитают селиться в городах. Вьют гнезда за неоновыми вывесками, над скромными забегаловками и китайскими ресторанчиками, селятся возле больших магазинов, салонов, торгующих мебелью, и залоговых лавок. Не брезгуют они и заправками – главное, чтобы тепло было. Теперь, когда они освоили эту новую для них среду, когда они усвоили городские нравы, они размножаются вдвое быстрее, чем прежде. Выводок за выводком, выводок за выводком – не то что у тех, полевых. Чайки на распаханном поле. Никогда не видели моря. Градусная сетка, наброшенная на мир. Заморыши. Лесные чайки. Чайки-землеройки Большого Лондона. Впрочем, возможно, во всем повинно море – оно отступило, ушло… Съежилось целлофановым пакетом, упавшим на раскаленные уголья. Хотя Бог их знает, нынешних птиц, – они ведь тоже дряни наелись. Скорее всего, новый мир обживать придется и им.
– Город птиц устраивает. Потому они так легко в него и вписались.
– Что ты там такое бормочешь?
Нет, она его действительно любит. Смех, да и только. Одна его львиная грива чего стоит.
– Не только у нас, у людей, началась эта самая видовая экспансия. То же самое приключилось и с птицами. Банджо, ты помнишь те мои картинки с пташками? И с цветами то же самое произошло, и с травой! Прямо как волны – одна за другой! Апофеоз опыления!
– Куда-то тебя не туда понесло, дружище! Ты бы лучше на грешную землю возвращался.
Дикая мысль – снять верхнюю часть черепа, извлечь из головы стрелку с надписью «Франкфурт» и закинуть ее куда подальше.
– Апофеоз опыления, – усмехнулся Чартерис. – Звучит, что надо! Я напишу поэму под таким названием, речь в ней будет идти о глубинной пандемии природы. Я уже знаю, что я там напишу. И еще. Придет время, когда ты попытаешься предать меня, оставить в четырех стенах наедине с самим собой.
Она промолчала.
– Там, в нашем будущем, будут и тенистые рощи. Главное, чтобы мозги не подвели.
Ангелина шла, держа его за руку. Молчала. Он совершенно забыл, где он бросил свою «банши», – они бродили по мокрым мостовым, пытаясь отыскать ее, и странное это кружение было не лишено приятности. Новый пассаж, пара работающих магазинчиков – доторговывают довоенными припасами. Аптека. Великое Освобождение не отходя от кассы. Афиша группы «Эскалация». Мировая Сенсация – Вонь на Весь Мир. Голый бетон так и не проданных пролетов, отпечатки древней опалубки. Окаменевшие мысли. Послания, начертанные карандашом и синим мелком. ЗДЕСЬ БЫЛ МАЛЮТКА АЙВ. БИЛЛ ХОПКИНС, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. НЕТ В МИРЕ СЧАСТЬЯ. СМЕРТЬ БЛЯДЯМ. Бедные бляди.
«Банши» стояла за площадкой для гипергеометрических модулей космического утилизатора в окружении разудалой компании дородных мусорных бачков. Двери ее были не заперты. Им пришлось изгнать из машины старика, устроившегося здесь на ночлег.
– Ты убил моего мужа! – выпалила Ангелина, стоило заработать двигателю. На заправке в дополнение к четырем галлонам бензина ему всучили пять упаковок «Грин Шилдс». Да, мир не изменился ни на йоту. Если что-то и стало другим, так это мысли. Мысли должны обновляться с приходом каждого нового поколения, в противном случае понятие «поколение» утратит всяческий смысл. Спутница его, похоже, внимала старым песням.
– В объятиях настоящего будущее слабнет.
– Почему ты меня не слушаешь, Колин? Ты ведь не свихнутый – верно? Ты убил моего мужа, и я хочу понять, что ты собираешься в этой связи делать?
– Отвезу тебя домой.
Они уже ехали. Челюсть ныла, но он почему-то испытывал странную веселость. Ему казалось, что он пьян – легкое домашнее вино…
– Мой дом не там!
– Я отвезу тебя к себе. В мой дом. В то место, откуда я начал его строить. Я работаю над новой мыслью, понимаешь? Я оттачиваю ее и придаю ей форму. Помнится, ты заходила ко мне вместе с Брейшером, тогда был вечер – верно? Это и не город и не деревня. Что это такое – сказать невозможно, именно поэтому я так люблю это место – мы с ним отстаиваем одни и те же позиции. Во Франции и вообще в мире вновь появились два этих страшных монстра – наука и искусство, – что тут же заглотили весь мир. Не науки и не искусства теперь нет. Масса вещей тут же исчезла – ты понимаешь меня? Место, в котором я живу, это не город, не загород и не пригород. Оно не подпадает ни под какую категорию, и в этом вся его прелесть. Смотри шире, Ангелина! Все просто замечательно!
Довольно усмехнулся.
– Сволочь ты сербская! Ты думаешь, если была война, и страна обратилась в ничто, так ты за убийство и отвечать не будешь? Закон никто не отменял! Ты умрешь – они тебя к стенке приставят!
Говорит неуверенно его святость ее поразила или как там ее короче то что за ним стоит за синими его глазами.
– Нет уж! По мне так лучше жизнь, чем эдакая смерть! Я – мореход. Мне нужно в море.
Машина смущенно вырулила на проспект Великого Освобождения. Позади – кареты скорой помощи, пожарные, полиция, аварийная служба. Исследуют останки.
– Я лицезрел реальность, Ангелина, она всюду одна и та же – в Крагуеваце, Меце, Франкфурте – всюду одна и та же!
Сам я воплотился во что-то совсем уж неорганическое – теперь мне не страшны ни смерть, ни тлен. Только самосброс!
Сказанное так поразило его, что он замолчал. Как странно все это звучит. С тех пор, как он попал в Англию, он изменился настолько, что перестал узнавать себя. Он слышал голоса городов, он жил в мирах комнат. Он научился говорить, не задумываясь, и сильнее всего поражал своими речами самого себя. Вот и опять. Его собственная мысль пришла к нему извне, породив в нем тысячу новых мыслей. Слова, дороги, окаменевшие реликвии мысли. Он пытался загнать их туда, во мрак непроявленного, пытаясь совладать с ними еще до того, как они успеют размножиться в своих темных глубоких норах. Голова-логово головоногого. Тема для поэмы: «О спонтанной генерации идей при коммуникации». Коммуникативный идеал спонтанного. Контаминация первичной идеации. Терние Аусстервица.
– Сорома Терние. Лоф – мглой зияющее – боро. Пойми, моя хорошая, именно так мы и материализуемся! Лофборо – это я, мой мозг, это место – все мы находимся в моем мозгу, все это я – ты понимаешь? Странник открыт городу. Я проецирую Лофборо собою. Все его мысли принадлежат мне; вернее, не сами мысли, но их кульминации – ты понимаешь, в чем разница?
Тут он был прав. Других он практически не видел, лишь иногда он замечал вспышки их наличия и пару раз оказывался вовлеченным в потоки их образов. Разрывы образов, вражеская атака.
– Не валяй дурака – вон дождь опять начался! Брось дурочку ломать – говори нормально!
Дрожь в голосе.
Они ехали кружным путем – мимо заводов, бензоколонок, бесконечных глухих заборов. Многообразные личины бетона.
Занюханные маленькие магазинчики свое уже отжили – теперь не было никаких «Гиннесс» и «Ньюс оф зэ Уолд». Серые пропахшие мочой стены. Угольный склад, синева «Эссо». Железнодорожный мост, сталь выкрашена в желтый, рекламы «Ind Coope», зловещее созвучие.
Вновь выстроившиеся в ряд дома-протезы – времянки, как и все в этом мире. Законченная мысль, надо бы в вечность. Снимок руки, фиксирующей истину, – крупный план. Дома на двух хозяев – это уже пригород. Снова мосты, проулки, железные ограды. Проспект Великого Освобождения превратился в скоростную двухрядную автостраду. Над головой то и дело дороги, примитивные массивные опоры. Железные дороги, каналы, поросшие осокой, какой-то бедолага переводит через затопленный водой участок свой велосипед, на руле – мешок картошки; тропки, велосипедные дорожки, мостки, изгороди, мусорные кучи.
Геология. Пласты культур. Геотемпология. Каждое десятилетие запечатлевает себя в каком-нибудь нелепом памятнике. Взять то же шоссе – оно может рассказать о препсиходелической эпохе очень и очень многое. Чем грубев и массивнее мосты, тем они старше. Затем на смену камню приходит металл, и они становятся едва ли не грациозными. Иным становится все – от контрфорсов до дренажных систем и кульвертов. Тяжеловесность исчезла, легкости же пока нет – это пласт Уимпи; немного подальше, в тени консольных конструкций, мы угадываем прослойку Макалпайна. Стоянка. Это уже Межледниковый Период Тейлора Вудроу. Еще один шаг, и мы оказываемся в новом времени – старая электростанция, в здании претензия на что-то восточное, стоит в поле одна-одинешенька. Попытка снять напряжение. Пилоны повсюду, слишком уж они витиеваты для этой земли. Опять-таки попытка снять ненужное напряжение. Мультипликация.
Слоеный пирог неба. Лофборо. Отсыревший снег. Мертвые ломкие кусты – нигде ни листочка. Бурые, почти черные. Красивые.
– Мы должны отказаться от понятия «красивого». Говоря о красивом, мы вслед за Аристотелем вспоминаем о безобразном. Они могут существовать лишь в паре – понимаешь? Безобразного же в природе нет.
– Если есть слово «безобразный», значит, есть и то, к чему его можно приложить, – разве не так? И не надо так гнать.
– Это что – цитата из Льюиса Кэррола?
– Конечно же, нет!
– Послушай меня, милая, – ты должна позволить мне одарить тебя блаженством сомнения!
– Ведь нормально, слышишь! Ты что – на самом деле чокнутый?
Он вернул машину на нужную сторону, едва не врезавшись в открытый «ягуар», водитель которого не замедлил разразиться потоками брани. Чартерис довольно усмехнулся – подумать только, ведь все они здесь обдолбанные. И как это мир до сих пор не рухнул? Машины оцарапали друг другу бока: меж столкновением и отсутствием оного заключено нечто, не являющееся ни тем, ни другим. Он и его «банши» четко уложились в этот не то чтобы совсем узкий, но и не слишком-то широкий интервал. Стражам нашим давно уже все до фени. О какой безопасности может идти речь, если даже такое внешне безобидное действие, как полив комнатного растения, может привести к гибели. Ты столько носился со своим рождественским кактусом, что он расцвел. «Кортина», «консортина» – ты отвернулся, ты этого не видел – смела ту несчастную женщину и ее замечательное крылечко, миг – и они уже в преисподней!
– Чем ближе к Великому Освобождению, тем опасней. Уж лучше селиться где-нибудь поодаль.
Внезапная легкость.
– Как только у тебя язык поворачивается такое говорить! Я даже не подозревала, что ты такой жестокий человек!
– Jebem te sunce! Пойми, Натрина, в смысле Ангелина, – я люблю тебя, я мечтаю тебя!
– Да ты же и смысла этих слов не понимаешь!
– Ты так считаешь? Впрочем, ты права – я знаю далеко не все. Но разве обязательно знать, как называется то, что ты делаешь, для того, чтобы это делать? Я еще в самом начале, все еще только начинается, только грядет. Я буду говорить, буду проповедывать! Буду писать песни для группы Бертона «Эскалация». Как тебе такое название – «Истина недвижных мгновений»? «Когда мы были вместе или межледниковый период Тейлора Вудроу»? «Аккреция аэродинамических акциденций как анаболический аналог»? «Фунт лиха и его выражение в фунтах стерлингов»? Или такое – «Успенский – маг бумаг и бликов». А вот еще – «Человек – жертва и жертвователь». Ну и так далее… Боже, я ведь все свои бумаги выбросил! С НЮНСЭКСом можно распрощаться… Ух, как это я в него не влетел! Zbogom, папаша, увидимся завтра, если, конечно, кони не двинем… Господи, я должен все забыть, простить им, малым сим, все их прегрешения… Кувейт был только началом. Теперь мной владеет такая сила, Ангелина, что тебе…
– Меня зовут Анджелин. Павлин – Анджелин.
Что ему еще нужно, этому идиоту?
– Всех Ангелин милее Анджелин. Она – павлин. На меня снизошло удивительное вдохновение – дух снизошел на храм мой! Я чувствую твой дар, ты продираешься чрез старого завалы к сливкам плотных чувств. Мы – ты и я – найдем его, оставь сомнения!
– Брось трепаться. Я – человек бездарный, мамаша мне все детство об этом твердила.
– Постой! Видишь ту нефритовую церковь? Мы в ней!!! Почти. Частично. Неким образом. По кундалиносути мы ее не покидали – nicht wahr? Etwas[12]12
Нечто
[Закрыть] всегда там было и будет!
Другое Etwas, страна, в которой он теперь находился, не была необитаемой, но ее нельзя было считать и не необитаемой. В основном она функционировала как пространство, по которому возможно было перемещаться, как проезд или проход, пробивавшийся веками, что упразднял как не имеющее реальной протяженности расстояние меж Лофборо и Европой, превращая Европу в Лофборо, а Лофборо – в Европу. Рытвины, реки, рельсы, разъезды – мосты, виадуки, дороги. «Банши» перескочила через горбатый мостик, повернула к муниципальной свалке и замерла перед одиноким облезлым особняком.
Эскадрильи демонических свинцовых птиц взмыли в небо и тут же грузно опустились на крышу особняка – из одной недвижности в другую. Недвижность, извечная недвижность, смена декораций. В каком-то смысле лес ничем не отличается от города. Шифер, побитый непогодой и свинцом пернатых. Огромная домина – вся в перьях, как в лесах, – английский стиль. Интересно, что приключилось с бывшим владельцем? Наверное, какой-то скандал со здешними властями. Впрочем, этого теперь уже никто не скажет, да это в принципе и неважно… Гордый владелец удалился, оставив свой, прямо скажем, недешевый дом муниципалитету. Чиновники праздновали победу прямо здесь – в саду перед домом. Гнилые объедки, торжество творческого распада. Консервные банки на аллеях сада. Распад и тление. Где прежний лоск? Где Штука Турка? Дом-прокаженный, сыплющий цементной перхотью. Подняв глаза от своего роскошного кактуса—а как нравится этот кактус ее мужу! – она увидела несущийся на нее грузовик и в тот же миг оказалась под колесами «кортины» старой модели. Последняя ехала на север.
Скорей домой от этого кошмара. Циклические образы. Период ячеек паутины плюс/минус жизнь.
– Я запутался именно здесь – в том месте, где сходятся все нити, – ты понимаешь, о чем я? Я так любил все английское – ты мне не поверишь… Я и пальцем бы никого не тронул… Я хочу продемонстрировать миру то, как…
– Его теперь не вернешь…
– Я не о нем! Я о той женщине с кактусом! О ней – ты слышишь?
Группа «Эскалация» захватила старое здание на Эшби-Роуд, в котором некогда помещался армейский призывной пункт. Старый добрый английский тик и своеобразный запах, какой обычно бывает в гимнастических залах и танцевальных классах, сделали свое дело. Две самые известные вещи группы (в ту пору она называлась «Звуки Мертвого моря») могли быть созданы только здесь и нигде боле. Названия этих вещей сегодня известны всем и каждому, это – «За краем крайней плоти» и «Взвод». Всего музыкантов было четверо – четыре изрядно потрепанных молодых человека, зловонных и знаменитых на весь мир. Из профессиональных соображений они взяли себе такие имена: Фил, Билл, Руби и Федерстон-Хо. Был и пятый – некто Барнаби, но он был занят на вторых ролях – в его обязанности входило создание шумовых и фоновых эффектов. Сейчас они были заняты записью новой вещи. Сирены машин скорой помощи выли как безумные, что навело музыкантов на мысль, включить их звучание в новую песню, названную Филом так: «Я потерял свое кольцо на кольцевой дороге». Билл считал, что эта вещь должна идти перед «Санкциями» или же сразу после них, остальные настаивали на том, что ее следует загнать на вторую сторону, если, конечно, дело дойдет до студии грамзаписи.
В комнату вошли Грета и Фло, следом – Роббинс и оба Бертона. Арми Бертон был не в духе – он где-то оставил свой прекрасный новый галстук – красное с черным – его любимые цвета… Все настаивали на том, чтобы Чартерис выступил вместе с группой уже в Ноттингеме, ему же эта идея совсем не нравилась. Роббинс по своему обыкновению нес какую-то чушь – с пеной у рта он уверял присутствующих в том, что вместе с ним в колледже училась девушка по имени Гипертермия. Банджо принялся живописать Лондон. Грета насупилась и пригрозила присутствующим тем, что отправится домой.
– Вы сами не понимаете, как это здорово! «Эскалация» теперь не просто какая-то там группа! Там, в Ноттингеме, мы станем чем-то куда большим! Мирское всегда ограничено, мы же доверим нашу судьбу Колину Фертерису, завтрашнему святому, автору «Немыслимых поз»!
– О, Боже! Они опять о сексе! Нет, я так больше не могу! Я отправляюсь домой!
Грета вышла вон, хлопнув дверью. Ее мамаша жила неподалеку – маленький ее домик стоял на проспекте Великого Освобождения. Постоянно Грета там не жила, и это устраивало обеих – пора ссор и скандалов сменилась эпохой взаимного безразличия. Сплавляясь по реке жизни. Порознь. Врозь. По нраву Грете были грязь и изыск распада. Чего она не выносила, так это цветов в горшочках, – живую изгородь, за которой пыталась укрыться ее мамаша.
К безумию Бертона все давно уже привыкли. Дикие толпы, визг девиц, – все это было его заслугой. Им нужен был необычный имидж, шум, скандал. Фаланги децибел, застающие неприятеля врасплох, вонючие носки, разящие зрителя наповал. Последнюю строчку они не поют – речитатив под аккомпанемент гитары: «Нас уже почти не осталось» или что-то вроде того. Такое слабо выдать даже самому святому Чартерису. Чартерис Лофборский. Крохоборский. Говорят, он раньше коммунистом был, но люди чего только не понарасскажут. Скоро кто-нибудь заявит, что он от «Эскалации» деньги получает за то, что группа вместе с ним выступает. Им бы все о ком-то судачить, посмотрели бы лучше на себя. И еще – нельзя жить одним только прошлым. Будущее – вот что нужно всем этим людям. Розы немыслимых поз. Моменты истины. Возможно все то, что возможно, и это значит…
Вместе с Чартерисом, ушедшим в раздумья, ваяющим шедевр свой, оттачивая, налагая, сочетая, аннотируя, Анджелин бродила по дому. В одной из комнат наверху – бродяга. Пожелтевшие губы, рот пустой глазницей. Она поспешила закрыть дверь. Гостиная второго этажа пуста, на полу лужи. Она стояла на голых досках, глядя на мрачное мертвое море, взятое в берега городских свалок. Стада чаек – клювы циничные, словно улыбки рептилий, от которых некогда произошли эти птицы. Темные, сырые края, земля темно-бурая, почти черная, конец февраля. Бегут ублюдки-поезда из пункта А в пункт Б, далее – везде. Торчки-машинисты забыли о своих обязанностях, кружат по своим индивидуальным паутинкам в поисках станции назначения. Людей на этом свете не осталось. Сколько раз ей говорили – плюнь на все и прими ЛСД. Психомимикрия – забудь все эти сказки о грехе и зле – их придумала твоя злая бабка. Лишь Чартерис дарил надежду – ему представлялось, что все идет лучше некуда – достаточно найти подлинную точку опоры, и тогда все вернется на свое место, но уже не в том прежнем, исполненном лицемерия смысле-мире, а в истинности осуществления всего и вся.
Он говорил Филу Брейшеру – когда ты прочтешь «Человеководителя», ты все поймешь. Никакого конфликта на самом деле нет, ибо люди как были охотниками, так охотниками и остались. Водитель – это современный охотник, верно? Азарт водителя, то бишь охотника, но никак не рассудочное решение изменить свою жизнь, подлежит всем нашим действиям, к какой бы сфере они ни относились. И так далее. Время-пространство-сознание – единый план. В голове многорядная автострада. После кувейтского coup-de-main[13]13
Внезапного налета (фр.)
[Закрыть] можно ехать куда угодно – все направления теперь равнозначны, – тут уж как кому заблагорассудится. Все внешние ограничения и запреты исчезли. Так говорил Чартерна Она тоже была вынуждена слушать его – прерви она тогда их разговор, и Фил скорее всего остался бы жив…
В подвалах Лофборо жили местные хиппари, группа «Мехи эпохи». Все внешние ограничения и запреты исчезли – что нам теперь закон, война, комфорт и прочий буржуазный вздор? Все внешние запреты. Исчезли. Наверняка это они пустили слух о том, что Чартерис когда-то был коммунистом. Все, что нам следовало делать, так это следовать своим курсом, идти своей дорогой – нам все эти Брейшеры как кость в горле. Да, да – конечно же, это они – больше некому.
Образы из будущего – это все он, это через него, – плачущая девушка и – фасоль, мешающая самореализации. Маразм.
С ним, наверное, хорошо, вот только по отношению к Филу это было бы подлостью. С ним все должно быть иначе, совсем иначе – в этом можно не сомневаться. Если бы он захотел переспать с ней, она не стала бы возражать. Пусть будет то, что будет. Пустошь. За окном бескрайняя пустошь. Он такой чистюля. Мы должны помнить – для юного дарования очень важен – Что это? Откуда это? – Наверное, я себя так защищаю. Ух, ну и жуткая же картина – все эти машины искореженные, кровь…
Чайки поднялись с гниющих курганов и взмыли ввысь, чертя по небу грязью. Внизу бежит собака – свободна. Свободна и робка среди холмов неведомой земли. Извечный спутник человека. Станет ли когда-нибудь таким же свободным и сам человек? Наверное, станет. Он что-то говорил о деревьях и рощах их будущего. Каких? Зеленых? Голых?
По щекам покатились слезы. Из пестрых грез потоки слез. Как бы хорошо ей ни было, ничего хорошего уже не будет. Утраты неизбежность, течь. Сепия лет моих. Прости меня, Фил, я любила тебя, но если он захочет переспать со мной, я не стану возражать. Не стану. Сержант-громила: левой! левой! Ему я вряд ли изменю, а вот тебе – запросто. В нем есть что-то такое, не знаю, как это называется, но это и неважно: он, кем бы он ни был на самом деле действительно не от мира сего. Он – святой, ты понимаешь, Фил? Святой! А ты его взял и ударил. Ты его первым ударил. Ты всегда чуть что в драку лез – вот и нарвался. Такие дела.
Она пошла вниз. Собака была в галстуке или – или она стала такою же, как все. Не собака – она сама, разумеется.
– Обычная дворняга, – сказал он. Он что-то ел, это была консерва. Все это время он питался исключительно консервами. Отказ от себя.
– Да, да – дворняга, полукровка, не удивляйся. Немного от Гурджиева, кое-что из Успенского – временем гонимый странник, и при этом никакого дзена. Теперь послушай, что я тебе скажу. Пусть я и не англичанин, но мы начнем эту работу именно из Англии – мы свяжем всю Европу воедино. Таков завет. Он снизошел на меня подобно ПХА. Америка к этому готова, она всегда к этому была готова – и сейчас, и прежде.
– Скажи – ты счастлив?
Она коснулась его руки. Он уронил фасолинку на рукопись, и та легла точно на слово «самореализация», перечеркнув его жирной линией томата.
– Ты видишь тех тварей, что ползают по голым деревьям? По-моему, это вязы, впрочем, неважно… Птицы большие, словно индюки, жабы ползучие и эта новая тварь – видишь? Я с этой дрянью постоянно сталкиваюсь. Мы чего-то хотим, и точно так же чего-то хотят и они – у них какие-то свои планы, свои виды на будущее. Пока они держатся особняком, но это ничего не значит.
– Милый! Бедная твоя головушка! Тебе отдохнуть надо!
– Именно так. Хотя не далее как вчера у меня была фаза счастья. «Снять напряжение» – так это называется. Скользящая шкала расслабления. Все, что нам нужно, это снятие напряжения. Но знай – счастье лишает нас времени. И еще – к нам оно не имеет ни малейшего отношения, так же, впрочем, как и мы к нему. Когда на сердце тяжесть, ты стремишься уйти от нее, что неизбежно возвращает тебя к ней, и наоборот, – понимаешь? Стремлению нашему подлежит некая сила, которая подобно маятнику постоянно меняет свое направление. Мы должны распрощаться и со скорбью, и со счастьем – иначе мы так и не выйдем из этого порочного круга. Необходимо проснуться, перестать быть автоматом – я уже говорил все это. Да, я должен говорить с людьми, взывать к спящим. Нужна мне и ты – ты обладаешь особым даром! Иди со мною, Анджелин! Раздели со мною бремя трудов моих!
Она нежно обняла его. Сержант-громила. На столе куски черствого хлеба, на страницах книг крошки и его пометы. Нескончаемая активность. Над курганами праха ветер гуляет.
– А когда ты любишь меня, милый, ты имеешь к этому отношение?
– Мы постоянно вырастаем из себя, мой ангел, мы – это всегда не мы.
Когда в комнату вошли музыканты из «Эскалации»-, Анджелин и Чартерно лежали на драной раскладушке. Лежали, обнявшись на раскладушке.
Грета рыдала, ее поддерживали под руку. Федерстон-Хо затренькал на балалайке и пропел:
– Мамашу ее погубила машина, «кортиною» звали убийцу.
Серые щеки Руби Даймонда.
«Человековыводитель». Третья Глава. Литература Будущего призвана изменить наше отношение к будущему. Концепция ментальных фотографий Успенского. Совокупность ментальных снимков личности образует некую запись, практически не связанную с тем, что мы привыкли именовать «собой». Оставаясь статичными, снимки эти образуют тот динамический процесс, что проявляет себя как жизнь. Истина содержится именно в них – в названных статичных мгновениях; постигаться же она может только при движении – от снимка к снимку. Движение автокатастроф, совокуплений, кинетического самопробуждения любого рода и т. д. Масса альтернатив. Большая вероятность подмены: ментальных фотографий – ментальными автобиографиями, движения – созерцанием оного. Гарпун музыки, выводящий на поверхность внутренние сущности. Действие как выражение подлежащего ему несовершенства. Горсти истины. Самоотстранение как путь к самореализации, многомерность всего и вся. Нерешительность неизреченного и неисследимого. Замутненность сознания как условие, подлежащее искательству истины, аварии на автострадах как частное проявление названной замутненности.
Жажда истинного. Взаимопроникновение человека и ландшафта. Наука главенствует. Машины господствуют.
Чартерис стоял у окна, прислушиваясь к звукам, производимым участниками группы, разглядывая истерзанные земли, лежащие вокруг. Нигде ни намека на зелень, кусты и деревья словно вырезаны из жести – края в зазубринах, темно-бурые, едва ли не черные, матовые, несмотря на нескончаемый дождь. Поток машин из Ковентри в полдень сходил почти на нет. Везут всяческую дешевку – дома такое не сбудешь. Пена из-под колес. Дороги моря, ископаемые мысли, копролит основателей рода, иными словами – дерьмо. Вся эта чушь об ужасных последствиях демографического взрыва – привыкнуть можно и не к такому. Ошибка на ошибке. Безработным предоставили массу новых рабочих мест – темные фигурки жителей центральных графств сажают деревца вдоль набережных, по краям оврагов и склонам холмов и отвалов. Идиотическое решение – вернуть реальность, доведенную до геометризма абстракции, в исходное уравнение естества. Явный шаг назад. И тут небеса разверзаются, и на землю падает дождь ПХА-бомб, останавливающий заблудших. Веское слово науки.
Эти треклятые птицы возвращались назад, прихватив с собою и молодь, – гротескные создания из предпсиходелических сумерек жизни, возвещавших собою скорый ее рассвет, существа, при малейшей возможности вьющие гнезда и откладывающие яйца. Они перелетали тяжелыми, словно свинец, эскадрильями, то и дело усаживаясь на горы мусора, чтобы отрыть яркие пакеты «Омо» и изорвать их в клочья. Казалось, они что-то задумали; движение их вызывало отвращение и ненависть, оно было исполнено лжи и пагубы. Он слышал их крики, исступленное призывание: «Омо! Омо!» У берегов мертвого моря в час сварного заката они учились искусству врага – чтению. ОМО! ОМО!!! Та новая тварь, что только что ползала по стволам вязов, была вместе с ними.
Анджелин пыталась успокоить Грету, Руби ел ее взглядом, Бертон листал рукопись «Человековыводителя», грустно вспоминая свой красно-черный, свой единственный галстук… Слова могут выражать некую толику истины – эта мысль была отправной точкой. Галстук свой он сделал ее, Истины, полноценным вестником – он повязал его черной дворняге, носившейся по Эшби-Роуд. Да, да – именно так все и было. Он все вспомнил.
– Послушай, Гретхен, а собака черная там случаем не пробегала?
– Не трогай ее, – прошипела Анджелин. – Пусть она сначала выплачется. Это как прилив – понимаешь?
– Произошло известное смещение, – еле слышно пробормотал Бертон.
– Ты же знаешь, это сделал он! – простонала Грета. – У нас в городе скрыть что-либо невозможно – это я вам точно говорю. Я бы, впрочем, городом эту вонючую дыру называть не стала – это аггрегация! Вы хоть знаете, что такое аггрегация? Вот и заткнитесь! Во всем, что произошло там, на дороге, повинен только он!
Анджелин согласно кивнула.
– Я знаю.
Сердце всегда так ранимо. Чайки всегда так злобны.
На старой кухне среди газовых баллонов, где одинокий медный кран выводил свою заунывную песнь, их было двое. Руби держал ее за тонкие птичьи запястья так, что стали видны все жилки на ее руках. Лицо молодо и поныне.
– Не надо, Руби, успокойся! Пойди к своим ребятам!
– Ты ведь знаешь, как я к тебе относился все это время. И что же? Я нахожу тебя в объятиях этого мерзавца Чартериса.
Она было вырвалась из его рук, но он тут же поймал ее вновь. Налитые кровью глаза быка.
– У меня своя жизнь, Руби, у тебя – своя, и не надо делать вид, что ты этого не понимаешь! Я знаю, что ты не желаешь мне зла, но это ничего не меняет!
– Слушай, говорят, Фила убил именно он!
Грязный подбородок. Сумасшедший.
– Руби, если ты пытаешься убедить меня в том…
– Я серьезно! Мне Фил никогда не нравился – ты и сама это знаешь, – но крутить любовь с парнем, который пять минут назад…
Зубовный скрежет смутил ее. Словно очнувшись от сна, она забормотала:
– В нем что-то есть, это точно – понимаешь? Не думай об этом – я как была с вами, так с вами и осталась. Мне не следовало доверяться ему…
Комната рядом орущие эскадрильи птиц свинцовым градом и тут же скрылись.
– Ты должна помнить меня. Я ведь тебя с таких лет знаю – тогда еще никаких Брейшеров и в помине не было. Ты тогда была сопливой девчонкой, я к твоим братьям приходил. И целовал тебя первым.
– Все это в прошлом, Руби, – в прошлом.
Упавшим голосом.
– Я думал, ты меня любишь. Ты тогда все на моем велике каталась.
– Все это в прошлом, Руби.
Она боялась собственных слез. Замурованное «Я». Откинувшись на забитую посудой сушилку, она следила за его лицом – фонарь, горящий нетерпением, проплывает мимо и потухает, повернувшись затылком. Темные волосы. Теперь она одна. Она и кран, выводящий свою заунывную песнь.
Ноттингем. Орущие толписты, подростки на улицах, шепот зрелых, старичье, калеки и вот наконец остановка – они не голодали, не погибали в пожарищах, в канавах не тонули, не разбивались на дорогах насмерть, аэрозоли не познав, не знали собственного блага, не умирали со смеху, не вскрывали голов своих консервными ключами, дабы выпустить оттуда духов и крыс. Все ждут «Эскалацию», изнемогая от серости небес. Ждут небесноватых.








