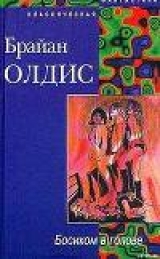
Текст книги "Босиком в голове"
Автор книги: Брайан Уилсон Олдисс
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)
Брайан Олдис
Босиком в голове
Книга первая
НА СЕВЕР
ОДНА НОГА ЗДЕСЬГрад принял странника.
На северной площади Колин Чартерис выбрался из своей «банши», решив немного размяться. Упругое тело послушно и гибко. За спиной поскрипывала и пощелкивала машина, похожая на рыбину, выброшенную на берег, – это остывал металл, распаленный долгой ездой по дорогам Европы. Поодаль высился старинный собор, покойный и неколебимый.
Площадь уходила вниз. В темных аллеях сновал низкий люд.
Чартерис достал с заднего сиденья старую кожаную куртку и набросил ее на плечи, размышляя о скоротечности жизни водителей. Зажмурился.
В свои девятнадцать он был героем – две двести от Катанзаро на юг, до Ионического моря и, наконец, Мец, департамент Мозель, Франция, – все это за тридцать часов и при этом никаких потерь, если не считать царапины в метр длиной на левом крыле. Шрам дуэлянта, поцелуй Жизни/Смерти.
Солнце поблекло и стало спускаться к Сент-Этьенну, заблистав в медленно плывущих доселе незримых пылинках. Кровать, компания, разговор – все прочее блажь. Неплохо бы сподобиться и просветления. Как говорится, вчерашним хлебом сыт не будешь.
За Миланом, в одном из самых странных мест этого мира, там, где трехрядная автострада вырывается на равнины Ломбардии, сообщая им математическую строгость, его красный лимузин едва не стал жертвой аварии. Жертвой страшной аварии.
Одна и та же картина раз за разом вставала в его сознании гостьей из иных времен, смущающей его разум: бешено вращающиеся колеса, сметенные заграждения, штампованный металл, клыкастые создания, хруст лобной кости, мертвенный свет солнца слоем грима на чудом вырвавшихся из объятий смерти. Он разминал посередь площади свои занемевшие члены, машина же продолжала нестись вперед – тело сидящего в ней человека исполнено презрительной медлительности, порожденной сверхскоростями, – все происходит так быстро, что, не успев запечатлеться на сетчатке, тут же проникает в сознание, чтобы странствовать по его лабиринтам уже вечность.
Они все умирали и гарцевали, те скакуны в черепной коробке на кафедральной площади Меца, – болезнь косила всех подряд, жизнь то и дело давала сбои. Госпитальный морг: бесформенная масса, расцвеченная неяркими огоньками свечей в полуночном склепе; автострада, исполнившаяся прежнего лоска; бригады спасателей в каретах скорой помощи на Rastplatz,[1]1
Больница (нем.)
[Закрыть] – все читают. Примитивные механизмы сознания Чартериса раз за разом перематывали пленку, демонстрируя ему одну и. ту же сцену.
Он принялся разглядывать собор, пытаясь хоть как-то отвлечься. Несмотря на ранний час, здание уже было залито светом прожекторов. Собор простоял уже не одно столетие, но желтый шероховатый камень, из которого он был сложен, делал его похожим на викторианскую копию древнего прототипа. Подобных зданий в Европе великое множество, – по большей части они лежат в развалинах, – безмолвных, зияющих провалами окон, ждущих своего часа.
На противоположном конце площади земля резко уходила вниз. Оттуда брала начало улочка – одна ее сторона была образована высокой глухой стеной, другая же – чопорными узкими обветшавшими фасадами французских домишек, закрывшихся ставнями от властного призыва собора.
На одном из зданий красовалась вывеска: «Hotel des Invalides».
– Krankenhaus,[2]2
Автостоянка (нем.)
[Закрыть] – пробормотал Чартерис.
Он достал из багажника сумку и неспешно направился к этому жалкому отелю. Рыцарь в песках Палестины. Пилот, бредущий по взлетной полосе. Ковбой, гордо вышагивающий по Главной улице. Он играл. Он был всем и никем. Ему было девятнадцать.
Стоявшие на площади автомобили все как один имели нейтральные французские номера и выглядели весьма жалко. Поглощенный созерцанием внутренних картин, Чартерис до последнего момента не замечал того, что эта часть площади отведена под стоянку подержанных машин. Цены во франках нарисованы прямо на лобовых стеклах. Машины эти, казалось, пришли сюда из иных времен, – ими никто не интересовался, – странствовать было некому.
Врата сего града оказались закрытыми. Дверная ручка Hotel des Invalides была отлита из бронзы. Чартерис опустил ее и шагнул вовнутрь – в коридор, в непроницаемую темень. Колокольчик звонил, пока он не прикрыл за собой дверь.
Чем дальше он шел, тем больше он видел: коридор постепенно проявлялся – узорчатые полы, выложенные узорчатой плиткой, на них юркими сгустками теней люди, вверху – тонущий во мраке образ святого – запылившийся, неясный образ. Растение в кадке, чахнущее возле зловещего параллелепипеда чудовищного шкафа, который, может статься, был вовсе не шкафом, но излишне помпезным входом во внутренние покои дома. На стенах гигантские картины: солдаты в голубых мундирах пытаются скрыться от огня вражеской артиллерии за мешками с песком.
Небольшая плотная, похожая на гроб, фигурка появилась в конце коридора, темная в темном вечернем свете. Он подошел поближе и увидел перед собой улыбающуюся женщину с завитым волосом – не старую, не молодую.
– Haben Sie ein Zimmer? Ein Personn, eine Nacht?
– Ja, monsieur, Mit eine Dusche oder ohne?
– Ohne.
– Zimmer Nummer Zwanzig, monsieur, 1st gut.[3]3
– У вас есть комната? Один человек на одну ночь.
[Закрыть]
Немецкий. Lingua franca[4]4
Франкское наречие, т. е. универсальный язык (лат.)
[Закрыть] Европы.
Мадам кивнула и кликнула горничную – гибкую темноволосую девицу, сжимавшую в руке гигантский ключ. Мадам кивнула еще раз и тут же удалилась. Девица повела Чартериса наверх. Первый пролет лестницы был мраморным, второй и третий – деревянными; на третьем, в отличие от двух первых, отсутствовали ковровые дорожки. Так же как и холл, лестничные площадки украшали огромные картины, на которых французские солдаты времен Первой мировой войны либо умирали, либо убивали своих врагов – немцев.
– Вот оно, оказывается, где началось! – усмехнулся он, поднимаясь по лестнице вслед за девицей.
Она остановилась и, повернувшись к нему, сказала совершенно безразличным тоном:
– Je ne comprends pas, M'sieur.[5]5
Не понимаю вас, мсье (фр.)
[Закрыть]
Ее французский был ничем не лучше немецкого ее хозяйки.
Окна на лестнице, похоже, не открывались вечность. Спертый воздух, коим век дышать тем страдальцам, что уловлены здесь, – бледным дщерям, брызжущим слюной дедушкам-ревматикам. Северная Европа – навек и каждому ограничение, сбережение, удержание и воспрещение – добрые христиане да возрадуются. Зардевшись, взметаются члены тех, кто миг назад наяривал по автостраде – но не радость то и не ликованье… И все же молниеносные па смерти не так ужасны, как монотонный неспешный ток питающейся твоими соками жизни. Не будь иных альтернатив, первое следовало бы предпочесть второму.
Сам он был подвижней ртути, наглядно являя собой оные альтернативы.
Лишь этих, этих двух он ужасался – его фантазия, его жизнь, отсвечивая багрянцем, металась меж ними, ища спасенья. Угрюмый человек, не разжимая губ:
– Выбирай, Чартерис – или еще одно задание в дельте Меконга, или десять лет в отеле города Меца на полном пансионе!
К тому времени, когда они наконец оказались перед Zimmer 20, Чартерис дышал уже с трудом. Он приоткрыл рот и незаметно для девицы перевел дух. Та была постарше – ей было года двадцать два. Достаточно красива. Вынослива – подъема даже не заметила. Смугла. Икры худы, зато лодыжки великолепны. Но как здесь все-таки душно!
Жестом пригласив ее задержаться, он вошел в комнату. Направившись к одному из двух высоких окон, на миг задержался у кровати и похлопал по ней рукой – провисшая пружинная сетка протяжно зазвенела. Справившись с непокорной оконной защелкой, он потянул на себя обе створки и сделал глубокий вдох. Неведомые яды. Франция!
Далеко внизу он увидел крошечные фигурки двух bambini,[6]6
Детей (ит.)
[Закрыть] ведущих на поводке белого пса. Задрав головы вверх, они стали смотреть на него – лица и пухлые ручки. Талидомиты. Куда ни посмотри, повсюду образы упадка и разрухи. В Англии должно быть получше. Хуже Франции нет ничего.
Здания по другую сторону улицы. В доме напротив за занавеской – женщина. За домами – пустырь; по мусорным кучам крадутся навстречу друг другу коты, занятые исчислением кинетики копуляции. Сточная канава, забитая ржавыми консервными банками и прочим хламом. А это что? Измятый, ржавый кузов – жертва аварии. Большие кривые буквы на полуразрушенной стене:
ЕДИНСТВЕННАЯ ФРАНЦИЯ – НЕЙТРАЛЬНАЯ ФРАНЦИЯ.
Они умудрялись сохранять нейтралитет до самого скорбного конца – на то сподвиг их опыт двух прошедших войн. Стойкость странного свойства.
За порушенной стеной – непомерно широкая улица, заканчивающаяся зданием префектуры. Полицейский. Фонарный свет, несущий стражу в голых зимних ветвях. Франция!
Чартерис встал к окну спиной и стал разглядывать обстановку. Как и следовало ожидать, она была ужасной. Нелепая раковина, безобразные светильники в излюбленной манере франков, кровать, на которой можно было делать все, что угодно, но только не спать.
– Combien, Mamselle?[7]7
Сколько, мадемуазель? (фр.)
[Закрыть]
Она отвечала, глядя ему в глаза, желая понять, как он отреагирует на ее слова. Две тысячи шестьсот пятьдесят франков, включая плату за освещение. Сумму ей пришлось назвать дважды. По-французски он понимал плохо, к тому же он никак не мог привыкнуть к нынешним темпам инфляции.
– Я сниму эту комнату. Вы из Меца, мадемуазель?
– Нет. Я итальянка.
Как приятно знать, что в этом мире осталось хоть что-то хорошее. Ему вдруг показалось, что эта гнусная комната, набитая старой рухлядью, наполнилась воздухом гор.
– С начала войны я тоже жил в Италии, на самом юге – в Катанзаро, – сказал он ей по-итальянски.
Она заулыбалась.
– Я тоже с юга. Я жила в Калабрии, в маленькой горной деревушке, о которой вы, наверное, даже и не слышали.
– Ну почему же – я где только не был. Я ведь в НЮНСЭКС работаю.
Она назвала свою деревушку, но оказалось, что ему действительно не доводилось слышать этого названия прежде. Оба засмеялись.
– А вот мне не приходилось слышать о НЮНСЭКС, – сказала она. – Это что – город в Калабрии?
Он вновь засмеялся – ему нравилось смеяться – помимо прочего таким образом он надеялся произвести на свою новую знакомую должное впечатление.
– НЮНСЭКС – это аббревиатура. Новая ооновская организация, занимающаяся расселением и реабилитацией жертв войны. У нас несколько больших лагерей на побережье Ионического моря.
Девицу это нисколько не заинтересовало.
– Вы хорошо говорите по-итальянски, но вы не итальянец. Вы, наверное, немец – да?
– Я – серб или, если хотите, югослав. Правда, в Сербии я не был с детства. А сейчас направляюсь в Англию.
Он услышал крик хозяйки – та звала девицу вниз. Горничная поспешила к двери, одарив его напоследок обворожительной улыбкой, и исчезла.
Опершись о бамбуковый столик, стоявший возле окна, Чартерис стал рассматривать пересохшую канаву: она походила на раскоп, в котором удачливым археологам удалось наткнуться на следы древней индустриальной цивилизации. Он расстегнул сумку, однако распаковывать ее не стал.
Когда он спустился вниз, мадам уже стояла за стойкой бара. Некоторые столики были заняты постояльцами – частичками одной большой головоломки. Комната была большой и унылой. Старинный бар темного дерева почему-то напомнил ему скинию – скинию, отданную под перно. В углу стоял телевизор; большая часть присутствующих сидела так, что экран постоянно находился в поле их зрения, словно телевизор был их недругом или, по меньшей мере, недоброжелателем, от которого в любую минуту можно было ожидать чего угодно. Единственным исключением из общего правила были два человека, сидевшие за столиком, стоявшим поодаль; они живо беседовали друг с другом, подкрепляя слова движениями кистей рук. Тусклые глаза, сановные жесты. Один из них – с бородкой – был хозяином отеля.
В самом углу у радиатора стоял стол куда больших размеров, горделиво несущий на себе письменный прибор и прочую секретарскую параферналию. Это был стол мадам – если она не стояла за стойкой скорбного бара, обслуживая клиентов, она сидела за ним, производя некие сложные подсчеты. К радиатору была привязана шелудивая облезлая псина, которая то и дело поскуливала и переходила с места на место – можно было подумать, что пол посыпан толченым стеклом или крысиным ядом. Хозяйка время от времени говорила что-то ласковое, пытаясь успокоить животное, но делала она это слишком рассеянно, и потому слова ее не производили должного эффекта.
Чартерис сидел за столиком, стоявшим у самой стены; он потягивал перно, надеясь вновь увидеться с давешней девицей. Люди, сидевшие в комнате, представлялись ему жертвами никуда не годной капиталистической системы производства. Они уже вымерли, остались только их оболочки, их костюмы… Тут, в баре, появилась и горничная. Он подозвал ее к своему столику.
– Как тебя зовут?
– Ангелина.
– А меня – Чартерис. Я себя сам так назвал. Это английское имя – так звали одного хорошего писателя. Я хочу пригласить тебя в ресторан.
– Я здесь буду допоздна – у меня рабочий день в десять кончается.
– А спишь ты не здесь?
Выражение ее лица тут же изменилось – былой мягкости в нем уже не было – настороженность и известная надменность взяли верх. «Подстилка, как и все прочие, – подумал про себя Чартерис, – а корчит из себя неведомо что». Она – Слушай, пожалуйста, купи у меня что-нибудь! Сигареты или еще что-нибудь в том же роде! Они за мной следят. Сам понимаешь, мне с постояльцами нельзя любовь крутить.
Чартерно пожал плечами. Она направилась к бару. Он следил за движением ее ног, за упругими ее ягодицами, гадая о том, чисто ее белье или нет. Он был брезглив. Обычно итальянские девушки куда аккуратнее сербских. Белые женские ножки, мелькающие за покрытым паутинкой трещин ветровым стеклом. Ангелина достала с полки бара пачку сигарет и, положив ее на поднос, вернулась к его столику. Он взял их и молча расплатился. Все это время хозяин смотрел на него во все глаза. Покрытое пятнами лицо старого солдафона.
Чартерно заставил себя закурить. Сигареты оказались премерзкими. Несмотря на то, что в Психоделической Войне Франция не участвовала, она, так же как и прочие страны, сполна познала нужду военного времени. Чартерно же был избалован сигарами со складов НЮНСЭКС.
Он перевел взгляд на экран телевизора. В зеленоватом свете плыли лица дикторов, говоривших так быстро, что он с трудом понимал смысл сказанного. Что-то о велогонках, большой материал о военном параде и инспекции частей, снимки известных на весь мир кинозвезд, обедающих в Париже, репортаж с места убийства, голод в Бельгии, забастовка учителей, новая королева красоты. Ни единого слова о двух континентах, населенных шизоидами, забывшими, где начинается и где кончается реальность. Нейтральная Франция была нейтральной во всех своих проявлениях – напялив телевизионный ночной колпак, она готовилась отойти ко сну.
Допив перно, Чартерис поднялся из-за стола, расплатился с мадам и вышел на площадь.
Уже была ночь, тот ранний час ее, когда облака, парящие в вышине, все еще несут на себе отблески далекого светила. Прожектора выхватывали из тьмы собор, разбивая его на регулярно чередующиеся вертикальные полоски света и непроницаемой тени, отчего он становился похожим на клетку, выстроенную для какой-то доисторической гигантской птицы. Откуда-то из-за клетки слышалось неумолчное, то и дело переходящее в рык воркование трассы.
Он забрался в свою машину и закурил сигару, пытаясь избавиться от неприятного вкуса, оставшегося после caporal.[8]8
Сорт крепкого табака (фр.)
[Закрыть] Сидеть в недвижной машине было непривычно и непросто. Поразмыслив о том, хотел бы он переспать с Ангелиной или нет, он решил, что всем женщинам на свете он предпочитает англичанок. Среди его многочисленных подруг таковых до сих пор не было, но это ничего не меняло – Англия и все английское с раннего детства влекли его с неудержимой силой, так же как другого – знакомого ему человека – влекли Китай и все китайское.
Особых иллюзий касательно нынешнего состояния Англии он не питал. В самом начале Психоделической Войны Кувейт совершил налеты практически на все развитые страны. Британия была первой страной, испытавшей на себе действие ПХА-бомб. Психо-химические аэрозоли, являвшиеся по сути психомиметиками, погрузили ее города во тьму. Чартерис, сотрудник НЮНСЭКС, был послан в Британию для работы, и это означало, что положение там действительно серьезно.
И все же, пока он был не в Англии. Ему нужно было как-то скоротать этот вечер.
Как часто он думал об этом… Жизнь была так… коротка и вместе с тем так безнадежно скучна, что граничащее с нею дерзновенное сладострастие мига-гибели казалось едва ли не дарованной человеку милостью. Кто не испытывал скуки, так это жертвы Войны – для этого они были слишком безумны, – они были целиком поглощены своими радостями и страхами, порождавшимися истинной их диспозицией; именно по этой причине единственным чувством, испытываемым спасателями по отношению к спасаемым, была зависть.
Жертвы Войны могли тяготиться чем угодно, но только не собственной жизнью.
Табак был отменным, клубы ароматного дыма лениво кружили по салону машины. Он открыл дверцу, выпуская облако наружу, и вышел за ним сам. Вечер можно было скоротать по-разному: либо он поужинает в ресторане, либо найдет себе подругу. Секс – мистическое основание материализма. Это правда. Когда его жизнь сталкивалась с жизнью женщины, обнажались те ее закоулки и перспективы, без которых она была бы чем-то совсем уж убогим. Вновь вспомнились ему отчаянные гуляки, жертвы автострады, наяривающие сквозь ночь в обнимку со смертью.
Заметив на другой стороне площади светящуюся вывеску ресторана, он поспешил к нему и тут же вспомнил о том, что существует еще один способ изменения структуры застывшего французского времени. В обшарпанном кинотеатре, стоявшем здесь же, на площади, шел фильм «Sex et Bang-Bang». На афише была изображена полуголая блондинка с безобразной, похожей на усики, тенью над верхней губой. Ложь можно вынести, уродство – нет.
Пока он ужинал, он думал об Ангелине, о безумии, о войне и о нейтралитете: все названное было порождением времени – изменчивым восприятием изменчивого времени. Возможно, человеческих эмоций не существует вообще – есть лишь ряд различных микроструктур, проявляющих себя посредством субъектно-объектного синхронизма, воплощенного в тех или иных состояниях сознания. Он отставил тарелку в сторону.
Этот мир, Европа, – ненавистная и прекрасная Европа, что была его поприщем, – представилась ему не имеющим ни малейшего отношения к материи детищем времени. Материя как таковая имела чисто галлюцинаторную природу – она была относительно стабильной реакцией чувств, которой подлежали определенные воспринимаемые мозгом временные/эмоциональные колебания. Сознание безнадежно вязло в этой неосязаемой паутине, порождаемой самой возможностью восприятия, и вплетало в нее новые нити, чтобы уже в следующее мгновение оказаться уловленным ими. Мец, столь ясно прозреваемый всеми его чувствами, существовал лишь постольку, поскольку оные чувства пришли к определенному динамическому равновесию в их зыбком неверном биохимическом странствии по тенетам времени. Завтра, повинуясь необоримым суточным ритмам, они перейдут в существенно иное состояние, которое будет проинтерпретировано им как продолжение его путешествия в Англию. Материя была абстрактным представлением синдрома времени, чем-то походившем на изображение, виденное Чартерном на экране телевизора, – на реальность мерцающего экрана были наложены сменяющие друг друга призрачные картины велогонок и военных парадов. Материя была галлюцинацией.
Чартерис вспомнил о том, что просветление это он провидел еще до того, как вошел в Hotel des Invalides, пусть тогда природа его была для него совершенно неясной.
Он сидел, боясь пошелохнуться. Если это так, если все, что он видит, – галлюцинация, значит, сейчас он находится совсем не в ресторане. Нет этой тарелки с холодной телятиной. Нет Меца. Автострада соответственно превращается в проекцию внутренних временных потоков вовне, током жизни, обратившимся асфальтовой рекой, диалогом. Франция? Земля? Где он? что он?
Ужасен был ответ и неопровержим. Человек, которого он называл Чартерисом, был одним из проявлений временного/эмоционального потока – не более реальным, чем ресторан или автострада, – одним из узлов этой грандиозной волны становления. «Реальной» была лишь паутина восприятия. На деле «он» был именно ею, этой паутиной, в которую попали разом Чартерис, Мец, агонизирующая Европа, израненные громады Азии и Америки, – условный мир, призрачная реальность… Он был Богом…
Кто-то говорил с ним. Он сконцентрировался и понял, что это официант, спрашивающий у него дозволения убрать тарелку, – еле слышный его голос доносился из далекого далека. Так, значит, сей официант – Посланник Тьмы, он покусился на его Царство. Чартерис отослал официанта прочь, пробормотав что-то невнятное, – лишь много позже он понял, что в ресторане он вдруг заговорил на родном своем языке, что было крайне странно, – по-сербски он не говорил никогда.
Ресторан закрывался. Швырнув на стол франки, Чартерис поднялся и вышел прочь – в ночь. На воздухе он постепенно пришел в себя.
Переживание потрясло его до глубины души. На краткий миг он стал Богом. Он стоял, прислонившись плечом к холодной каменной стене, и тут забили часы, установленные на соборе. Они пробили десять раз. В состоянии транса он находился два часа.
В лагере под Катанзаро НЮНСЭКС разместил десять тысяч человек. По большей части это были русские, привезенные сюда с Кавказа. Чартерис свободно изъяснялся на русском языке, очень похожем на его родной сербский, что в конечном итоге и позволило ему поступить на службу в отделение реабилитации.
Особых хлопот поселенцы не доставляли. Почти все они были поглощены внутренними проблемами своих крохотных республик – собственных душ. ПХА-бомбы были идеальным оружием. Галлюциногены, состряпанные арабами, не имели ни вкуса, ни цвета, ни запаха, что делало их практически необнаружимыми. Они были дешевы и допускали использование любых средств доставки. Они были равно эффективны при попадании в легкие, в желудок или на кожу. Они были фантастически сильны. Эффект, производимый ими, определялся полученной дозой и во многих случаях не изглаживался до самой смерти жертвы.
Десять тысяч жертв психомиметической атаки слонялись по лагерю, улыбаясь, смеясь, поскуливая, пришептывая точно так же, как и в первые минуты после бомбового удара. Некоторым удалось оправиться, у большинства же изменения приняли необратимый характер. Кстати говоря, персонал лагеря в любую минуту мог разделить участь своих поднадзорных – их болезнь была заразной.
Наркотики проходили через человеческий организм, не теряя своей эффективности. Испражнения потерпевших собирались и подвергались длительной химической обработке, позволявшей расщепить психо-химические молекулы так, что они уже не представляли собой опасности. То и дело кто-то из сотрудников НЮНСЭКС заболевал – все они знали об этом и понимали, что платят им прежде всего за риск.
«Я тоже, – подумал Чартерис. – Я и грустная красавица Натрина… У меня меняется сознание. Судя по всему, этим божественным видением я обязан наркотику. Ну что ж – наполним эти темные аллеи дрожащим радуг светом…»
Он шел по направлению к Hotel des Invalides, держась рукой за стену. Материя оставалась материей. Когда к нему подошла Ангелина, он едва узнал ее.
– Ты меня здесь поджидал? Ты что – решил меня подстеречь, – да? Иди-ка лучше в свою комнату – мадам скоро двери запрет!
– Я заболел, Ангелина… Ты должна помочь мне.
– Сколько тебе раз говорить! Я по-немецки не понимаю! Говори по-итальянски!
– Ангелина, помоги мне! Я заболел!
– Я бы этого не сказала.
Она чувствовала его сильное стройное тело.
– Клянусь! У меня галлюцинации! Я боюсь возвращаться в свою комнату – мне нельзя оставаться одному – мне нужно хоть немного прийти в себя! Если ты мне не доверяешь, я буду курить. С сигарой во рту я не смогу даже поцеловать тебя – верно?
Через минуту они уже сидели в его машине. Ангелина то и дело с опаской посматривала на него. Улизнувшие со стен собора оранжевые огоньки поблескивали в ее глазах. Оранжевый – цвет застывшего времени! Он втягивал в себя ароматный едкий дым сигары, пытаясь истребить, выкурить посетившее его страшное видение.
– Скоро я вернусь в Италию, – сказала Ангелина. – Война уже кончилась, и теперь понятно, что вторжения арабов не будет. Я смогу работать в Милане. Дядя пишет, что там снова начался ажиотаж. Это правда?
Ажиотаж. Какое странное слово. Оживотаж. Ажиотаж.
– Честно говоря, я совсем не итальянка – я имею в виду происхождение. В нашей деревушке живут потомки албанцев. Пятьсот лет назад, когда турки захватили Албанию, многие албанцы бежали морем на юг Италии, чтобы начать там новую жизнь. За все эти века обычаи наши так и не Изменились – представляешь? Там, в Катанзаро, ты должен был о нас слышать.
Он отрицательно покачал головой. Обычные для Катанзаро легенды и фобии имели явное кавказское происхождение, пусть они и были преломлены самобытным отравленным наркотиками сознанием. Не иллирийское – кавказское чистилище.
– Когда я была маленькой девочкой, я могла говорить на двух языках: дома по-тоскски, на улице – по-итальянски. Ты думаешь, я смогу сказать по-тоскски хотя бы слово? Нет! Я забыла свой родной язык начисто! И дяди мои его тоже забыли. Единственный человек, который хоть что-нибудь помнит, – это моя старая тетка, которую тоже зовут Ангелиной. Она по сей день поет детям старинные тоскские песни. Можешь представить, как это грустно – забыть язык своего детства. Чувствуешь себя непонятно кем.
– Бога ради – заткнись! Я о твоем тоскском ничего не знаю и знать не хочу! Идет оно все куда подальше!
Она тут же успокоилась, решив, что человек, так грубо ведущий себя с нею, вряд ли будет домогаться ее. По-своему она была права.
Они смотрели на мандариновые полосы, пролегшие через всю площадь. Народ неспешно прогуливался. Подержанные автомобили, присев на корточки, прислушивались к далекому шуму автострады, напоминая зверей, готовящихся к смертельной схватке с давним противником.
Он спросил:
– Ты никогда не испытывала мистических переживаний?
– Наверное, испытывала. Ты говоришь о религии?
– К черту религию!
Кончиком сигары он указал на пламенеющий в свете прожекторов собор.
– Я имею в виду реализацию, подобную той, которой сподобился Успенский.
– Успенский?
– Был такой русский философ.
– Никогда о таком не слыхала.
Увиденное потихоньку забывалось.
Решив, что голова его достаточно отдохнула, он попытался понять, что же в ней происходит, однако Ангелина, которая, казалось, только этого и ждала, вдруг начала нести несусветную чушь.
– Я хочу вернуться в Милан осенью – где-нибудь в сентябре, – тогда жара уже спадет. Здесь, в Меце, и католиков-то настоящих нет. Ты в Бога веришь? Французские священники такие странные – чего я не люблю, так это того, как они на тебя смотрят! Иногда мне кажется, что еще немного и я во всем разуверюсь, – ты представляешь! Скажи мне честно – ты веришь в Бога?
Он повернулся к ней и посмотрел в ее оранжевые глаза, пытаясь понять, что она имеет в виду. Таких занудливых девиц он еще не встречал.
– Если тебя это действительно интересует, то пожалуйста! Наши боги живут в нас самих, и мы должны следовать им во всем.
Его отец всегда говорил то же самое.
– Но ведь это глупо! Эти боги будут отражением нас самих, что приведет нас – хотим мы того или нет – к оправданию эготизма.
Ответ его ошеломил. Его познания в итальянском и в теологии были слишком скромны для того, чтобы он мог ответить ей достойно. Он кашлянул и выдавил из себя:
– Что такое ваш Бог, как не инвертированный эготизм? Уж лучше бы вы хранили его в своем сердце!
– Какой ужас! Ты католик, а говоришь такие страшные вещи!
– С чего ты взяла, что я католик? Я – коммунист! Чего только я в жизни не видел, а вот Бога вашего так и не встретил! Его изобрели капиталисты!
– Да ты, я смотрю, действительно больной!
Зло захохотав, он схватил ее за запястье и потянул к себе.
– Сейчас мы разом во всем разберемся, милая!
Она склонила головку и резко, по-птичьи, ударила ею прямо в нос. Голова его тут же выросла до размеров собора, одновременно наполнившись тупой болью. Она уже бежала по площади. Дверца «банши» так и осталась открытой.
Через минуту-другую Чартерис покинул машину, закрыл за собой дверцу и направился к отелю. Двери его были заперты. Мадам наверняка была уже в кровати – ей снились комоды и сундуки, которых она не могла открыть… Он заглянул в окно и увидел, что хозяин так и сидит за своим столиком, распивая со своим товарищем очередную бутыль вина. Собака, привязанная к радиатору, как и прежде, не могла найти себе места. Вечное движение, вечно повторяющееся движение – морг жизни.
Чартерис-чародей постучал в окно, тем разрушая чары их сонного бдения.
Через минуту хозяин отпер входную дверь и, как был в рубашке, выглянул наружу. Он значительно кивнул самому себе, словно убеждаясь в чем-то донельзя важном, ни на миг не прекращая пощипывать свою куцую бороденку.
– Вам повезло, что я еще не лег, мсье! Моя супруга очень не любит, когда ей приходится отпирать уже запертую дверь! Мы с другом решили проиграть перед сном несколько старых баталий, если бы не это – ночевать бы вам в машине!
– Я занимался примерно тем же.
– Вы слишком молоды для этого! Я говорю не о каких-то там докучливых арабах – нет! Я говорю о бошах, парень, – понимаешь? О бошах!!! Когда-то этим самым городом владели они.
Он поднялся в свою комнату. Неведомый шум доносился с улицы. Он подошел к окну и, посмотрев вниз, увидел, что шлюзы канала открыты настежь. Над искореженным телом машины и прочим хламом с ревом неслась вода, увлекавшая этот хлам за собою. Всю долгую ночь Чартериса преследовал шум сих очистительных вод.
Утром он проснулся раньше обычного, выпил первый сваренный мадам в это утро кофе, отличавшийся от воды разве что цветом, и заплатил по счету. Ангелина так и не появилась. Голова его была такой же ясной, как и обычно, однако мир странным образом изменился – он стал куда менее плотным. Нечто пробуждалось, нечто разворачивалось в нем, превращая обыденный мир во что-то таинственное и грозное, – Чартерису казалось, что его повсюду подстерегают незримые змеи. Он так и не мог понять природы этой странной метаморфозы. Что это? Подлинная реальность, иллюзия или же не то и не другое? Этого он не знал, да и не хотел знать. Теперь его единственным желанием было поскорее покинуть затхлую гостиницу с ее батальными картинами и запахом прелого caporal.
Он положил сумку в багажник машины, сел за руль и, пристегнув ремни, объехал собор и оказался на автостраде, уже кишевшей машинами. Он свернул на дорогу, ведущую к морю, и, оставив Мец позади, устремился к вожделенной Англии.








