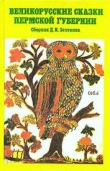Текст книги "У бабушки, у дедушки"
Автор книги: Борис Рябинин
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
В деревне не светилось ни одного огонька, перестали лаять собаки. Никто не спал. Не спали мы с мамой, огня не зажигали, к окнам не подходили – опасались; только слушали. Было любопытно и жутко. Тревожно билось сердце. Я, кажется, своим телом ощущал, как волнуется мама. Неужели уходят, неужели!!!
Улицу размесили, телеги вязли, в грязи застревали даже кавалеристы, люди и лошади выбивались из сил. Хлесь! Хлесь! – доносились удары по спинам лошадей. Бедные животные, им-то доставалось за что?
Вдруг забарабанили в окна, сперва в одно, потом в другое, да так, что вот-вот, гляди, стекла вылетят из створок: солдаты просили пить. То одна, то другая темная фигура отделится от общей массы и бежит к избе. Пили жадно, большими глотками, тоже как загнанные лошади. Выпьет солдат ковш воды, утрется, иной поблагодарит и бежит догонять своих. Все грязные, заросшие, шинелишки рваные. Довоевались! Обманули господа белогвардейцы, погнали воевать против красных, а теперь расхлебывай. Где оно остановится, отступление, если только остановится?
Всю ночь за окнами слышалась дикая брань, фыркали кони, скрипели и стонали телеги, громыхали пушки, всю ночь тянулся бесконечный обоз, ползла, шевелилась, порой замирала, останавливалась и снова ползла гигантская змея...
К рассвету стихло.
Настало утро. Взошло солнце.
Казалось, все ночное нам привиделось во сне...
У меня было любимое место – зеленая лужайка за деревенской околицей. Лужайку пересекала дорога ; дорога вползала на мост; внизу, под мостом, плескалась и звенела река. Я выбежал на лужайку, глянул и замер. Около кустов перед мостом стоял человек с винтовкой, в зеленом островерхом шлеме с красной звездой.
Красноармеец! Красный! Вероятно, его поставили тут, чтоб ни один белогвардеец не мог проехать по мосту.
Межевая в этот день стала для меня действительно межевой. Ведь межа – это граница, рубеж, разделяющий два поля или два государства... Позади в этот день осталось все страшное, что было связано с войной, с белыми, с отъездом папы (или его потерей – ведь мы все еще не знали, жив ли он, вернется ли к нам).
После того как остолбенение мое прошло, я во всю прыть помчался назад, в деревню, чтоб сообщить радостную новость маме. Еще издали заметил – около наших ворот привязана лошадь. Серая, в яблоках, высокая, красивая, с седлом на спине. Кавалерийский конь. Сердце у меня чуть не выпрыгнуло из груди: папа, папа вернулся! Я понял это сразу.
Через минуту я был в его объятиях.
Мама плакала и смеялась. Отец улыбался. Право, повстречай я его где-нибудь в другом месте, пожалуй, не узнал бы. На отце был такой же шлем с красной звездой, как на часовом у моста, у пояса – кобура с пистолетом... И почему-то даже отец мне показался выше. Загорелый, стройный, веселый... Папа, милый папа! Ты все-таки вернулся к нам! Как хорошо, что ты Еернулся! Он подбрасывал меня на руках, вертел и тискал так, что у меня ребра трещали. Но это было тоже хорошо. Пусть так будет чаще! Приятно, когда твой папа сильный.
Оказалось, красные уже побывали в Красноуфимске. На рассвете их дивизия вошла в Красноуфимск. Родственники сообщили отцу, что мы с мамой в Межевой, и он сразу поскакал сюда. Атамана накормить надо,– сказал отец, когда первый приступ радости прошел и все немножко утихли и успокоились.
Он сказал это таким тоном, каким говорят о близком товарище, друге. Все втроем – папа, мама и я – мы пошли к воротам, где был привязан серый статный конь,
Хочешь прокатиться? – предложил отец, и в тот же миг я очутился в седле. Отец так ловко подбросил меня туда, что я и слова сказать не успел.
Атаман тихонько-вопроситель– но заржал и потянулся мордой ко мне. Я ощутил его теплое дыхание.
Да ты не бойся. Он не тронет. Держись крепче...
Седло подо мной запокачива– лось. Запокачивался и я, уцепившись за седло. Отец одной рукой поддерживал меня, другой вел под уздцы Атамана. Атаман неторопливо переставлял длинные ноги – понимал, наверное, что быстро нельзя, седок ненадежный.
Ой, какой же он и вправду высокий, прямо высоченный, земля внизу далеко. Как не боится на нем ездить отец?!
Жесткое кожаное седло поскрипывало. Я был ни жив ни мертв. Даже гордиться забыл. Попробуйте-ка впервые в жизни очутиться верхом на боевом коне, узнаете, что это такое!
Отец завел Атамана во двор, меня снял и поставил наземь, а коню задал добрую порцию овса. Я смотрел, как Атаман ест, как ловко действуют его мягкие, с длинными торчащими волосиками, розовые губы, подбирая овсинку за овсинкой, мерно двигаются челюсти, перетирая еду, хруп-хруп, хруп-хруп, а сам все еще видел себя верхом, ощущал теплые крз тые бока и мерное колыхань большого сильного тела.
Удивительное дело: еще совсем недавно я даже не подозрева о существовании Атамана, a сейчас не мог представить себе, как это вдруг отец вернулся бы без него. Насколько дорог мне ста этот серый, в яблоках, конь, всю войну носивший на себе моего героя-отца! А Атаман, продолжая безостановочно хрустеть овсом, косил на меня большим умным глазом, как бы говоря: «Глядишь Гляди. Наше дело такое: есть еда – ешь, нету – терпи. Мы народ служивый...»
Поесть он был горазд! Ого, только подавай! Выносливость как у настоящего боевого коня и, как настоящий боевой конь, в походах и лишениях он мог довольствоваться малым.
Отец рассказывал: что ни дай, все съест. Уминал солому, нет соломы – жевал прошлогоднюю мякину; нет мякины – принимала за изгородь. Да, за палки, жерди. Изгложет все. На войне всякое случается, бывает – люди голодом, а для лошадей и вовсе закусочных не приготовили. Крепкие желтые зубы Атамана могли истереть что угодно, хоть кирпич. Только гвозди не ел.
Другой давно бы сдох от такой жизни. А этот...
Ест – и все прислушивается, все поводит глазами, косится, прядет ушами: что происходит вокруг, нет ли поблизости опасности? Военная косточка, как отзывался о нем отец.
– Я всю кампанию на нем проделал! – сказал отец.– Сколько раз он меня выручал...
Оказывается, война – это «капания». И как отходила с боями Красная Армия с Урала до Волги, до города Царицына, а потом возвращалась, тоже с кровавыми боями, к нам на Урал,– это была «кампания». И как отец проделал этот длинный путь, туда и обратно, верхом на Атамане, тоже «кампания». Все, что поместилось между тем памятным днем восемнадцатого года, когда отца на дороге остановил красный патруль и он вместо дома попал на фронт, в гущу сражений, и этим солнечным днем девятнадцатого года в Межевой, когда вернулся отец, все это была «кампания».
Фронт долго стоял под Царицыном, будущим Сталинградом (сейчас он называется Волгоградом). Уже тогда этот город показывал, чего он стоит. Красные сражались что надо, но у них не хватало оружия, боеприпасов, одежды, провианта. У белых было все.
Штаб дивизии, в которой служил отец, находился в станице недалеко от Царишына. Раз пришел обоз – украинские волы притащили большие телеги с провиантом. Только втянулись в станицу – налетели вражеские самолеты и давай кидать бомбы. Потом, вторым заходом, обстреляли из пулеметов. Люди попрятались. А куда деваться волам? Белые летчики поливают их из пулеметов, а волы стоят... Вот у одного по спине побежали красные ручейки, ноги подогнулись, вол медленно повалился наземь; за ним – второй...
– А моего мерина и пули не брали,– говорил отец.
О том, какие опасности грозили ему самому, он не упоминал.
Наконец красные одолели, и белые побежали. Началось контрнаступление. Да какое! Отступали быстро, а наступали еще быстрее, без передышки. И ели, и спали » седле. День и ночь марш-марш. Только, случалось, расположатся. привал, опять – подъем и вперед!
Отец был при штабе дивизии. Начальник топографического отряда. Его дело – обеспечивать картами. Без коня – никуда. Разведка и съемка – все на Атамане. У других короткий отдых, а им с другом Атаманом опять заниматься глазомерной съемкой, готовить карты для дальнейшего движения вперед.
Вот тут-то Атаман и показал, чего он стоит.
– У других кони посбивали копыта, а моему Атаману все нипочем. Только в воду я его ни разу не мог заставить войти. То ли он ее не любит, то ли плавать не умеет.
...Однажды – это уже когда приближались к Уралу – отец получил срочный приказ начдива немедленно выехать в город Сарапул и раздобыть карты. Наши передовые части уже вступили в Сарапул. А без карт местности могло задержаться дальнейшее продвижение. Артиллеристы не могли метко стрелять по врагу.
Отец оседлал Атамана и поскакал.
Дорогу ему преградила Кама.
Отец метнулся туда, сюда. Моста нет, паромы сняты —весна, вода поднялась, вот-вот тронется лед с верховьев.
Как быть? Кама – река широкая, большая, не перепрыгнешь. И приказ нарушить нельзя. Военный приказ.
Пока искал переправу, начался ледоход. Громадные почерневшие льдины медленно потянулись по широкой темной глади, шурша и обламываясь друг о друга, От реки дохнуло зимой. Худо дело.
Все-таки отцу удалось сговорить одного рыбака переправить его в лодке на другой берег. А как быть с конем? Тоже в лодку. Не бросать же. Сам он не поплывет: и прежде ни за что не шел в воду, сейчас и вовсе не заставишь. Да если б даже поплыл, льдина тюкнет в голову – и поминай как звали...
Старый рыбак в ужас пришел, узнав, что этот отчаянный красный конник хочет переправляться в челноке вместе с лошадью. С ума сошел! Пусть оставляет лошадь здесь, после вернется и заберет.
Но отец не мог оставить Атамана. Во-первых, конь не его, армейский. Во-вторых, как; ехать дальше? Нет уж. Целый год воевали вместе. И сейчас вместе.
Он умный, вот увидишь,– доказывал отец рыбаку.
Да он лодку перевернет!
Не перевернет...
Видать, рыбак тоже был забубённая головушка, коль согласился. И красным сочувствовал, это уж точно.
Медленно-медленно отец завел Атамана в лодку. Атаман сперва упирался, храпел. Отец боялся дышать. Шажок... другой... а ну, еще, еще... давай, друг! Осторожно, осторожно... Лодка качнулась, едва не черпнув воды. Отец замер. Замер, оцепенел на месте и Атаман, с вытянутой шеей и выкаченными от страха глазами. Ноги расставлены, под кожей ходят упругие желваки – мускулы. Ох, до чего же понятлив!
Осторожно оттолкнулись от берега, поплыли. Рыбак на корме греб, отец сидел на носу и держал за уздечку Атамана.
Навряд ли он смог бы помешать, если бы Атаману вдруг вздумалось прыгнуть в воду. К счастью, Атаман не любил плавать...
Теперь уже – к счастью.}
Да! Я чуть не забыл сказать отец мой тоже не умел плавать.
Медленно-медленно приближался противоположный берег. Льдины задевали борта лодки, раз даже чуть не повернули ее поперек течения. Атаман как окаменел. Только глазами туда-сюда.
Издали донесся тяжкий гул. Гром с неба? Нет, это продолжалась военная гроза. Атаман запря– дал ушами.
Вот и берег... Уфф, неужели доплыли? Атаман прыжком подал свое тело вперед, следом выскочил отец и, черпая воду голенищами сапог, побрел к берегу. Тут уже было мелко. Облегченное утлое суденышко сразу всплыло, завертелось на месте и тотчас оказалось на берегу – льдины вынесли его на сушу.
Простившись с рыбаком, отец, пришпоривая Атамана, поскакал в ту сторону, где гремели пушки...
Через несколько дней мы уезжали из Красноуфимска в Кунгур. Вместе с нами ехал и отец. Его демобилизовали. Он был специалист сельского хозяйства, и вышел особый приказ насчет специалистов сельского хозяйства: уволить их из действующей армии досрочно, не дожидаясь конца войны.
Было мокро, скользко, прошли сильные дожди. Нас, беженцев, везли на попутных грузовиках. Вместе с нами везли армейское имущество, какие-то огромные тюки, связки, а мы сверху, на них. Дорога была избитая, в нырках, грузовики встряхивало, мы, наверху, качались и подпрыгивали, как куклы. Мама держала меня: боялась – подбросит, а я и тю-тюР вылечу за борт.
В грязи грузовики буксовали, под колеса подбрасывали ветки, жерди. Моторы рычали-надрыва– лись, из-под колес летели фонтаны жидкой грязи. Вокруг суетились люди.
Помню парня с забинтованной рукой. Колесом ему раздавило палец. На подъеме он подкладывал под колеса камни, чтоб машина не скатилась вниз. А грузовик неожиданно пополз назад и придавил палец. С пальца капала кровь, но парень беззаботно смеялся и все продолжал соваться под грузовик – помогал.
Все было хорошо. Миновали грозы и ненастье. Все чувствовали себя счастливыми оттого, что возвращаются домой. И только Атамана, милого Атамана не было с нами. Ему предстояло воевать дальше, до полной победы.
Как простился отец с Атаманом, не знаю, не видел, а спросить не решался – наверное, он все равно не сказал бы.
Пожалуй, теперь у моей матери появилось еще больше оснований любить лошадей. Ведь если б не Атаман, вернулся ли бы отец? Сколько нам пришлось бы еще ждать?
Богатырский, сказочный, красноармейский конь Атаман! Как отблагодарить тебя, добрый-добрый выносливый друг? Вот и ныне: оседлан, взнуздан. Чей-то отец или брат садится в седло, ноги в стремя, приосанился, тронул поводья – и понесся конь, что птица. Только искры полетели из-под копыт...
Яшка
Отец мой был землемер. Каждую весну, едва наступали теплые дни, он забирал нас с мамой, и мы уезжали на все лето в деревню. Рано утром, с первыми петухами, за отцом заезжала подвода, на телегу клали инструменты – теодолит, колышки-шпильки, стальную, свернутую в тугой круг измерительную ленту, и вместе с группой рабочих – крестьян-землепользователей и уполномоченными общества – отец отправлялся в поле на работу – мерить землю. Возвращался обыкновенно уже затемно, а потом еще долго сидел и при свете керосиновой лампы-«молнии» приводил в порядок дневные записи, переносил на толстые белые листы ватмана сделанные наспех наброски-чертежи, «камеральничал», как он говорил.
Однажды он вернулся не один – привез с собой купленного в соседней деревне двухнедельного поросенка-сосунка.
– Зимой свое мясо будет,– сказал отец, передавая покупку матери.
Время было голодное: недавно кончилась гражданская война. А перед тем была первая мировая война, или, как ее называли тогда, германская война. Сколько лет воевали! Страна не успела оправиться от разрухи. Коробок спичек стоил миллион рублей. Достать соль – целое событие. А уж про еду и говорить нечего – ни масла, ни яиц. О сахаре думать забыли.
Хлеба ели не досыта! Вместо хлеба давали жмых, отходы, которые получаются при выжимании масла из семян подсолнечника. Твердая такая спрессованная масса, зубы сломаешь. Обычно жмых идет в корм скоту, а тогда ели люди. И жмыху были рады! И того не было! А есть-то хочется каждый день, и многие горожане в те годы, как заправские крестьяне, обзаводились собственной живностью, копались в огородах.
Вот отец и решил разживиться поросенком.
Поросенок тоненько похрюкивал, тыкался по сторонам круглым розовым пятачком да беспомощно моргал белесыми ресничками. Сквозь сивую щетинку просвечивало нежное розовое тельце. Не в пример другим визгливым представителям своего свинячьего племени, он был на удивление чист, скромен и тих, не вырывался из рук, не верещал, как под ножом, и тем самым сразу же понравился всем нам. Такой миляга!
Куда его? В хлев запереть пожалели – уж больно мал. Посовещавшись, решили оставить до утра дома. Папа отгородил фанерной доской угол на кухне; мама поставила туда глиняную чашку, налила молока, ополосков, накрошила хлеба. Почавкав, поросенок сиротливо приткнулся к стенке и затих.
Я спал в комнате на полу за большим чертежным столом, где по воскресеньям и вечерам в будние дни работал отец
Среди ночи я внезапно проснулся. Кто-то осторожно подталкивал меня в бок. Поросенок! Ему было скучно одному. Его же взяли от матери, от братишек. Он толкнул дощечку, повалил загородку и отправился бродить по дому – искать родственную душу... и нашел меня.
Малыш очень обрадовался нашей встрече. Радостно накручивая коротеньким крючочком-хвостиком, он обошел вокруг моей постели, потыкался там, тут, затем подковырнул носом край одеяла и подлез ко мне. Он был такой тепленький, ласковый, трогательный, так доверчиво привалился ко мне, что это сразу подкупило меня. Я не стал гнать его, и он скоро угомонился.
Он согревал меня, а ему было тепло от моей близости. Засыпая, он еще долго едва слышно похрюкивал, словно хотел сказать: «Ах, как хорошо, уютно... а мне было так одиноко и грустно...»
Так, прижавшись друг к другу, мы и уснули.
Утром сквозь сон я услышал разговор родителей.
Куда он девался? – растерянно-сердито говорила мать.– Не сквозь пол же провалился?!
Ничего не понимаю,– ворчал отец.– Ты, наверное, во двор ходила, дверь не заперла плотно, он и выбежал...
Никуда я не ходила...
Тсс, смотри! – прервал отец, показывая в мою сторону.
Я пошевелился, одеяло сползло с меня, и... представляете такую картину? Лежит их сынок, голова на подушке, а рядом, нос к носу, на подушке же, свинячье рыло. Розовый «пятак» почти упирался в мою щеку... Да, поросенок хорошо устроился и, успокоенный, сладко всхрапывал во сне.
– Ну и ну,– только и смогла произнести мама, удивленно покачав головой.– Вот и попробуй найди его. Видали приятелей?
Да уж, приятели что надо.
Поросенка стали кликать Яшкой. Через неделю он уже хорошо знал свое имя и тотчас прибегал, заслышав его. День он бродил по дому или придремывал за своей фанерной загородкой, а на ночь обязательно являлся ко мне, и мы дружно засыпали вместе.
Спал Яшка удивительно крепко, как настоящий младенец. Спящего поросенка можно было перекладывать с одного места на другое, приподнимать и опускать. – он не просыпался, иногда лишь сонно хрюкал. Случалось, во время сна я клал на него руку, ногу, раз сильно придавил всем телом – ничего! Яшка принимал все как должное. Возможно, ему это даже нравилось.
Яшкино пребывание в доме затянулось. Во двор, к другому домашнему скоту, поросенка не выпускали; он гулял лишь в небольшом загончике в.саду под окнами, рылся там в земле, но был настолько опрятен и чист, что мои родители не противились нашему общению – разрешили нам дружить
Осенью мы переехали в город. К этому времени Яшка заметно подрос, теперь его определили во двор. Под сараем устроили небольшое стойло, настелили соломы, поставили деревянную кормушку– корыто. И кормили хорошо, сытно. Но поросенок скучал в одиночестве. Верещал, бился о доски, пробовал их грызть. Его часто выпускали. Он быстро освоился на новом месте и сообразил, куда ведут двери дома. Сунулся в одну из них – попал на кухню. Оттуда его изгнали сразу же. Тогда Яшка направился в другую дверь. Тут остановила лестница, которая вела на второй этаж.
Яшка долго нерешительно топтался на крыльце. Потом взобрался на одну ступеньку. Постоял, размышляя, что делать дальше. Влез еще на одну. На третьей ступеньке нога у него подвихнулась, он не удержался и с отчаянным визгом скатился вниз.
Однако норосенок оказался на редкость настойчивым и упрямым. Он повторил попытку. На сей раз ему удалось подняться на ступеньку выше. И – опять скатился вниз, пересчитав боками все ступеньки. Но это ничуть не обескуражило его...
Не знаю точно, сколько раз Яшке пришлось штурмовать лестницу. Знаю лишь, что с каждым разом он прибавлял по ступеньке, по две. И в конце концов добился своего – достиг верха и, похрюкивая, с довольным видом явился в комнату.
С этого дня Яшка стал часто наведываться в квартиру. Явится, обойдет все комнаты, потычется пятачком к одному, к другому... Чистоплотен он был просто на удивление, ни разу не позволил себе напачкать, поэтому его не гнали, а лишь вежливо просили убраться, когда приходило время выпроводить гостя восвояси.
Если почему-либо дверь оказывалась запертой, Яшка громко хрюкал, требуя, чтоб его впустили, пытался открыть ее сам, толкая своим пятачком; когда же ничего не помогало, ложился у порога и терпеливо ждал.
Однажды по дому разнеслась тревожная весть: Яшка заболел, забился под завозню и не выходит. Завозней у нас назывался дедушкин амбар с разным старьем еще дореволюционных времен. Под полом амбара имелось большое низкое пространство, куда легко было проникнуть со двора через дыру между бревнами и землей.
Яшка лежал под завозней, тяжело дышал и время от времени, совсем как человек, жалобно постанывал. Попробовали выманить едой – не действует. Позвалп знакомого фельдшера-ветеринара.
Фельдшер слазал под завозню, насобирав там на себя массу тенёт. У Яшки оказалась высокая температура.
– Может погибнуть,– сказал ветеринар.– Жар большой, да еще сало кругом, сердцу трудно. Лучше прирезать, пока не поздно...
Прирезать! Дело не хитрое. А вылечить?
Не знаю, жалость ли к заболевшему поросенку или упорное желание иметь к зиме «свое мясо», а заставили мать поступить по– своему. Верней всего, из-за прирожденной любви к животным, которая сочеталась с хозяйственной жилкой, мама не послушалась ветеринара, а приняла все меры, чтоб выходить Яшку.
Развела полкринки уксуса. Собрала старые чистые тряпки. Затем забралась в логово больного и, намочив тряпки в уксусе, замотала ими Яшку. Когда тряпки высохли, вновь намочила уксусом. Так она делала несколько раз. Уксус – жаропонижающее средство: испаряясь, он охлаждал Яшкино тело.
И Яшке стало легче. Больной перестал стонать, задвигал ушами, дыхание сделалось более спокойным, без шумных вздохов и хрипов.
В течение дня мама сменила не менее десятка компрессов. Только вылезет из-под завозни – и опять туда. Яшкин жар медленно спадал. Но к ночи поросенка начал бить озноб. Яшка трясся всем своим жирным телом, закатил глаза, ноги дергались, копытца скребли по земле... Неужели умрет, напрасны все старания?
Мама позвала на помощь меня. Настелив под завозней соломы, вдвоем мы сдвинули Яшку с голой земли и уложили на подстилку. Потом мама укрыла больного старым полушубком.
Так продолжалось трое суток. Днем Яшка метался в жару, а ночью отогревался под полушубком. Моя заботливая мать навещала болящего даже ночами.
На четвертые сутки, утром, Яшку обнаружили на середине двора. Он лежал врастяжку на боку и, лениво помахивая ушами, отгоняя назойливых мух, грелся на солнце. Поросенок выздоровел – помогли наши хлопоты да заботы! Он немного отощал, но это было не страшно – нагулять жирок Яшке не стоило особого труда.
К зиме Яшка превратился в большую свинью белой английской породы. Он действительно был всегда чистым, белым. Не помню, чтоб он когда-нибудь выпачкался в грязи. Свиньи вовсе не такие грязелю бивые животные, какими их принято считать. Просто, порой свинье бывает слишком жарко, жир греет, душит ее, и тогда она готова залезть в какую угодно сырость и грязь, лишь бы найти хотя бы некоторое облегчение.
Зимой Яшкины прогулки в комнаты прекратились. К этому времени он сильно повзрослел, потолстел и, наверное, уже забыл, как спал со мной в одной постели.
Когда выпал снег, мы, ребята, принялись возводить на дворе ледяную гору-катушку. Яшка, конечно, был тут же. С глубокомысленным видом он бродил вокруг катушки, похрюкивал, как бы высказывая свои замечания насчет качества нашей работы, поддавал пятаком снег. А потом, когда гора была готова, улита водой и заледенела и мы стали кататься с нее на санках и на чем придется, а то и просто на собственных шубейках, Яшка неоднократно пробовал подняться по блестящему ледяному скату, скользил, падал, наконец, смекнув, в чем дело, поднялся по ступенькам за мной. Смеясь, мы дружно столкнули его с катушки, и Яшка скатился вниз на боку. Он испуганно верещал, забавно дрыгал в воздухе ногами. А придя в себя, снова полез за нами на катушку.
Вот так вышло, что среди моих друзей оказался поросенок.
Многие думают: свинья – она и есть свинья, глупая, неповоротливая, ленивая. Яшка доказал, что все это неправда.
Я читал: один шведский мальчик по имени Свен научил свою ручную свинку Путте ходить в упряжке. Путте возила Свена, и обоим это доставляло массу удовольствия. Жаль, я не догадался запрягать Яшку в санки.– он наверняка быстро привык бы к ним. Вот была бы потеха – прокатиться по Кунгуру на свинье!
Но пробил и Яншин час. Пришел мясник Шурыгин и...
Я этого не видел – был в школе. Мама нарочно постаралась сделать так, чтоб меня в это время не было дома. Но я хорошо помню, как долго-долго потом наш двор казался мне опустевшим – не хватало Яшки...
И очень долгое время – пока не подрос – я относился к Шургину с большой, совсем недетской неприязнью. Я был твердо убежден, что красные руки и багрово-бурачное лицо мясника – от крови животных, которых он погубил
ИДЁТ-БОДЁТ КОЗА-ДЕРЕЗА
Обычно нараспев начинала бабушка, а я прыскал со смеху.
Бабушка произносила эти слова очень смешно, вытянув губы дудочкой, протяжно и так, что получалось похоже на козлиное блеяние.
Как коза «бодёт», я уже знал хорошо. Пальцы одной руки бабушка складывала таким образом, что получалась рогулька. Выставив ее торчком перед собой и поворачивая подобно тому, как крутит головой коза, собираясь бодаться, бабушка грозила мне. Но мне было нисколечко не страшно. Я знал, что бабушка шутит и никогда не позволит себе обидеть внука.
Бабушка – маленькая, сморщенная, сгорбленная – и сама чем-то напоминала козу. Возможно тем, что была очень суетлива и старалась везде поспеть, где надо и где не надо
Идёт-бодёт коза-дереза
Мне было лет восемь или девять, когда произошла первая моя встреча с настоящей живой козой, вернее с козлом. Он жил в пожарке, с лошадьми. Слухом об его свирепости полнился весь город. Рассказывали, что раз он чуть не забодал насмерть одного пожарника. Козла боялись все ребята.
Козлов часто поселяют в конюшнях вместе с лошадьми. Говорят, своим противным запахом они отпугивают разных вредных насекомых и зверьков. Кроме того, козел хороший вожак и всегда шествует впереди стада или табуна. Но душной он, как говорила наша бабушка, не продохнуть...
Вот козлиная-то вонь прежде всего и донеслась до меня. А когда я сообразил, что козел близко, было уже поздно.
Я ужасно испугался. Теперь мне было совсем не до смеха.
Я заорал во всю мощь легких и здоровой мальчишеской глотки и бросился бежать, споткнулся и растянулся в пыли, а когда поднял голову, козел уже был надо мной. Он был большой, черный, косматый, страшный. Он угрожающе смотрел на меня. Борода тряслась, кривые острые рога выставлены вперед, как грозила мне пальцами-рогулькой бабушка, и почти касались моей спины. Вот-вот подцепят. И уж тогда несдобровать!
Спасла меня бабушка. В эту пору она как раз возвращалась с водой, сгибаясь под тяжестью «дружка» – пары ведер, через края которых плескалась прозрачная чистая вода. Воду брали из водоразборной будки, стоявшей на перекрестке.
Увидев, какая беда грозит ее внуку, бабушка мигом опустила ведра наземь, сняла с плеч коромысло и, размахивая им, с воинственным видом бесстрашно устремилась на бородатое страшилище.
Трах! Коромысло опустилось на спину свирепой животины. Трах...
Козел помедлил мгновение, затем, убедившись в серьезности бабушкиных намерений, тряхнул бородой, помекал и позорно пустился наутек. Вот тебе и гроза всех ребятишек! Бабушка на моих глазах из маленькой слабенькой превратилась в героиню.
Не испугалась козла. Шутка ли!
А вскоре мы обзавелись собственной козой
Манька сама по себе
К нам ходила одна женщина – продавала молоко. Мама покупала молоко для меня. Молоко было не коровье, а козье (коровьего тогда вообще нельзя было достать в городе ни за какие деньги), за него тоже приходилось дорого платить. И тогда мои родители решили: а не лучше ли завести козу? Коз в то время держали многие. Козу держать проще, чем корову. Ест она меньше. Неприхотлива. И заботы меньше. Все было правильно, кроме последнего: как раз хлопот да беспокойства с козой – не оберешься.
Мама сходила на другой конец города, сговорилась насчет покупки, а вскоре нам принесли живого маленького козленка.
Козленок был прехорошенький и необыкновенно игривый, шалун, каких свет не видел. Сколько раз он поддевал меня рожками. Только рожки у него были как шишечки (пока не выросли), и получалось совсем не больно. День-деньской разносился по двору стукоток бойких маленьких копытцев. Только что козленок был на крыльце – глядь, уже шастает по верху сарая. Прыг да скок. Подзови – сейчас же прибежит и начнет тыкаться теплой мордочкой в ладонь, выпрашивать угощение. Весь серый, только на лбу белая звездочка и концы ножек беленькие. Милый-милый... Так и хочется поцеловать в эту звездочку или в ласковую, мягкую морду.
На козленка возлагались большие надежды. Он должен был стать серьезным подспорьем в хозяйстве.
Все станет понятно, если вспомнить, что лишь недавно закончилась гражданская война. Я уж говорил: всего не хватало – спичек, керосина... На базаре хоть шаром покати, торговали только вениками. Сидели на пайке. Коза была целое богатство.
Козленок превратился в грациозную серую козочку, которой, бывало, ничего не стоило, играя, запрыгнуть кому-нибудь на колени, будто она котенок или кошка. Козочка росла, росла да быстрехонько превратилась в молодую озорную козу Маньку. Даже не заметили, как она выросла. Все была маленькая-маленькая, унесешь в охапке, и вдруг – коза! Потом у Маньки у самой появились козлята, и мы их продали, как продали нам Маньку, а Манька после этого стала давать молоко. Молоко пил я.
– Пей,– говорила мама.– Козье молоко – полезное.
Многие ребята тогда неделями не видели молока. Ни коровьего, ни козьего, никакого.
А из Манькиного вымени исправно выдаивалось каждый день две кринки: одна утром, другая вечером.
Козье молоко более густое, чем коровье, жирнее и обладает своим особым вкусом, который многим не нравится, а я так приохотился к нему, что когда потом пришлось пить молоко коровье, мне оно долго не нразилось, и я все вспоминал Маньку. А о том, что козье молоко полезное, мама слышала от врачей.
Я рос бледным, малокровным, и мама подмешивала в молоко толокно – толченую овсяную муку с сахаром; эту болтушку я и пил. И не знаю, от молока или толокна, или от чего другого, но я действительно начал быстро поправляться, набирать сил, здороветь, стал драчлив, как Манька же, и маме даже стали жаловаться на меня.
Манька стала моей кормилицей. Наверное, благодаря Маньке я и вырос такой большой, высокий, здоровый да сильный.
Манька и афиши
Манька обладала удивительной способностью. Ее можно было почти не кормить, но она все равно давала молоко.
Ела Манька все, что попадется. Сено. Траву. Веточки молодых деревьев. Палки. Солому. Веники. Подстилки, о которые обтирают ноги. Но больше всего ей нравились афиши.
Вообще, мне кажется, козы неравнодушны к бумаге. Увидят клочок бумаги, обрывок старой газеты – непременно подберут и сжуют. Есть трава – нет, сперва слопают бумагу.
Театральных афиш в нашем городе расклеивалось тогда не слишком много. Зато висела масса всяких объявлений, нужных и не очень нужных.