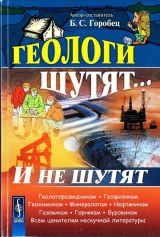
Текст книги "Геологи шутят... И не шутят"
Автор книги: Борис Горобец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
начальники урановых главков
Сырьевая урановая проблема охватывала два министерства – Минсредмаш и Мингео СССР. В них было два «Первых главка», два урановых, их начальники – оба Герои Социалистического Труда, оба «Заслуженные геологи», оба Карповы и оба Николаи. Только в Минсредмаше Карпов был Борисович, а в Мингео – Фролович. «Оба крепкие, коренастые, знающие свое дело, ведущие свои главки к успеху, но… порой больно хамоватые. Это присуще, к сожалению, многим, а в урановом деле оно было, было. <…>
Обсуждался вопрос о значимости и перспективах пластово-инфильтрационных месторождений урана нового типа. Доклад делал главный геолог Букинайской партии <в Узбекистане>В. М. Мазин. Коротко и толково показал запасы и перспективы. Н. Б. Карпов неоднократно перебивал докладчика, потребовал показать руду. Принесли образец песчано-глинистой слабосцементированной руды. Он тут же взял банку с водой и опустил туда образец, который быстро распустился.
– Это не руда, а жижа, – закричал он, не скупясь, на „эпитеты“ в адрес геологоразведчиков. После этого крика разведочные работы были прекращены.
При разведке „урановой жемчужины“ – Тулукуевского месторождения на Стрельцовке, – вдруг крик Н. Ф. Карпова, обращенный ко мне и главному геологу Ю. Г. Рогову:
– Вы очковтиратели! Враги народа!.. Нет у вас урана на Тулукуе. Один торий! Вы ответите!..
Привезли ему сотни журналов опробования, показали, как-то успокоили. А ведь для Узбекистана и России указанные места – единственные, где сегодня добывается уран».
(Цит. по: [Там же. С. 195])
* * *
Везиров всегда здоровался первым
«Сулейман Азатович Везиров – был начальником Азнефтекомбината, т. е. руководителем главного нефтедобывающего района страны в 1940-е годы, Герой Социалистического Труда, затем начальник Главнефтедобычи Наркомнефти. С. А. Везиров был умным руководителем, высококвалифицированным нефтяником, прекрасным организатором, прошедшим все ступеньки от мастера до начальника крупнейшего главка Наркомнефти. При строгости и взыскательности он был прост в общении. Мелкая деталь – при встрече с кем-либо в коридоре он всегда здоровался первым».
(Из очерка проф. В. В. Семеновича [ГМЖ-10. С. 84])
* * *
Михаил Федорович Мирчинк —
«маршал» нефтяной геологии
«В момент, о котором пойдет речь, М. Ф. Мирчинк занимал ответственную должность главного геолога „Азнефти“ – в те годы Азербайджан был основным центром нефтедобычи в СССР. Однажды ночью Багиров, тогда всесильный хозяин Азербайджана, друг еще более могущественного Берии, услышал по телефону упрек от Сталина, что Азербайджан не наращивает добычу нефти. Он немедленно послал за Мирчинком, чтобы потребовать от него объяснений. Но вот незадача – М. Ф. нет дома, жена не знает, где он. Тогда Багиров вызывает начальника МГБ и приказывает ему найти и доставить Мирчинка. И М. Ф. отыскивают за городом, на квартире управляющего „Лениннефти“ и доставляют в ЦК, естественно, в состоянии подпития. Багиров велит дать ему стакан чая с лимоном и затем доложить, почему с добычей дело обстоит неудовлетворительно. И М. Ф. четко отвечает на этот вопрос, перечисляя скважины одну за другой и называя их дебиты и так далее (у М. Ф. была прекрасная память). По мере этого доклада гнев Багирова постепенно утихал, и все кончилось благополучно (а в те времена могло кончиться и иначе)». <Этот же эпизод с другими деталями см. в главе «Геология и госбезопасность».>
Позже Мирчинк был назначен на еще более высокую должность главного геолога Миннефтепрома СССР, он был избран членкором АН СССР, был много лет директором Института геологии и разработки горючих ископаемых (ИГиРГИ).
Прошли десятки лет… «Наша последняя встреча состоялась на заседании Отделения АН в ГИНе. Встретив меня, М. Ф. пожаловался: „Знаешь, слаб я стал. Вчера выпил бутылку коньяка, а сегодня голова болит“. Видимо, это уже был сигнал о болезни, которая и свела его, могучего человека, в могилу».
(Из очерка акад. В. Е. Хайна [Смирн, сб.-2004. С. 228])
* * *
Девиз ректора
Над рабочим столом декана ФТРиР МГРИ Л. Г. Грабчака висел плакат: «Не меняют своих мнений только дураки и покойники». В 1989 г. Грабчак стал первым выборным ректором МГРИ.
(Из очерка проф. П. В. Полежаева [ГМЖ-3. С. 163])
Примечание.20 лет спустя ректора сместили «крутые топ-менеджеры». К счастью, он остался жив, а своего мнения о месте вуза в системе образования и методах работы не поменял (Б. Г.).
Эпизоды с участием
члена-корреспондента АН СССР
Л. Н. Овчинникова (1903–2003),
директора ИМГРЭ (1966–1986) 2525
Фрагменты из книги [Кременецкий, 2001. С. 6–8]
[Закрыть]
Однажды Овчинникова вызвал министр. Точно в назначенный час Овчинников вошел в приемную.
– Подождите, пожалуйста, – сказала секретарь, – министр занят. Прошло полчаса… Овчинников встал и сказал:
– Если я еще раз понадоблюсь министру, пусть он приезжает ко мне в институт. Это здесь, недалеко, Садовчническая набережная, дом 71.
После этого, пока Министерство геологии возглавлялось этим министром 2626
В 1962–1976 г. министром геологии СССР был А. В. Сидоренко, а потом, до 1989 г., Е. А. Козловский (Прим. Б. Г.)
[Закрыть], наш институт не получил ни одного нового прибора.
* * *
«Однажды я спросил у Овчинникова, чем отличаются геологи-москвичи от геологов-уральцев.
– И тут и там одинаковые пропорции между толковыми и бездарями, – ответил Овчинников. – Но уральцы недооценивают себя, а москвичи переоценивают».
* * *
«Однажды один немолодой соискатель попросил меня обратиться к Овчинникову за отзывом на докторскую диссертацию. Овчинников посмотрел на титул и твердо сказал:
– Не буду. Я его не знаю.
– Но ведь главное не фамилия, а работа, – возразил я.
– Во-первых, – сказал Овчинников, – я внимательно слежу за публикациями, а, во-вторых, хорошие докторские не пишут вдруг».
* * *
«Однажды я спросил у Овчинникова, почему он не баллотируется на академика.
– Сразу не прошел, а выжидать место – не хочу!»
* * *
«Однажды я спросил у Овчинникова, как он относится к перестройке.
– А что я могу сделать?! – растерянно ответил он».
* * *
«Однажды я спросил у Овчинникова, нравится ли ему совещание.
– Что значит нравится – не нравится, – пробурчал Овчинников. – Это не цирк, а всего-навсего возможность сравнить свой уровень в проблеме с уровнем, достигнутым другими».
* * *
Однажды под Новый год мы с товарищем пришли домой к Овчинникову проведать его. Сели за стол, выпили. Поговорили о том о сем. Стали прощаться.
– Никак не пойму, зачем вы приходили, – сказал Овчинников.
– Да просто так… Проведать.
– Ко мне так не ходят. Говорите, в чем дело!
– Мы, – решил пошутить я, – хотели просить Вас выдвинуть нас в членкоры.
– Ну вот, так бы сразу и сказали, – оживился Овчинников. – Конечно же, поддержу… Только по одному, двоих сразу нельзя.
* * *
«Однажды в командировке мы обедали с Овчинниковым в ресторане и не выпили…»
(Москва, 1993 г.)
Из рассказов академика Ф. А. Летникова
о себе и других знаменитых геологах
Юмор юного Ф. А. Летникова
ценили в «Шмеле» и «Крокодиле»
На второй день <пребывания в Москве>я приехал в «Крокодил». Картина была такая: явились художники и «темисты» – это те, кто не умеет рисовать, но знает, что нарисовать, какая будет подпись под рисунком. <…>. Процедура такова: сидит главный художник журнала Семенов (и редактор был Семенов, но это были однофамильцы) с ничего не выражающей физиономией, даже мрачный. <…> Перед ним пустой стул, на который по очереди садятся художники и «темисты» и показывают, что они принесли. Дошла очередь до меня. Я сел. Он говорит: «Что-то новая личность». – Я говорю: «Я приехал в Москву дипломировать, до этого сотрудничал в „Шмеле “ <в Алма-Ате>.„Ну, – говорит, – давай!“ И я дал семь тем, из них сразу три взяли. Он сказал: „Хорошо“. Обычно, когда ему подавали рисунки, он смотрел и по-украински говорил: „Це – говно. Це – говно. Это туда-сюда…“. Обычно все отторгалось. <…>
Поскольку мы <с другом юности Игорем, аспирантом А. И. Гинзбурга 2727
Как нетрудно догадаться, это был И. В. Давиденко, в будущем известный геолог, д. г. – м. н., профессор, поэт.
[Закрыть]>разыгрывали друг друга, то я решил Игоря разыграть. В общежитии и нашел женщину из Алма-Аты, написал на бумажке текст. А там, где жил Игорь, и „Вороньей слободке“, на Арбате, был телефон. Вот она звонит. Игоря вызвали к телефону. Она ему читает по бумажке:
– Это Игорь Владимирович? Вы передавали стихи в „Комсомольскую правду“?
– Да, передавал.
– И стихи о лошади, это Ваши стихи? Вы знаете, стихи нам понравились, и мы передали их в журнал „Ветеринарный вестник“.
И повесила трубку. На другой день я прихожу на Кропоткинскую, мы идем плавать <в бассейне „Москва“>.И он, мрачный, как туча, все время твердит один рефрен: „В Москве невозможно пробиться талантливому человеку, нужно или невероятное везение, или нужно входить в какую-то корпорацию“. <…> Когда уже разошлись, я обернулся и сказал: „Не печалься, ‘Ветеринарный вестник’ – не такой уж плохой журнал“. Он все понял. Под гулкими сводами метро раздались его ругань, обвинения и проклятия в мой адрес. Я уехал. <…>
Когда я уезжал в поле, у меня было удостоверение, что Ф. А. Летников является корреспондентом „Шмеля“ по Кокчетавской области. И эта бумага мне помогала в добывании дефицитных продуктов для своего отряда».
[Летников, 2008. С. 132]
Ф. А. Летников – призер «Бендеровской викторины»
1967 год. Новосибирский Академгородок. «В кафе „Под интегралом“ вечер, посвященный 37-й годовщине встречи Остапа Бендера с Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым. <…> Я пришел пораньше. <…> Стоит дородная продавщица, бочка с пивом, вверху написано „Пиво отпускается только членам профсоюза“. Надо было предъявить профсоюзный билет. У кого билета не было, тот пива получить не мог. Дальше пошла викторина знатоков „12 стульев“ и „Золотого теленка“. Поскольку это были мои любимые книги, то я с успехом принял в ней участие. Каждому, кто правильно отвечал на вопрос, давали картонку, на ней была нарисована замочная скважина. При подсчете картонок оказалось, что я на 3-м месте. <…> два новосибирца, женщина и мужчина, которые, думаю, знали вопросы этого конкурса, заняли 1 и 2-е места. Женщине был отдан примус, а человеку, занявшему 2-е место, – большой ключ, сантиметров 30, от квартиры, где деньги лежат. А мне досталось блюдечко с голубой каемочкой».
[Летников, 2008. С. 227]
Критерий психического здоровья по Ф. А. Летникову
«Я как-то летел на самолете в Иркутск вместе с Сергеем Ивановичем Колесниковым, академиком Академии медицинских наук, профессором, врачом-психотерапевтом. Он заявил: „Нормальных людей сейчас нет. Все психи, все с повернутой психикой“. Я говорю:
– Ко мне это не относится.
– Да все так говорят.
– Нет, я психически нормальный человек.
– А какое доказательство?
– А доказательство одно: я до сих пор могу порадоваться успеху другого человека.
Летели несколько часов. Перед посадкой он сказал.
– Пожалуй, Вы правы, это – главный критерий. Если человек может порадоваться успеху другого человека бескорыстно, это показатель духовного здоровья, того, что он психически не болен».
[Там же. С. 33]
Федор Кренделев и Сергей Михалков:
обмен стишками
Член-корреспондент АН СССР Федор Петрович Кренделев (1927–1987) был создателем и первым директором двух институтов СО АН СССР: Геологического института Бурятского филиала АН (Улан-Удэ) и Института природных ресурсов (Чита), координатором программы «Медные руды Удокана», разработал геохимические методы и аппаратуру для поисков руд, не создающих собственных геофизических полей (золота и др.).
Где бы Федор Кренделев ни был, он всюду оставлял след. Вот такая деталь. Байкал, Листвянка, Байкальский музей. Туда прибыл поэт Сергей Михалков. И в книге отзывов написал:
Весь день бродил я по музею,
На шук и окуней глазея.
Чего не сделаешь от скуки?…
Привет работникам науки!
Федор, который оказался там вслед за Михалковым, написал за ним внизу:
Весь день бродил ты по музею,
На щук и окуней глазея,
И не увидел ни х…ра.
Привет работникам пера!
[Там же. С. 83]
Как Ф. П. Кренделев сделался врагом министра
«Федор загорелся идеей, что в Сибири должно быть такое же гигантское месторождение золота, как Витватерсранд в Южной Африке. Он развил бешеную деятельность, написал Председателю Совета Министров СССР А. Н. Косыгину письмо о необходимости организации таких работ. Косыгин вызвал к себе министра геологии А. В. Сидоренко и Ф. П. Кренделева. Косыгин говорит:
– Федор Петрович, очень интересна Ваша записка.
И, обращаясь к Сидоренко:
– Что нужно, чтобы такие месторождения открыть?
Сидоренко сказал, что неплохо было бы получить дополнительно 4 буровых станка и 2 вездехода. Федор сказал:
– Да Вы что! Необходимо вести широкомасштабные работы, нужно создать несколько новых экспедиций и мощную аналитическую базу, вести специальные исследования по докембрию и обрамлению Сибирской платформы.
Косыгин сказал:
– Вот этот молодой человек, в отличие от Вас, обладает государственным подходом к решению проблемы.
Так Федор нажил кровного врага на всю оставшуюся жизнь, о чем Сидоренко не забывал каждый раз ему напоминать. Тем более, что он стал потом вице-президентом Академии наук СССР».
Как Ф. П. Кренделев провел геологическую съемку
острова Пасхи за один день
Получаю от Федора бандероль. В ней рукопись. Автор: Кренделев. «Геология острова Пасхи». Очень здорово все расписано, и написано во Введении, что в основу книги положены 64 человеко-дня Геологической съемки. <…> Потом только я узнал от других людей, что Федор был на острове всего один день. Просто он весь остров заранее разбил на участки. И когда экспедиция, которую возглавлял будущий академик Лисицын, по просьбе Федора пристала к острову Пасхи, то вместе с ним высадились 60 человек, и каждый со своего участка должен был привезти образцы. Все эти образцы были зафиксированы на карте. Затем он эти образцы проанализировал и написал «Геологию острова Пасхи». Стоило посмеяться. Но, с другой стороны, это было первое профессионально сделанное геологическое описание острова Пасхи, это был вклад в науку.
[Летников, 2008. С. 82]
Как академик А. А. Маракушев учил японок частушкам
Начинается банкет <для участников советско-японского симпозиума по экспериментальной минералогии>. Мы не обратили внимания, что в программе было написано: начало в 7.15, завершение в 9.00. <…> Черт нас дернул, мы начали петь, я ревел: «Славное море, священный Байкал», другие песни. В общем, минут 30 потеряли. И когда сели, приступили снова к выпивке и стали закусывать, вдруг ударил гонг и сказали: «Банкет окончен», 9 часов, все. У нас, как говорится, ни в одном глазу. Когда мы выходили из этого зала, то слева стоял столик с пивом, а справа – столик с сакэ. Наши ученые делали так: поскольку на руке между пальцами четыре пустых места, то каждый брал четыре бутылки пива и по две-три бутылки сакэ. Официанты с удивлением глядели на все это, но мы сказали: «Можно брать – берем». <…> Захожу я в номер, где жил Алексей Маракушев, и вижу: он сидит в окружении молодых японок, и они разучивают русские частушки. <…> Я чуть не умер со смеху, глядя, как японки не выговаривают некоторые русские слова и записывают текст по-английски: «Косил мужик десятину, х… повесил на осину». И так далее… А. А. Маракушев говорит:
– Поют только «Катюшу» и «Подмосковные вечера», пускай знают настоящий русский фольклор.
[Летников, 2008. С. 223]
Как Ф. А. Летников в США «уделал» ковбойский стэйк
1987 год. Командировка в США. Ф. А. Летников, В. И. Коваленко (ныне акад. РАН) и М. С. Марков.
Пришли мы в мексиканский ресторан. <…> Слава и Марик заказали себе форель, а я – «ковбойский стэйк». <…> Я сижу, попиваю вино, и вот мне приносят целлофановый мешочек с гербом ресторана и перчатки из тонкой резины. <…> Приносят ковбойский стэйк. Можете представить себе прямоугольное блюдо, сантиметров 30 на 20. И там лежит кусок мяса. Я не знаю, где такой кусок мяса толщиной в 8-10 сантиметров можно вырезать у быка. <…> Если учесть, что мы в Иркутске получали мясо по талонам, килограмм на человека в месяц, при этом вместо мяса можно было получить только пельмени, то это сочное мясо я ел с удовольствием. И чем больше я ел, тем больше становился центром внимания американцев. Они о чем-то переговаривались, и тут сидящая рядом со мной женщина говорит:
– Профессор, Вы – very strong man!
– В Сибири все такие.
– Я вижу.
И когда я доел мясо, съел гарнир, запил вином, раздались аплодисменты. Я спросил, в чем дело. Мне сказали, что в Америке никто не может съесть ковбойский стэйк. Поэтому дается пакет и перчатки, и вы можете недоеденное мясо унести домой. Ни перчатки, ни мешочек мне не понадобились. <…>
Прилетаем в Итаку, встречают нас американцы. Знакомимся.
– Профессор Марков.
– Профессор Коваленко.
– Профессор Летников.
– О, это тот, который съел ковбойский стэйк! <…>
Когда мы прилетели в Вашингтон, там сказали:
– О, профессор Летников съел в Бостоне ковбойский стэйк! Very, very strong man!
[Там же. С. 200]
«Война и мир» молодого ученого Ф. А. Летникова
с академиком Г. Н. Щербой
«1961 год. Я толко что окончил заочно институт. Идет молодежная конференция в КазИМСе, у меня доклад: „К вопросу о генезисе грейзенов Кара-Обинского месторождения“. Г. Н. Щерба < академик АН Каз ССР, р. 1914>пришел послушать доклад. Завершая, я сказал: „В свете того, что я рассказал, представление Григория Никифоровича о стадийном образовании грейзенов вообще неприемлемо“. Он, как ошпаренный, вскочил и выбежал из аудитории. Все говорили, что это было, конечно, нагло с моей стороны <…> Мне сказали: „Ты приобрел в лице академика Г. Н. Щербы довольно сильного врага“. <…> Потом это подтвердилось, когда я написал кандидатскую диссертацию, получил хорошие отзывы от Д. С. Коржинского и В. А. Жарикова и прошел предзащиту в ГИНе у Н. М. Метляевой. Идет заседание ученого совета в КазИМСе, докладывает Нона Михайловна. Председатель совета академик АН Каз ССР Р. А. Борукаев спрашивает:
– Как работа называется? „Изобарные потенциалы образования минералов“. Я не знаю, что это такое. Академик Щерба, Вы знаете, что это такое?
– Нет, не знаю, представления не имею.
– Вот видите, мы не можем принять работу, о которой не имеем никакого представления.
Кашер Муканов выступил:
– Вы что? Вы сами себя высекли: ученый совет республиканской академии не может принять к защите обычную кандидатскую диссертацию. Ну, введите еще двух специалистов со стороны, физика и химика.
– Нет, не будем принимать.
Иду я через пару дней по улице Калинина, идет навстречу Г. Н. Щерба. Я перешел на другую сторону улицы, чтобы с ним не встречаться. Щерба остановился и кричит мне:
– Летников! Перейдите сюда, на эту сторону!
Ну, я перешел.
– Вы что, перешли на ту сторону, чтобы со мной не здороваться?
– Да, я перешел, чтобы не здороваться с Вами.
– Думаете, мы не могли принять Вашу работу? Могли. Но мы решили наказать Вас за непочтение к старшим.
Я говорю:
– Григорий Никифорович, все равно вы меня не остановите.
На том и разошлись. Прошло лет двадцать. В Усть-Каменогорске проходит петрографическое совещание. Я уже доктор наук, был тогда в силе, был известен своими работами, мой доклад поставили в первый же день на пленарном заседании. Он нашел большой отклик, все было на высоте. Пошел обедать. Самообслуживание. Впереди стоит Тамара Анатольевна Миненко, жена Г. Н. Щербы. С ней я ранее работал в урановом секторе КазИМСа, замечательная женщина, геолог, спортсменка, хороший товарищ. Мы были в прекрасных отношениях. Она расспрашивает, как я живу. У нее два подноса, Григорий Никифорович подходит, берет свой поднос, и она говорит:
– Ну, идемте, садитесь с нами.
Сидим. Щерба посмотрел на меня долгим взглядом и сказал:
– Да, остановить Вас не удалось.
Мы с ним захохотали, потому что только мы двое знали, что скрывается за этой фразой. Напряженность спала, и мы прониклись друг к другу симпатией, поскольку прошло много лет. Да я на него зла не держал – он был крупный геолог, работяга, каких поискать. <…> Когда Григорию Никифоровичу исполнилось 80 лет, я по телефону утром его поздравил. Он был поражен тем, что я из Иркутска его тепло поздравил, мы друг другу говорили добрые слова, я отдал ему дань как очень сильному геологу, труженику, своеобразному человеку, и он, конечно, был этим тронут. Вот такие люди были в Казахстане, закладывали основу казахстанской геологии. Эта когорта ушла, после них уже никого нет. Пусто».
[Летников, 2008. С. 109]
Вкратце о К. О. Кратце
«Мы <с К. О. Кратцем 2828
Кратц Кауко Оттович (1914-І989) – член-корр. АН СССР, директор Института геологии и геохронологии докембрия. Родился в Канаде, в 1932 г. приехал в СССР, окончил разведшколу НКВД, работал в советской резидентуре в фашистской Германии.
[Закрыть]>оппонировали в нашем институте <ИЗК СО РАН>докторскую диссертацию В. В. Эза. В трехкомнатной гостиничной квартире шло обмывание после защиты. Кауко отвел меня на кухню и говорит:
– У меня к тебе один вопрос. По секрету, скажи мне, пожалуйста, какая сволочь пишет обо мне в ЦК, что я пьяница? И поэтому меня не пускают за границу.
– Откуда я могу знать? Я вообще беспартийный.
– Нет, ты все знаешь. Скажи, кто пишет на меня?
– Вам нужно посмотреть из-под руки вокруг. Это наверняка кто-то из ваших сотрудников.
Он тяжело выдохнул и говорит:
– И ни одна сука вокруг меня не сознается. И все пишут и пишут. А разве я пьяница?
– Да нет, Вы не пьяница.
– Вот видишь, и ты считаешь, что я не пьяница. А они пишут на меня и пишут.
В Ленинграде я зашел к нему в институт. У него был большой стол. Я сел на этот стол и ухмыльнулся. Он говорит:
– Я по твоей роже вижу, о чем ты подумал. Про меня распространяют сплетни, что я на этом столе в обеденный перерыв с секретаршей занимаюсь любовью.
– Слышал такое. Но, по-моему, стол очень скользкий.
– Да, ты прав, он для этого не подходит».
[Там же. С. 234]
Страсти по спермацету (о всем известной
д. г-м. н. М. Г. Руб из ИГЕМа)
1964 год. Камчатка. «Секретарь райкома Уржумов принес всем сувениры. <…> Женщинам он отдал спермацет. Его добавляют в лучшие в мире кремы <…>. Женщины пришли в страшное возбуждение и начали понемножечку делить, разливать по бутылочкам. Больше всех суетилась Мария Григорьевна Руб, доктор наук из ИГЕМа, маленькая, энергичная женщина. Она говорила, что ей для дочери нужно и для невестки, пыталась получить себе двойную и тройную дозу. Вялов <О. С. Вялов, академик АН Укр ССР>сразу откликнулся на это эпиграммой:
Им бутылку спермы дали.
Дамы тут же расхватали,
Спермацетом смазав пуп,
Родила китенка Руб.
Мария Григорьевна взяла молоток и пошла искать Вялова. Он кричал: „Спасите академика, эта женщина меня убьет.“ Все хохотали. <…> С тех пор, когда я приезжал в Москву и встречал Марию Григорьевну Руб, я начинал широко улыбаться. Вообще, она была симпатичная женщина, ее приятно было видеть. Мария Григорьевна считала, что я улыбаюсь от полноты счастья, когда вижу ее, и всегда тепло меня встречала».
[Летников, 2008. С. 198]
Примечание от Б. Г.Добавочный юмористический эффект дает то обстоятельство, что у М. Г. Руб не было дочерей, а был только сын Толя Руб, которого я хорошо знал по ВИМСу. В 1964 г. Толе было всего 18 лет, он не был женат, так что и невестки у М. Г. не было. Она была необычайно пробивной дамой, знала всех более-менее известных геологов. Но при этом зла людям не делала – редкое сочетание.
Страсти по Академии
В качестве преамбулы приведем общее соображение о выборах в АН СССР, высказанное великим математиком XX века А. Н. Колмогоровым (оно записано со слов профессора МГУ и Института океанологии АН СССР Г. И. Баренблатта): «В период промышленной революции и географических открытий правители нуждались в советах людей, которые превыше всего ставили свою репутацию. Поэтому одной из главных задач академий является избрание новых членов – удостоверение их как экспертов. Для устойчивого существования академии нужно, чтобы, по крайней мере, треть ее членов составляли те, кого по их заслугам нельзя не избрать, каковы бы ни были их личные свойства, иначе это ослабит Академию наук. Еще 40 % членов могут составлять ученые, которые, если их избрать, будут хорошими академиками, но если их не избрать – катастрофы не будет. И только при этих условиях на оставшиеся места можно выбирать тех, кого нельзя выбирать» (курсив Г. И. Б.)
(Цит. по книге «Советские физики шутят…» [Горобец, 2010. С. 197])
Как избирали в академики
(истории, рассказанные Ф. А. Летниковым)
(а)«Когда была Российская Императорская Академия, многие выдающиеся ученые, например, Д. И. Менделеев, не были избраны в состав Академии. В советское время лучше не стало, В 1920-х гг., на первых выборах в члены Академии председательствовал Феликс Дзержинский. Партия выдвинула на выборах партийных деятелей: Бухарина, Рыкова, Зиновьева и других. Естественно, что при тайном голосовании члены Академии их не избрали. Ф. Дзержинский сказал: „Товарищи академики, я вами недоволен. Будете голосовать, пока не изберете товарищей, выдвинутых партией“. Делать нечего. С третьего тура их избрали».
(б)«До 1987 года меня один или два раза выдвигал Ученый совет Института Земной коры, но академики, которые руководили Сибирским отделением, меня не пропускали. И Андрей Алексеевич Трофимук предупреждал: „Вакансии выделены под директоров институтов. Прошу других на них не претендовать!“ <…> В 1987 г. конкурентами у меня были 15 человек. <…> Мне звонит Сережа Кориковский: „Ты что сидишь в Иркутске? Все, кто стремятся избраться, здесь, в Москве, живут в гостиницах, звонят, ходят, выпивают с кем нужно“. Я говорю: „Знаешь, мне важнее остаться самим собой и не унижаться из-за каких-то выборов. Нет, это не для меня!“ <…>
Вечером Сергей Кориковский звонит и говорит: „Знаешь, твои дела плохи. За других выступали, а за тебя почти никто не выступал. Так что, думаю, тебя не изберут“. „Ну, – говорю, – не изберут, так не изберут. Плевать!“ В половине седьмого утра раздается звонок из Москвы. Ученый секретарь отделения наук о Земле Николай Михеевич Подгорных звонит мне и говорит: „Вас избрали, причем с очень хорошим голосованием: всего 4 против, остальные все за“.<…>
С избранием в академики дело было так. <…> Заседал экспертный совет в Москве, председательствовал Вилен Андреевич Жариков. После обсуждения и тайного голосования я вышел в лидеры, набрал 4,35 из 5. Следом за мной шел директор Института геофизики С. В. Крылов и дальше Г. В. Поляков. Со мной конкурировали два директора институтов и двое замдиректоров, а я был всего лишь завлабом и здорово их обошел. В Новосибирске, на Общем собрании СО РАН, они всячески начали играть на мое понижение, в толпе ходили некоторые доктора наук и агитировали: „Голосуйте против Летникова…“ И я еле-еле, всего несколькими голосами получил поддержку Общего собрания Сибирского отделения. <…> В Москве все новосибирцы выступали за Г. В. Полякова, за И. И. Нестерова, за С. В. Крылова. А за меня выступил только Н. А. Логачев, показал всем мою новую книгу „Синергетика геологических систем“. <…> Я вышел погулять. Вдоль Москвы-реки и фасада нового здания Президиума нервно ходит директор Института вулканологии С. В. Федотов. Я говорю:
– Вы-то чего волнуетесь? У Вас безальтернативный выбор: один человек на одну вакансию.
– Вы знаете, я уже один раз был три дня академиком.
Действительно, его избрали на Отделении, но в „Московских новостях“ появилась по его адресу довольно-таки разгромная статья, и общее собрание его завалило.
– А Вы что, не волнуетесь?
– А зачем мне волноваться? Меня и так изберут.
– Откуда такая уверенность?
– А я так чувствую.
Поднялся на 2-й этаж, там, где коридор шел в зал заседаний. Идет по коридору счетная комиссия. Я решил их не догонять. Тут Н. А. Логачев, который был в счетной комиссии, обернулся и говорит: „Где Вы шляетесь? Вас избрали!“ <...>
Заходим в зал. Со мной садится Глеб Владимирович Кузнецов <…> И весь светится, за него выступило так много людей, и он считал, что его изберут. Я счел неудобным сидеть рядом с ним, ведь будут объявлять результаты. <…> Ушел и сел сзади. Со мной сидел Андрей Книппер, директор геологического института, который тоже избирался в академики. Объявляют результаты. Проходными было 20 голосов. Я прошел в первом же туре, набрав 22 из 30. И все. Андрея Книппера тоже избрали. Из первого ряда встает академик Виктор Ефимович Хайн, идет к нам. Думаю, идет поздравлять Андрея. Нет, он подошел ко мне, поздравил и сказал: „Знаете, я голосовал за Вас, потому что Вы – единственный, кто не звонил, кто не посылал своих трудов, за которого никто не хлопотал. С чем Вас и поздравляю!“
(в)После этого я не раз участвовал в выборах. Видел, как люди попадали в больницу с инфарктами, с гипертоническими кризами. Просто не выдерживала нервная система. Но я был свидетелем и абсолютного равнодушия к результатам выборов.
Избирали в члены-корреспонденты АН СССР директора Института геологии докембрия Кауко Оттовича Кратца. <В гостинице>картина была одна и та же: утром прихожу, сидят в рубахах, поверх подтяжки, за столом <членкоры>М. М. Одинцов, К. О. Кратц, В. П. Солоненко, профессор Тресков. Выпивают и ведут разговоры обо всем на свете. Николай Александрович Флоренцев <членкор>, который не принимал участия в застольях, говорит: „Кауко, тебя же сегодня будут выбирать, тебе хоть появиться надо на Отделении“. Кауко отвечает: „Да куда они денутся? Выберут! Плевал я на это Отделение и на эти выборы! Ну, пусть плохо кончится, мне эта компания, которая здесь собралась, интересней и веселей, чем сидеть на этом тухлом Отделении и корчить из себя крупного ученого“ В тот день голосование не состоялось, перенесли на следующий день. Являюсь утром – та же компания, продолжается разговор, выпивка. Я тоже выпил и ушел <…> Прихожу к вечеру, подсел к столу, сел, выпили. Входит Н. А. Флоренцев, выпил самую малость, он вообще не пил, говорит:
– Чего же вы тут сидите, вы что ж, не знаете, что Кауко избрали?
– Как избрали?
– Ты теперь член-корреспондент Академии наук СССР.
– Вот сволочи! Хоть бы кто позвонил.
– Так тебе в номер звонили, телефон не отвечает.
Причем тут номер? Я тут у Михаила Михайловича <Одинцова>сижу.
– Так кто знает, что ты у Михаила Михайловича?»
(г)«Я был председателем счетной комиссии. В половине четвертого дня началась работа счетной комиссии и кончилась в половине третьего ночи. Большое число голосующих. Огромное количество претендентов, бюллетени пересчитываются несколько раз. <…> Ночью выходим из ГИНа, три академика: Николай Юшкин, Николай Соболев и я. Усталые бредем от Пыжевского до гостиницы на Октябрьской. Подходим, на крыльце стоит Володя Ревердатто, он избирался в члены-корреспонденты. Николай Соболев говорит:
– Володя, у тебя водка есть?
– Есть.
– А колбаса у тебя есть?
– Есть.
– А хлеб у тебя есть?
– Есть.
– Ну, пойдем, а то мы на пределе последних сил.
Заходим. Ревердатто достает из холодильника водку и телячью колбасу. Мы это начинаем уплетать. Выпив по первому разу, налил по второй. Соболев говорит:
– Да, Ревердатто, я забыл тебе сказать: тебя избрали.








