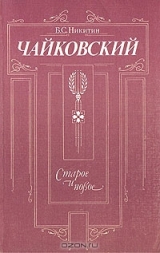
Текст книги "Чайковский. Старое и новое"
Автор книги: Борис Никитин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
"Между нами все кончено, и потому попрошу Вас, милостивый государь, не вдаваться в длинные переписки, а касаться только этого дела". В этом тоне Антонина Ивановна соглашалась на развод и на получение единовременной суммы. Ее мать тут же прислала Петру Ильичу другое предложение во избежание издержек на скандальное бракоразводное дело выдать жене постоянный паспорт и единовременное пособие. За это Антонина Ивановна должна была навсегда оставить Москву и ничем не напоминать о себе. Мать заверяла Петра Ильича, что им дорого его доброе имя и что они никогда не наложат на него пятна, намекая на то, что известные им особенности его конституции ни при каких обстоятельствах не будут преданы огласке.
То, что происходило дальше, хотя и не красит Антонину Ивановну, но все-таки не заслуживает тех поистине болезненных упреков и чрезвычайно нелестных эпитетов, которые высказывал в ее адрес Чайковский. Антонина Ивановна, что бы там ни говорили о ее уме и характере, была жестоко обижена, и порой ее посещали злобные чувства, которые она нисколько не пыталась скрывать.
Петр Ильич, вполне сознавая свою вину перед ней, о чем он говорил и ей, и своим родным, и близким друзьям, пытался облегчить ее жизнь и вместе с тем предотвратить, как он полагал, возможные злые намерения с ее стороны. Все это тревожило и раздражало его. Наступил период, когда он поручил вести все дела с женой своему издателю П. И. Юргенсону и убедительно просил его по возможности не присылать ему никаких писем от нее и не напоминать о ней. Однако же и эта мера не избавила его от постоянной тревоги, что Антонина Ивановна может совершить какую-нибудь подлость. Дело с разводом так и не получилось. Антонина Ивановна упрямо заявила, что перед судом она лгать не будет, хотя Петр Ильич соглашался на суде взвалить на себя любую вину, которая юридически могла бы обоснбвать необходимость развода. Он все время посылал ей деньги, чтобы она могла жить, не работая, время от времени намекая, что можно было бы ей и заняться чем-нибудь. Затем он назначил ей постоянную пенсию. Вначале Антонина Ивановна ограничивалась пятьюдесятью рублями в месяц (это столько, сколько Петр Ильич получал в самом начале своей деятельности в должности преподавателя Московской консерватории). Она была благодарна ему. Затем эта сумма была увеличена до ста рублей. В 1889 году этого ей показалось мало, и она обратилась к нему с просьбой об увеличении денежной помощи. К этому времени Петр Ильич уже был удостоен царской пожизненной пенсии три тысячи рублей в год, и Антонине Ивановне, конечно, было известно об этом. Петр Ильич имел все основания ей отказать, ибо он уже давно знал, что она вступила в связь с каким-то человеком и имела от него троих детей, которых отдала в воспитательный дом. Последнее особенно возмутило Чайковского. Но он все же пошел ей навстречу и увеличил пенсию до ста пятидесяти рублей. Злые намерения, может, и были у Антонины Ивановны, но она их осуществлять не собиралась, и Петр Ильич, видимо, напрасно их опасался. В декабре 1889 года Антонина Ивановна, правда, напугала его намеком, но тут же и заверила в том, что с ее стороны ему никогда не будет причинено зло. "Какое право имею я судить Вас", – закончила она свое письмо.
У Антонины Ивановны и в молодые годы наблюдались некоторые отклонения психического порядка. Многими замечалась ее маниакальная страсть к рассказам о том, что все в нее влюблены, ее возбудимость по пустякам и, напротив, безразличие к событиям, которые могли бы потрясти любого другого человека. Эти психопатические черты значительно усилились в результате пережитого в связи с неудачным замужеством и со всеми дальнейшими несчастьями в ее жизни. В 1896 году ее психическое расстройство стало настолько заметным, что пришлось ее поместить в петербургскую лечебницу для душевнобольных. Там она провела двадцать лет, там и умерла в 1917 году.
Она принесла много тяжких страданий Петру Ильичу, может быть и скорее всего, не желая этого. Можно удивляться смелости решения Чайковского с помощью женитьбы преодолеть, победить свою природную конституцию, можно и осуждать его за необдуманный, имевший тяжелые последствия поступок. Можно и даже нужно оправдать его: он не мог предвидеть, что этот поспешный шаг, на который его толкнули трогательные письма влюбленной девушки и его огромное желание "нормальным быть", вызовет одни только страдания у него самого и принесет несчастье ни в чем не повинной женщине. Он пытался предупредить ее, отговорить, он не обещал ей любви, он надеялся на спокойный семейный очаг без пылких чувств, а столкнулся именно с такими чувствами, и к его трагедии прибавилась еще и жена, возбуждавшая его тревоги до конца его жизни.
А что думала о Петре Ильиче сама Антонина Ивановна, к какому итогу пришла она, пережив все свои несчастья? Вскоре после смерти Чайковского она сказала о нем следующее: "… всегда относительно всех поведение его было честно и благородно. Никто, ни один человек в мире не может его упрекнуть в каком-нибудь недостойном поступке. Он, верно, самою судьбой был намечен, чтобы жить на земле только для того, чтобы помогать ближнему"80.
Это говорит женщина, глубоко обиженная Чайковским в самых лучших, самых высоких человеческих чувствах, единственный человек в мире, который мог бы упрекнуть его, но этого не позволил себе сделать. Какими же чувствами она жила, если, пережив свои страдания, сумела такими словами оценить не великого композитора, а обыкновенного земного человека! Надо ли после этого высказывать какие-либо дополнительные суждения?
Моцарт и Бетховен
Есть люди, которые не знают Моцарта, не знают его музыки, и это вряд ли может кого-либо удивить, потому что существует много людей, которые совершенно не интересуются серьезной музыкой; она им кажется непонятной и нисколько их не привлекает. За малым исключением отсутствие интереса к серьезной музыке происходит действительно вследствие ее незнания, а малое исключение составляют те, кто от природы лишены возможности чувствовать красоту этого искусства, но, надо сказать, что такие люди – чрезвычайно редкое явление. Все остальные, не получившие музыкального причастия, но способные воспринять великие творения классиков, по моему разумению, если и не несчастные, то уж, во всяком случае, много потерявшие в жизни люди, и горько сознавать, что и в наше время к числу таких не причастных к серьезной музыке относится весьма немалая часть вполне образованных людей, которых жизнь по тем или иным причинам напрочь отрезала от увлекательных путешествий и приключений в дебрях поэзии звуков.
Но вот то, что есть люди, которые знают музыку Моцарта и не любят ее, – это удивительно. А ведь есть и такие среди них, кто может убедительно объяснить, почему Моцарт может не нравиться.
Поклонница и покровительница Чайковского Надежда Филаретовна фон Мекк принадлежала к такому странному типу любителей музыки, которые упрямо не воспринимают неземной чистоты и прелести моцартовских произведений. И как настойчиво объясняла она эту свою необыкновенную нелюбовь. "Он так всем доволен, так невозмутимо весел, что меня это возмущает… такая непроходимая доброта есть только признак полнейшего ничтожества… Тот, кто способен сильно чувствовать и много понимать, может быть добр, но не может быть весел" 8 |. Надежда Филаретовна не раз говорила, что ее больше всего привлекает в музыке яркое выражение человеческих чувств. Будучи натурой, остро воспринимающей жизнь, склонной к ее трагическим мотивам и пережившей свои собственные трагедии, она затруднялась найти у Моцарта эпизоды, которые могли бы тронуть ее сердце. Она не могла их найти не только потому, что у Моцарта не так много трагических эпизодов, особенно если их искать лишь в его инструментальной музыке, но и по той причине, что она и не хотела их искать. Многих произведений Моцарта – его последних симфоний, знаменитых фортепианных концертов, медленные части которых не могли бы оставить равнодушным даже ее безжалостное к Моцарту сердце, – она просто не слышала. А в них содержатся эмоциональные эпизоды, сравнимые даже с некоторыми зрелыми произведениями Бетховена.
Если бы мы со слов самого Чайковского не знали, кто из этих двух величайших гениев музыки ближе его сердцу, то наверняка решили бы, что Бетховен. Ведь это он вложил в инструментальную музыку драму человеческих чувств, что должно быть так понятно и так сродни Чайковскому. А между тем Моцарт Петру Ильичу был ближе и любимее. Надежда Филаретовна никак не могла понять, как это создатель Четвертой симфонии, первая часть которой потрясает, может восхищаться Моцартом – композитором, по ее мнению, поверхностным, водянистым, не обладающим нужной ее душе глубиной, силой и величием. Петр Ильич, испытав все средства приобщить Надежду Филаретовну к музыке Моцарта, вынужден был ответить на этот ее вопрос, хотя и правдивыми, но вымученными словами. Он написал ей: "Вы говорите, что мой культ к нему есть противоречие с моей музыкальной натурой, но, может быть, именно оттого, что в качестве человека своего века я надломлен, нравственно болезненен, я так и люблю искать в музыке Моцарта, по большей части служащей выражением жизненных радостей, испытываемых здоровой, цельной, не разъеденной рефлексом натурой, успокоения и утешения" 82. Петр Ильич заметил при этом еще одну очень важную особенность не только своей собственной музыкальной природы, но и вообще людей, часто стремящихся к противоположностям своих черт. "Вообще мне кажется, – добавил он к своему ответу, – что в душе художника его творящая способность совершенно независима от ее симпатий к тому или другому мастеру. Можно любить, например, Бетховена, а по натуре быть более близким к Мендельсону" 83.
К Бетховену у Петра Ильича было весьма интересное отношение, и понять его истинные чувства не так просто. Мы попробуем начать с его мыслей, которые он изложил, пройдя уже солидный музыкальный путь.
В 1886 году Чайковский жил в нанятом им доме в селе Майданове под Клином. Наступила осень – любимая пора Петра Ильича. Погода, правда, была неважная, частенько моросил дождь, но все-таки иногда проглядывало солнышко и проявлялась вся радость красок подмосковной осени, которая вместе с бодрящей прохладой второй половины сентября тянула к размышлениям. К тому же дачники, постоянно мешавшие своим хождением по парку, где рядом с другими дачами находился его дом, разъехались, и теперь ему никто не мешал. Гостей в ближайшие несколько дней не ожидалось. 20 сентября в своем столь желанном одиночестве он сел за дневник и сделал в нем довольно странную и любопытную запись:
"Вероятно, после моей смерти будет небезынтересно знать, каковы были мои музыкальные пристрастия и предубеждения, тем более что я редко высказывался в устном разговоре… Начну с Бетховена, которого принято безусловно восхвалять и повелевается покланяться ему как богу. Итак, каков для меня Бетховен? Я преклоняюсь перед величием его некоторых произведений – но я не люблю Бетховена. Мое отношение к нему напоминает мне то, что я в детстве испытывал насчет бога Саваофа. Я питал (да и теперь чувства мои не изменились) к нему чувство удивления, но вместе и страха…""84. (Здесь и далее подчеркнутое не выделяется).
Тут Чайковский остановился и задумался о Моцарте, начав было писать славословие в его адрес, затем спохватился и вернулся к продолжению своих размышлений о Бетховене:
"Не умею рассуждать о музыке, – поскромничал автор многочисленных и прекрасных музыкальных фельетонов в "Русских ведомостях", – и в подробности не вхожу. Однако отмечу две подробности: 1) В Бетховене я люблю средний период, иногда первый, но, в сущности, ненавижу последний, особенно последние квартеты. Есть тут проблески – не больше. Остальное хаос, над которым носится дух этого музыкального Саваофа"85.
Вторая подробность опять касается любимого Моцарта, и мы к ней еще вернемся: с Моцартом дело обстоит у Чайковского гораздо проще, а вот приведенное выше высказывание о Бетховене заставляет поломать голову.
Друзья Петра Ильича – те, кто имел возможность и достаточные знания для разговоров о музыке, в частности Г. А. Ларош и Н. Д. Кашкин, – единодушно отмечают, что Чайковский питал к Бетховену благоговение. Кашкин так прямо писал, что Петр Ильич "преклонялся" перед Бетховеном. Ларош, осторожный и многословный литератор, отмечая это "благоговение", пояснял, что оно было весьма отличным от той восторженной любви, от того деятельного культа, предметом которого был у него Моцарт. Мало того, Ларош, пытаясь оправдать незаконченность своей мысли, допустил несколько пренебрежительное замечание насчет того, что Петр Ильич в своих печатных трудах высказывался "осторожно и бесцветно" 86. И эту его небрежность не спасает вполне справедливое дополнение о том, что Петр Ильич в своих статьях передавал мнения, освященные авторитетом большинства. Ларош сделал это дополнение, основываясь не только на том, что Петр Ильич часто советовался с ним и с другими "авторитетами", но и на высказываниях Чайковского в его музыкальных фельетонах, о которых упоминалось в главе "Непонятый Брамс". Но сколько бы мы ни старались приблизиться к истине и оправдать мнение Лароша, вряд ли это полностью удастся. Прежде всего при чтении музыкальных фельетонов Чайковского никак не складывается впечатление об их осторожности и бесцветности. А в том, что касается Бетховена, Петр Ильич был особенно щедр на краски и восторги. Назвав музыкального Саваофа первым и гениальнейшим из всех композиторов, он сравнивает Бетховена с Микеланджело, считает его "Торжественную мессу" одним из гениальнейших произведений. В Третьей симфонии, по его мнению, "раскрылась впервые вся необъятная изумительная сила творческого гения Бетховена", Четвертую симфонию он называет "бесподобным, увлекательным, совершенным и по основным идеям и по форме сочинением", в котором содержится "неувядаемая свежесть, оригинальность в темпах и деталях". Что касается Пятой симфонии, то, отдавая ей все положенное, Петр Ильич признается, что в своей Четвертой симфонии он подражал основной идее Пятой Бетховена. Седьмую симфонию он считает великолепной, а ее знаменитое Andante характеризует как "обильный источник высших художественных наслаждений для всего цивилизованного мира". Восьмую симфонию он относит к числу недосягаемо великих произведений. И вообще Чайковский не знает, чему более удивляться: "богатству творческой фантазии Бетховена или совершенству формы, изумительному его мастерству?" 87.
Этот далеко не полный перечень поклонений Чайковского гению Бетховена совершенно не соответствует ни признанию Петра Ильича о том, что он не любит Бетховена, сделанному в дневнике 20 сентября 1886 года, ни тем более словам Лароша о бесцветности печатных высказываний Чайковского о творце "Героической". Даже опирающийся на мнение авторитетного большинства музыкальный критик, рецензент, фельетонист, ценящий свои собственные суждения, не пустился бы в такие похвалы композитору, которого он в самом деле не любит. Мы сейчас столкнемся с еще более поразительным противоречием. Петр Ильич, как мы помним, отметил, что в Бетховене он любит средний период, иногда первый, но, в сущности, ненавидит последний, особенно последние квартеты. Ну что касается среднего периода, мы уже убедились в чувствах Петра Ильича, читая его высочайшие оценки произведений этого периода. Но последние квартеты… По отношению к ним Чайковский вроде бы упрямо придерживается своей неприязни не только в откровенном дневнике, но и в печати. В одном из музыкальных фельетонов он подтвердил это самым убедительным образом:
"Что бы ни говорили фанатические поклонники Бетховена, а сочинения этого музыкального гения, относящиеся к последнему периоду его композиторской деятельности, никогда не будут доступны пониманию даже компетентной музыкальной публики, именно вследствие излишества основных тем и сопряженной с ними неуравновешенности формы. Красоты произведений подобного рода раскрываются для нас только при таком близком ознакомлении с ними, которого нельзя предположить в обыкновенном, хотя бы и чутком к музыке, слушателе; для уразумения их нужна не только благоприятная почва, но и такая возделанность, которая возможна только в музыканте-специалисте" 88.
В этом суждении примечательно, что Чайковский все же признает "красоты" последних бетховенских квартетов, хотя и с оговоркой, что они могут быть доступны только специалистам. Уже давно мы убедились в правоте Бетховена, который в ответ на сообщение о том, что один из его последних квартетов не понравился публике, сказал: "Когда-нибудь он им понравится. Я писал его так, как находил лучшим, и не позволю себе быть обманутым суждением сегодняшнего дня". В этом имел возможность убедиться и Петр Ильич, который много раньше того, как высказал свое отрицательное отношение к последним квартетам Бетховена, писал в фельетоне в феврале 1873 года:
"Квартет Бетховена, написанный в самую последнюю пору его композиторской деятельности, когда поразившая его глухота сделала невозможными всякие близкие общения его с людьми и, быть может, от этого наложила печать той несказанной горечи и отчаяния, которые звучат во всех произведениях его последнего периода, – произвел на публику сильное впечатление. Анданте, полное безысходного тоскливого чувства, певучее, красивое, сжатое по форме, неотразимо захватывающее и вдобавок с патетической [страстностью исполненное г. Лаубом, особенно поразило (слушателей и было повторено" 89.
Вряд ли на квартетных утрах зимой 1873 года присутствовали только "возделанные" музыканты-специалисты, и тем не менее самый последний квартет Бетховена (ор. 135) "произвел на публику сильное впечатление".
Выходит, что в своем суждении Петр Ильич весьма сильно противоречит самому себе, и мы здесь пытаемся использовать одни высказывания Чайковского, чтобы опровергнуть другие. Пожалуй, это так, но лишь в самой малой степени.
Разумеется, Чайковский совершенно искренне полагал,
что красоты последних квартетов Бетховена доступны только специалистам, хотя мы в то же время видим, что и на публику его времени один из этих квартетов произвел сильное впечатление, и у нас есть все основания утверждать, что и другие квартеты. Бетховена из серии последних тоже производили впечатление во времена Чайковского. Про нынешние времена не нужно много рассказывать, ибо последние квартеты Бетховена давно себя утвердили и превосходно слушаются любителями камерной музыки, а не только специалистами.
И тем не менее нельзя просто так отмахнуться от суждений Петра Ильича. В чем-то он, должно быть, прав. Серьезная музыка, особенно камерная, да еще такого рода, как струнные квартеты, трио и другие произведения этой группы, относятся к музыке, которую иногда называют элитарной, т. е. музыкой, доступной ограниченному кругу лиц. Заметим попутно, что камерная музыка в своем живом виде слушается действительно небольшим числом любителей – на то она и камерная. Музыкальные вечера на квартирах, где играли бы если не квинтеты и квартеты, а хотя бы произведения для скрипки с фортепиано, – теперь большая редкость, и это случается только у профессиональных музыкантов. Последние квартеты Бетховена рядовой любитель музыки, не обладающий особой остротой музыкального восприятия, скорее всего отнесет именно к элитарной музыке, хотя, несомненно, обнаружит в них многие отдельные красоты. Мне приходилось наблюдать реакцию довольно большого числа людей, которые любят классическую музыку, на исполнение наиболее впечатляющего и красивого из последних квартетов Бетховена (ор. 131), и я не могу уверенно сказать, что он понравился им весь. Еще менее уверенно я могу сказать, что его "уразумели".
Но в чем же тогда был неправ Чайковский, почему у него возникла такая неприязнь к последним квартетам Бетховена, что в дневнике он выразил свое отношение к ним словом "ненавижу", почему он, везде и всюду воздавая хвалу гению Бетховена, написал, что не любит его?
Мы должны обратить внимание на слова Петра Ильича в уже не раз упомянутой дневниковой записи о том, что Бетховена "принято безусловно восхвалять и повелевается поклоняться ему как богу". Видно, что Чайковский записывал свои суждения о композиторах в одном из тех воинственных настроений, в которых ему случалось бывать, и искал у бога-Бетховена те слабые места, которые можно было бы, не греша против истины, немного поругать, чтобы не возвышался в его глазах этот Саваоф музыки чересчур высоко. Подобные настроения приходили к Чайковскому не только, когда он обращался к дневнику или размышлял наедине. Он воинственно откровенничал и в разговорах, и в письмах. В марте 1878 года Петр Ильич писал Надежде Филаретовне: "Между всеми живущими музыкантами нет ни одного, перед которым я добровольно могу склонить голову". Мы уже знаем, как он относился к Брамсу и почему он невысоко ставил его музыку. С Бетховеном, перед которым надо преклоняться, нельзя было обойтись как с Брамсом, да и Бетховен не был "живущим" композитором. Что-то в Бетховене для Чайковского было не так, но он даже самому себе не мог точно сформулировать, что именно его в нем не устраивало, несмотря на искренное признание его гениальности. Во всех своих высказываниях, устных и печатных, Чайковский всегда восхищался, восторгался, хвалил, превозносил (разве что однажды позволил себе холодно отозваться об опере "Фиделио" и увертюре "Освящение дома"), а в дневнике написал, что не любит, и, чтобы не вступать в заведомо невыигрышный бой с прославленными произведениями среднего периода творчества Бетховена, излил свою душу на последние квартеты, в которых ему недоставало ясности, т. е. того, что он наряду с красотой больше всего ценил в музыке. Действительно ли он, преклоняясь перед Бетховеном, не любил его, как написал в дневнике, не подавляли ли его напряженность, сила и могущество бехтовенской музыки, не отсюда ли проистекают его удивление и страх перед ним? Вполне возможно, что это так.
Мы должны также иметь в виду, что в своем дневнике Петр Ильич иногда записывал мысли-мгновения, и не каждое из этих мгновений было совершенно трезвым. Этим я не хочу сказать абсолютно ничего дурного. Напротив, мн(представляются исключительно симпатичными те откровенности Петра Ильича, с которыми он описывал свои собственные слабости и которые другой человек не посмел бы записать даже в дневник из опасения, что когда-нибудь это смогут прочесть. Однажды он, например, записал в дневнике "Узнаем, кто, как и что" и затем к этой фразе приписал свое же примечание: "Что значит эта фраза? Должно быть, пьян был, когда писал". А Петр Ильич иногда не отказывался от использования универсального русского средства от земной тоски, которое было так распространено и в прежние времена. В июле 1886 года мы встречаемся в его дневнике с весьма забавной полемикой насчет алкоголя:
"Говорят, что злоупотреблять спиртными напитками вредно. Охотно согласен с этим. Но тем не менее я, т. е. больной, преисполненный неврозов человек, – положительно не могу обойтись без яда алкоголя, против которого восстает г. Миклуха-Маклай. Человек, обладающий столь странной фамилией, весьма счастлив, что не знает прелестей водки и других алкоголических напитков. Но как несправедливо судить по себе – о других и запрещать то, чего сам не любишь. Ну, вот я, например, каждый вечер бываю пьян и не могу без этого. Как же мне сделать, чтобы попасть в число колонистов Маклая, если б я того добивался?.. Да прав ли он? В первом периоде опьянения я чувствую полнейшее блаженство и понимаю в этом состоянии бесконечно больше того, что понимаю, обходясь без Миклухо-Маклахинского яда!!! Не замечал также, чтобы и здоровье мое от того страдало. А впрочем, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Еще бог знает, кто более прав: я или Маклай. Еще не такое, ни с чем не сравнимое бедствие – быть непринятым в число его колонистов!!!90"
Не правда ли, по своему стилю эта июльская запись похожа на сентябрьскую, где говорится о композиторах? Это совсем не означает, что, говоря в сентябре о музыке, он был столь же настроен шутить, как в приведенном июльском споре с Миклухо-Маклаем. Нет у меня и желания настаивать на том, что Петр Ильич обрушился в дневнике на последний период Бетховена, будучи в значительно более веселом состоянии, нежели обычно. Однако же необычность в его высказываниях о Бетховене, которые он записал в дневнике, несомненно, имеется. Как бы эти высказывания ни противоречили всем его другим оценкам великого музыкального пленника Вены, сколько бы мы ни пытались доказывать обратное и приводить в пример его почитание Бетховена, в его дневниковой записи все же звучит значительная доля честного признания, а не только самолюбие соперника, оказавшегося в воинственном настроении, вызванном бог знает какими причинами, – соперника, тоже живописующего в музыке драму жизни. По эмоциональной силе своей музыки Бетховен, конечно, был родственен Чайковскому. В свое время Мясковский обоих выразителей чувств, Бетховена и Чайковского, назвал типичными субъективистами, совсем не желая сделать им комплимент. Однако его характеристика верна. Может быть, в этом заключается одна из причин настороженности Чайковского к творчеству Бетховена. Он сам говорил, что "отсутствие родства между двумя художническими индивидуальностями не исключает их взаимной симпатии". Видимо, справедливо и обратное: сходство натур далеко не всегда приводит к взаимной симпатии. Жизнь это часто подтверждает. Трудно утверждать, что абсолютно верно еще одно объяснение особого отношения Чайковского к Бетховену, но представляется, что Петр Ильич постоянно ощущал жесткий упрямый характер Бетховена в его музыке, и эта ее очень выпуклая черта мешала ему любить его той беззаветной любовью, которая была у него к Моцарту. У Моцарта – красота и мягкость, округлость и плавность музыки; она легко движется, и резких поворотов в ней почти нет. Его мелодии ясны, светлы и определенны, гармонии ласкают слух, модуляции, даже самые смелые по тому времени, осуществляются без усилий, и слушатель спохватывается, уже давно очутившись в другой, свежей тональности. И ко всему этому Моцарт все-таки богат эмоционально. Да, представьте себе, именно эмоционально, только его чувства почти нигде не кричат о себе Для их выражения Моцарт находил спокойные средства которые, несмотря на это, создавали поразительный эффект В тот же день в Майданове, когда Петр Ильич трудился над формулировками своего отношения к Бетховену, он записал в дневнике: "Моцарт есть высшая кульминационная точка до которой красота досягала в сфере музыки. Никто не заставлял меня плакать, трепетать of восторга, от сознания близости своей к чему-то, что мы называем идеал, как он. Бетховен заставлял меня тоже трепетать. Но скорее от чего-то вроде страха и мучительной тоски"91.
Когда Чайковский писал все это, то, как мы помним, он хотел отметить две подробности своих рассуждений В первой он коснулся Бетховена. Во второй он продолжил мысли о Моцарте. "В Моцарте я люблю все, – писал он, – ибо мы любим все в человеке,'которого мы любим в действительности. Больше всего "Дон Жуана", ибо благодаря ему я узнал, что такое музыка".
Петру Ильичу было непонятно и даже обидно, что Надежда Филаретовна не признает музыки Моцарта и вместе с музыкой отвергает и ее творца. Он предпринял серьезную попытку убедить свою благодетельницу в красоте и глубине моцартовской музыки, в мастерстве этого гениального композитора. Признав, что в его музыке нет "субъективного трагизма" (который, надо полагать, он считал важным элементом для Надежды Филаретовны), он указал на самый трагический человеческий образ, обрисованный музыкой, – образ донны Анны из "Дон Жуана". Он привел в пример гениальный речитатив и дивную арию донны Анны, где злоба и гордость чувствуются в каждом аккорде. Петр Ильич признался^ что когда он слышит эту музыку, то трепещет от ужаса и готов закричать, заплакать от подавляющей силы впечатления. Он порекомендовал ей послушать Adagio из соль-минорного квинтета Моцарта, где безропотная и беспомощная скорбь выражена так, как еще никто и никогда ее не выражал с такой красотой. Тому, кто захочет проверить на себе это впечатление, надо иметь в виду, что Чайковский подразумевал не третью часть соль-минорного квинтета, которая обозначена как Adagio, а начальное Adagio, четвертой части, очень небольшой эпизод, продолжающийся всего около двух минут из десяти, отведенных этой части. Слушая рекомендованные Петром Ильичем произведения Моцарта, большинство из нас, вероятно, по достоинству оценит их красоту и будет восторгаться этой музыкой, но заметит, что Чайковский, безусловно, гораздо глубже и чувствительнее относился к Моцарту. В его прочтении Моцарт, как мы видели выше, звучит гораздо более драматично. Для того, чтобы так чувствовать Моцарта, надо любить его так, как любил его Чайковский, а это дано не каждому.
С такими-то чувствами Петр Ильич прочел Надежде Филаретовне проникновенную и орошенную своими слезами лекцию о музыке и человеке, ее создавшем. Но Надежда Филаретовна осталась при своем мнении, и ответ ее, весьма пространный, заканчивался мягким укором. "Ваша музыку– писала она, – производит такое глубокое впечатление, и в то же время Вы восхищаетесь этим эпикурейцем Моцартом. Скажите мне, содрогнется ли душа преступника от музыки Моцарта? Нисколько. А от Вашей… он заплачет. А сознаете ли Вы, что это значит? Боже мой, ведь это словами и объяснить нельзя. Да, впрочем, разве ж можно проводить параллель между Вами и Моцартом"92.
Прочтя последние слова, Петр Ильич, вероятно, вздохнул, улыбнулся и решил больше не перевоспитывать Надежду Филаретовну по части музыки Моцарта. В последний раз он посоветовал ей, чтобы ее домашние музыканты все-таки разучили соль-минорный квинтет Моцарта. Он еще надеялся, что маленькое Adagio этого квинтета тронет упрямое сердце. Очень ему этого хотелось.
В письмах к Надежде Филаретовне Чайковский еще несколько раз возвращался к моцартовской теме, но уже с извинениями за то, что он не может обойтись без упоминания о своем любимце. Надежда Филаретовна уяснила себе это и старалась в этом моцартовском дуэте не портить гармоничного звучания. В 1880 году она писала Петру Ильичу: "Он был не от мира сего, и его музыка вполне соответствует его натуре… Я люблю в Моцарте выражения его собственной голубиной натуры" 93. Но это были не ее слова. Сознательно ли она их привела в письме, сказать трудно, но за два месяца до этого, когда Чайковский в одиночестве гостил в ее браиловском имении, он написал ей: "Моцарт – детски чистое с голубиной кротостью и девической скромностью гениальное существо, бывшее как бы не от мира сего"94.








