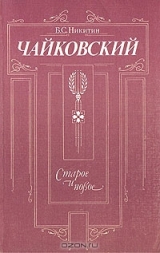
Текст книги "Чайковский. Старое и новое"
Автор книги: Борис Никитин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
В конце 1888 года Чайковский писал Юлии Петровне, что очень понимает ее горестное положение и что сожалеет об огорчении, которое он доставил ей неудачным делом со "Змеенышем". "Ради бога простите мне все, в чем я хотя и невольно, но все же глубоко виноват перед Вами, – заканчивал он свое сочувственное письмо. – Мнение же мое о Вашем сильном таланте не поколебалось ни на одну минуту… Я постоянно думаю о Вас и искренно глубоко сочувствую Вам!"
Начался 1889 год. Петр Ильич занимался балетом "Спящая красавица". Углубленный в работу, неимоверно устававший, он с трудом писал письма, но верный своим правилам старался ответить всем, и, конечно, Юлия Петровна не была у него в конце списка адресатов. Ему предстояла вторая концертная поездка за границу, и он откровенно признавался, что следовало бы и отдохнуть, заняться балетом. "Но мне как-то неловко, – объяснял он Юлии Петровне, – отказываться от заграничных приглашений; ведь в моем лице чувствуется не только пишущий эти строки, но и вся русская музыка! Благо зовут меня и интересуются мной, – я должен, мне кажется, этим воспользоваться. А что мне эти поездки, как бы ни был велик мой успех, очень тяжки, очень не соответствуют моей натуре, склонной к уединению, к кабинетному труду, до болезненности застенчивой и чуждой стремления к высказыванию себя, этом я думаю, Вы не сомневаетесь". К этому откровению Петра Ильича надо для полноты понимания его усилий добавить только одно: заграничные поездки приносили ему признание и славу – это правда, правда и то, что они приносили также славу и русской музыке в целом, но материальной выгоды от этих путешествия.
Петр Ильич совсем или почти не имел, иногда даже оставался в убытке. Одним словом, деньги для совершения этих поездок играли только ту роль, что Чайковский тратил их в этих путешествиях подчас больше, чем получал, и кто знает, не будь субсидии Надежды Филаретовны, а с 1888 года еще и назначенной Александром III пожизненной пенсии в три тысячи рублей серебром в год, то, может быть, Чайковскому не представилось бы возможности совершить концертные турне в таких масштабах, какие им были предприняты. Разве что только в более стесненных обстоятельствах он стал бы по-настоящему деловым человеком, но в это мало верится, несмотря на его смелые высказывания на этот счет, которые он иногда делал в последние годы своей жизни.
Юлия Петровна все больше начинала понимать, что, несмотря на добрые и полные дружеских чувств письма Петра Ильича, ему все труднее отвечать на длинные послания, которые она регулярно направляла. Но пока ее понимание сводилось к тому, что она все чаще упоминала об этом понимании, т. е. чуть не в каждом письме намекала на бремя, которое она приносит своими жалобами на горестную судьбу и на перемену в отношении к ней Петра Ильича. Жаловаться-то ей было нечего. Чайковский писал регулярно, хотя и не столь пространно, как прежде. Работа, поездки, деловые переговоры да и огромная переписка не давали ему теперь возможности отвечать совершенно в тон и с тем же многословием, что могла себе позволить Юлия Петровна. После нескольких сетований с ее стороны Петр Ильич позволил себе даже рассердиться: "… перечел Ваше письмо и ужаснулся! Вы, пожалуй, еще более теперь втянетесь в мысль о том, что я к Вам переменился!!! Что мне отвечать на вопрос Ваш? Если помню, Вы уже несколько раз высказывали предложение, что я изменил Вам, и мне понятно, что мое редкое писание может заставить Вас иногда делать такое предположение. Но только меня удивляет, что Вы долго можете обвинять меня в легкомысленной изменчивости. Уверяю Вас, что я совсем не так изменчив, как Вам иногда кажется, и что в отношении к Вам я совершенно тот же, что был 3 года тому назад. А вот, что писать я стал реже, так это правда. Но, добрая Юлия Петровна, войдите в мое положение… Я сделался каким-то мучеником почты… Это в последнее время стало чудовищно" т.
Петр Ильич спешил к сроку закончить "Спящую красавицу". Затем ему нужно было в Москву. Там репетиции "Евгения Онегина" и дирижирование первым представлением в Большом театре. Роскошная постановка. Огромный успех. Сразу же после этого – в Петербург. Тут репетиции "Спящей красавицы" и подготовка к чествованию Антона Григорьевича Рубинштейна, для которого Петр Ильич сочинил приветственный хор. Обратно в Москву. Здесь встреча с Чеховым, дирижирование концертом в Русском музыкальном обществе, и опять в Петербург, где надо было завершить подготовку к юбилею А. Г. Рубинштейна – 50-летию его художественно-музыкальной деятельности – и провести грандиозный концерт из его произведений, в число которых входила оратория "Вавилонское столпотворение" с хором из семисот человек. Это была труднейшая задача, потребовавшая огромного нервного напряжения, и Петр Ильич с честью справился с ней. Из Петербурга пришлось чуть ли не немедленно мчать в Москву – концерт в пользу вдов и сирот под управлением Чайковского…
Обо всем этом направлялись сообщения в Севастополь. "Теперь я одна из щепок, носимых коловращением общественной жизни, – замечал Петр Ильич. – Но я делаю то, что считаю своим долгом. Как-то у Вас? Не сердитесь".
И в последующих письмах повторяется та же тема. "Работа, долг. Я нужен, и пока жив, надо эту нужду удовлетворять". Юлия Петровна понимает это, но ей больно терять единственную опору, каковой для нее является Чайковский. Она видит, что Петр Ильич стал композитором с мировым именем, что он теперь признанный музыкальный гений, что его разрывают на части, что он нужен, нужен, нужен! Всем нужен! Что не может он быть прежним, хотя и не изменился в своей доброй натуре. Впрочем, конечно, изменился. Тяжелая ноша не могла не придавить его. Но сбросить эту ношу – славу, долг, желание отдать людям все прекрасное, что живет в нем, – этого он был сделать не в силах. И Юлия Петровна тоже была не в силах отказаться от писем к нему, на которые рано или поздно получала коротенькие теперь ответы. Как-то Петр Ильич поведал ей, что видел Ипполита Васильевича, но приглашения прийти к нему домой не принял. "Дела общего у нас нет, – писал он, – беседа могла бы быть интересной, если б между нами не было условлено никогда не касаться Вас и вообще частных дел его. Конвенция эта никогда не заключалась формально, а так само собой сделалось. А жаль! Если бы он первый когда-нибудь заговорил, я бы имел что сказать по этому поводу"
1890 год был годом "Пиковой дамы", и в письмах Чайковского к Юлии Петровне рассказывается о том, как появилась идея писать эту оперу, как продвигается дело с ее сочинением. Из Флоренции, где он работал над "Пиковой дамой", Петр Ильич радостно извещал, что совершил просто подвиг – за семь недель написал большую оперу, инструментовать которую едет домой. Это и в самом деле был подвиг – создание не только большой, но и лучшей русской оперы, завоевавшей мировое признание.
Писать письма становилось все труднее. Петр Ильич в каждом письме приносил извинения, что пишет очень коротко. В это время у Юлии Петровны начались разлады в севастопольской семье: не ладили бабушка и дети. Дочь Юлии Петровны полюбила молодого человека, которому его родители запретили посещать Шпажинских, считая, что девушка из семьи, в которой нет отца, ему не пара. К главному несчастью прибавились еще местные невзгоды. Юлия Петровна была в отчаянии. Чайковский советовал ей куда-нибудь уехать, настаивал на том, чтобы она решительно требовала от Ипполита Васильевича средств для обеспечения семьи. Как все это сделать? Этого не знала Юлия Петровна. Не знал и ничего не мог придумать для нее и Петр Ильич.
Последнее его письмо к Юлии Петровне было написано 1 октября 1891 года из Майданова, куда он снова переселился после возвращения из поездки в Америку. Он рассказывал ей о концертах, о постановке "Пиковой дамы" в Москве, о других своих музыкальных делах, снова советовал уехать куда-нибудь в тихий уголок южного берега Крыма…
На этом переписка оборвалась.
Всего сохранилось восемьдесят два письма Чайковского к Юлии Петровне. После Надежды Филаретовны фон Мекк, с которой не может сравниться ни одна женщина – адресат Петра Ильича (семьсот шестьдесят писем), Юлия Петровна Шпажинская по количеству полученных от Чайковского писем занимает первое место среди женщин. Что так привлекло Чайковского в Юлии Петровне, почему он принимал такое участие в ее жизни, почему ждал ее откровений и отвечал на них длинными, содержательными, интересными письмами, почему так вдруг оборвалась переписка, встречался ли когда-нибудь потом Петр Ильич с Юлией Петровной? На эти и многие другие вопросы ответов нет.
Стоит ли высказывать предположения?
Наверное, нет. Ведь все-таки главное в том, что письма Чайковского Юлии Петровне рисуют его великолепный духовный портрет, и, смотря на Петра Ильича сквозь содержание этих писем, можно увидеть все те же его добрые свойства, которые уже удавалось видеть и с других позиций. Есть и еще одно немаловажное обстоятельство: Юлии Петровне Чайковский писал свободнее, чем Надежде Филаретовне, не стесняясь налагаемых особым положением благодетельницы ограничений, которые все-таки иногда препятствовали его жизненному откровению с ней. В переписке с Юлией Петровной, у которой ему нечего было брать, кроме дружбы (а может быть, и любви), почитания и искренних признаний в постигших ее горестях, опорой и утешителем всегда был он сам. И даже если какие-то движения его души побуждали его к наивным поступкам, которые не приносили материальной пользы, то и такие действия его все равно не кажутся бесполезными. Людям очень бывает нужно, чтобы их просто любили.
Вспоминайте меня иногда
13 сентябре 1890 года Петр Ильич гостил у брата Анатолия, ставшего тифлисским вице-губернатором. Там он получил письмо от Надежды Филаретовны, уведомлявшее его о том, что она разорилась и вынуждена прекратить выплату субсидии. Письмо заканчивалось словами «Вспоминайте меня иногда».
Это последнее письмо Надежды Филаретовны к Чайковскому не сохранилось, и судить о его содержании можно только по ответному письму Петра Ильича от 22 сентября. Последняя фраза Надежды Филаретовны, о которой в своем ответе упомянул Чайковский, давала понять, что положен конец и переписке.
Петр Ильич был потрясен этим известием. В своем ответе он не скрывал того, что прекращение субсидии отразится на его материальном благосостоянии, но успокаивал Надежду Филаретовну тем, что доходы его в последнее время сильно увеличились и что они и дальше будут расти. Он в большей мере выражал беспокойство за судьбу самой Надежды Филаретовны и писал, что не представляет себе, как она сможет жить без богатства.
Последние слова Надежды Филаретовны обидели его, обидели не "немножко", как он ей написал, а оказались самым тяжелым потрясением. Выходило, что он вынужден перестать писать своей благодетельнице и прекратить с ней всякие отношения, после того, как лишился ее денег. Однако и денежная сторона вызвала весьма горькие чувства, особенно на первых порах. Через несколько дней после получения неприятного известия Петр Ильич писал Юргенсону и, сообщая ему о постигшей его беде, начал с денежных дел. "У меня отныне шестью тысячами в год будет меньше. На днях я получил от Надежды Филаретовны письмо, в котором она сообщает, что к крайнему своему прискорбию, вследствие запутанности дел и разорения почти полного, принуждена прекратить выдачу ежегодной субсидии. Я перенес этот удар философски, но тем не менее был неприятно поражен и удивлен…" И только после излияния своей досады относительно потери шести тысяч Чайковский слегка коснулся того главного, что в действительности терзало его куда больше, чем деньги, написав "оскорблено мое самолюбие". Но с Юргенсоном он всегда был грубо откровенен и позволил себе в пылу своей обиды добавить злую, жестокую фразу: "Теперь мне хотелось бы, чтобы она окончательно разорилась – так, чтобы нуждалась в моей помощи. А то ведь я отлично знаю, что с нашей точки зрения она все-таки страшно богата" из.
В этих словах есть уже отдельные намеки на понимание существа дела, хотя понимание Петра Ильича и в тот момент было далеко не полным, да и потом, когда он почувствовал несправедливость своих обвинений в адрес Надежды Филаретовны, до конца избавиться от своих обид так и не смог.
Прошло еще немного времени, и Петр Ильич уже гораздо спокойнее сообщал о потере субсидии Модесту Ильичу. Его признание, что он "мало огорчился уменьшением доходов" и что он больше обращал внимания на чувства вызываемые поступком Надежды Филаретовны, звучали вполне искренно. Модест Ильич расценил это и вовсе трезво: "Само собой, не шесть тысяч мне жаль… Тяжел укол гордости, сделанный тебе" 144.
Ни Петр Ильич, ни его брат не могли знать всех обстоятельств, которые сложились в то время у Надежды Филаретовны, а потому, даже смягчившись после потрясения от полученного известия, не могли до конца понять ее неожиданный поступок, особенно отказ от дальнейшей переписки, что особенно ударяло по самолюбию Чайковского.
Положение же ее к 1890 году было весьма непростым, и Чайковский из ее писем знал достаточно, чтобы судить о нем, но не принял во внимание происшедших изменений. Как и всякому человеку, непосредственно не соприкасающемуся с жизнью богатого предпринимателя, все состояние которого вложено в дело и целиком зависит от хода этого дела, ему, целиком поглощенному своим искусством и совершенно другими сторонами жизни, трудно было уяснить себе сложность процессов, происходящих в железнодорожных правлениях и банках, котирующих акции капиталистов.
Чайковский усомнился в полном разорении Надежды Филаретовны (и со своей точки зрения был прав в этих сомнениях), но уверенность Петра Ильича в том, что катастрофических последствий для семьи Мекк не произошло, еще больше укрепилась письмом от слуги Алексея Софронова, где тот писал: "Но вы знаете, дорогой мой благодетель, я думаю, не настолько разорилась Надежда Филаретовна, насколько она пишет, а думаю – это дело Вашего поляка Пахульского, так как акции Рязанской дороги стоят гораздо выше прошлого года… По этому случаю думаю, что тут главную роль сыграл Пахульский. Он летом все завидовал Вам, как Вы хорошо живете…"145.
Владислав Альбертович Пахульский жил в доме Надежды Филаретовны в качестве музыканта. Он непрерывно состоял у нее на службе с 1877 года после Котека. Кроме того, что Пахульский окончил Московскую консерваторию как скрипач, он хорошо владел фортепиано. Надежде Филаретовне было приятно, что Пахульский, будучи учеником Петра Ильича в консерватории, относился к ее кумиру с большим почтением. Он был умен, выдержан, и казалось, ему нравилась роль свободного музыканта с прочным материальным положением, возможностью заниматься музыкой, играть на лучших инструментах (у Надежды Филаретовны была великолепная скрипка работы Страдивари, рояли лучших фирм), имея для этого много свободного времени. Приятным развлечением были и поездки по различным странам Европы, в которых Владислав Альбертович сопровождал Надежду Филаретовну. Хозяйке он явно нравился своим тактом и проявлением удовольствия делать все, что ему поручалось. Со временем он стал для нее незаменимым помощником. С 1882 года Пахульского привязало к дому фон Мекк и еще более основательное обстоятельство – начавшийся роман с дочерью Надежды Филаретовны Юлией Карловной, на которой он женился в 1889 году. По просьбе Надежды Филаретовны Чайковский занимался с Пахульским композицией, которой тот увлекся. Петр Ильич не нашел в нем композиторского дарования и собирался откровенно сказать об этом и самому Пахульскому и его хозяйке, но сын ее Николай Карлович, с которым Петр Ильич решил посоветоваться, умолял не делать этого: "Ради бога, не говори, это страшно огорчит маму!"– отвечал он Чайковскому. И так все и осталось. К чести Пахульского, он понимал свой уровень и никогда не использовал тех исправлений, которые в его композициях делал Чайковский. "Пусть это будут мои глупости" М6,– говорил он.
Все поведение Пахульского было таковым, что нет никаких оснований принять намек Алексея Софронова за истину, хотя некоторые биографы именно Пахульского обвиняли в том, что он был одним из тех, кто способствовал прекращению субсидии от Надежды Филаретовны. Пахульский даже в роли мужа Юлии Карловны не мог влиять на Надежду Филаретовну, не говоря уже о том, что не мог он и желать Чайковскому зла.
Сам Петр Ильич тоже вряд ли мог винить в чем-либо Пахульского. Ведь в 1890–1891 годы после прекращения переписки с Надеждой Филаретовной он только через него получал сведения о ее здоровье и состоянии. Владислав Альбертович передавал ему поклоны от своей тещи и давал ей читать письма, которые получал от Петра Ильича. Однажды от него последовал и вовсе умиротворяющий ответ: "Надежда Филаретовна, которой я дал читать Ваше письмо, велела передать Вам, что "это невозможная вещь, чтобы она когда-нибудь на Вас сердилась и что отношение ее к Вам неизменно".
Обида, однако, давила, и Петр Ильич от этих поклонов через Пахульского почувствовал себя оскорбленным: в сущности, ему давали понять, что только деньги и связывали в течение более тринадцати лет обоих корреспондентов. Кончилась субсидия – кончились отношения Стало быть, думал Чайковский, Надежда Филаретовна платила за свой интерес, за свой каприз, а теперь не стало этого интереса – и всему конец. Это для него было невыносимо тяжело, и в июне 1891 года он откровенно написал Пахульскому о своих чувствах. Пахульского он просил ничего не говорить Надежде Филаретовне о том, что высказал в своем письме, и просьба его была естественной, ибо в этом письме он довольно резко заметил, что перемена в отношении к нему Надежды Филаретовны перевертывает вверх дном его воззрения на людей, его "веру в лучших из них", имея в виду саму Надежду Филаретовну. Петр Ильич просил Пахульского не отвечать ему. Получалось, что, послушайся Пахульский, он ничего и сделать не мог вообще: Надежде Филаретовне говорить о письме нельзя, отвечать на письмо тоже вроде бы не следует. Пахульский, однако, не послушался и снова повторил Петру Ильичу все прежние доводы, здоровье Надежды Филаретовны, ее тяжелое состояние, невозможность писать лично. Более того, он советовал: "… если бы Вы по-старому написали ей о себе да об ней спросили, то ручаюсь, что она тогда откликнется всей душою, и тогда Вы увидите, как ничуть ее отношение к Вам не переменилось" 147.
Петр Ильич не написал. Вероятно, он на сей раз не поверил Пахульскому, а, скорее всего, его ответ и возвращение Пахульским письма вконец обидели его.
С этого момента у Петра Ильича появилось странное чувство. Он не мог не испытывать признательности за прошлые благодеяния Надежды Филаретовны, но признательность эта подавлялась смесью обиды и зла, перерастающей чуть ли не в ненависть. Он отлично сознавал, что не имеет никаких прав требовать от Надежды Филаретовны ответа за ее действия. Ему также было понятно ее физическое состояние, но вот почему все произошло так внезапно – это его озадачивало. Если, скажем, рассуждал сам с собой Петр Ильич, Надежда Филаретовна вдруг узнала про его склонности и увлечения, то, принимая решение о разрыве отношений, разве стала бы она беспокоиться о переводе ему субсидии за целый год вперед. А ведь она прислала ему шесть тысяч рублей серебром наличными за период с июля 1890 по июль 1891 года, хотя Чайковский на этот раз с такой просьбой не обращался. При этом денежный пакет был доставлен Чайковскому доверенным слугой Надежды Филаретовны прямо во Фроловское. Нет, что-то зрело в ее уме. Об этом можно судить даже по ее совету положить две трети высланной суммы в банк. Это был совет предвидения или, лучше сказать, предусмотрения. Видимо, у нее уже складывалось решение, и прекращение субсидии и переписки не было внезапностью, которой оно представилось Чайковскому 148
Финансовое положение Надежды Филаретовны начало довольно резко осложняться еще в 1881 году. Ей были предъявлены долговые обязательства покойного мужа на шесть миллионов рублей, о которых она, по ее словам, ничего не знала. Эти долги ей удалось выплатить: помогла продажа акций, но потребовалась также продажа браиловского имения и московского дома. Раздел имения между самой Надеждой Филаретовной и детьми привел к тому, что ей пришлось выплатить детям вырученные 1,4 миллиона рублей (половина стоимости имения). Баланс в ее состоянии свелся к нулю, и по понятиям любого капиталиста это было бы хорошо, поскольку оставалось доходное дело, теперь уже не пораженное долговыми обязательствами. Но вместе с доходами появились и новые обязательства. Свободных денег оставалось все меньше. Дети получили от матери свою долю и наделы, с которых имели по пятнадцать – двадцать тысяч годового дохода, но это уже были их наделы и доходы, с помощью которых они кормили, одевали и развлекали собственные семьи по своим масштабам. Старший сын Владимир Карлович, как писала Чайковскому Надежда Филаретовна, получал он нее меньше всех из детей – всего семь тысяч в год, – потому что он и сам зарабатывал, будучи директором в правлениях дорог. В 1881 году до того, как Надежда Филаретовна сумела справиться со свалившимися на нее финансовыми бедами, она писала Чайковскому: "Мое положение в настоящее время более чем критическое", и оно действительно тогда было таковым. Несмотря на это заявление, она нашла необходимым успокоить Петра Ильича, что сумма субсидии, которая ему выплачивается, "так ничтожна в ее миллионом разорении", что она не может быть для нее чувствительной. Тем не менее Надежда Филаретовна пообещала Петру Ильичу сказать, когда такая сумма будет иметь для нее значение. Это был серьезный сигнал. Сыну Владимиру, который вел большую часть железнодорожных дел, – семь тысяч в год, Чайковскому – шесть тысяч; "положение более чем критическое", обещание сказать, когда шесть тысяч станут чувствительными, – было над чем задуматься. И Петр Ильич задумывался, но ни к чему не пришел. Мысли его быстро возвращались к тому, что было самым важным для него. И можно ли ему поставить это в вину, бросить даже самый малый упрек? Вряд ли, плоды его деятельности отвергают даже самый вопрос такого рода. Решать, как поступить с субсидией, должна была сама Надежда Филаретовна, хотя внешне дело выглядит так, что Чайковскому следовало бы самому отказаться от денежной помощи.
После временного урегулирования своего критического положения настроение у Надежды Филаретовны улучшилось, и переписка приобрела почти прежний спокойный тон. В октябре 1881 года она даже послала Петру Ильичу чек сверх обычной бюджетной суммы, упрекнув его за то, что он, нуждаясь в деньгах, не обратился к ней, а взялся за нудную работу по редактированию сочинений Бортнянского, которую ему дал Юргенсон специально для заработка. Петр Ильич, конечно, благодарил, но вместе с тем умолял Надежду Филаретовну впредь никогда не нарушать его бюджета. "Пожалуйста, никогда не забывайте, – писал он, – что благодаря Вам вот уже четыре года я достиг такого материального благополучия, о котором никогда прежде и мечтать не мог, что у меня средств не только, много, но очень много, слишком много, так как они далеко превышают мои действительные потребности". Такое заявление Петра Ильича в сочетании с теми сведениями, которые имела Надежда Филаретовна о его доходах в 1890 году, только способствовало тому, что у его покровительницы оставалось меньше колебаний, когда назрело решение прекратить выплату субсидии.
Дела Надежды Филаретовны в течение нескольких лет выглядели более или менее устойчиво. Она даже позволила себе роскошь приобрести виллу на юге Франции. Но тучи; над ее состоянием сгущались. Козни членов правления i Рязанской дороги, мероприятия правительства в отношении частных дорог держали ее в постоянном напряжении, и все труднее становилось удерживать финансовое равновесие. К этим внешним трудностям прибавилось резкое ухудшение ее здоровья. Усиливался туберкулезный процесс в легких, сухотка руки не позволяла ей самой писать свои письма, в 1889–1890 годы у нее началось тяжелое нервное заболевание. Она и прежде была глуховата, а теперь почти совсем перестала слышать. Особенно тяжело ей было видеть безнадежное положение ее старшего сына Владимира, который был смертельно болен и гас на ее глазах. Он умер в 1892 году.
Анна Львовна Мекк-Давыдова, вспоминая об этих тяжелых временах, рассказывала, что, когда она навестила совсем больную Надежду Филаретовну в Висбадене, то та так ответила на ее вопрос о Петре Ильиче: "Я знала, что я ему больше не нужна и не могу больше ничего дать, я не хотела бы, чтобы наша переписка стала для него обузой, тогда как для меня она всегда была радостью. Но на радость для себя я не имела права. Если он не понял меня и я ему была еще нужна, зачем он мне никогда больше не написал? Ведь он обещал! Правда, я отказала ему в материальной помощи, но разве это могло иметь значение?" 149
Умная Надежда Филаретовна уже давно поняла, что Чайковскому нелегко писать свои письма, не было больше и тех восторженно откровенных излияний души, рассказов о жизни, музыке, философии, литературе, религии, которые содержались в письмах в первые годы переписки. Она сняла с него эту обузу, думая, что он только вздохнет с облегчением и спокойно воспримет такой разрыв. А деньги? Они, конечно, играли немалую роль для Чайковского даже в 1890 году, когда он стал знаменитым и доходы его сильно возросли. Надежда Филаретовна вряд ли так уж почувствовала вес шести тысяч рублей в своем годовом бюджете. Скорее эта субсидия становилась теперь для нее моральным бременем. Видимо, как рассказывает Анна Львовна, она действительно считала себя виноватой в том, что дружба с Петром Ильичом, хотя и состоявшая только в переписке и денежной помощи, отнимала ее от семьи, и особенно в том, что она теряла своего старшего сына (вспомним: сыну Владимиру – семь тысяч, потому что он зарабатывает, Чайковскому – шесть тысяч, но в 1890 году Чайковский стал тоже очень много зарабатывать). "Мои грех, – сказала она себе, – и я должна его искупить". Больная и почти беспомощная Надежда Филаретовна безбожница, выработавшая свою собственную рациональную религию и воспитывавшая на этой религии своих детей теперь погрузилась всем своим существом в самую настоящую религию, совершая долгие молебны и разные религиозные обряды150.
Всему приходит конец. Замирает любовь, остывает пыл дружбы, прекращается и переписка. Там, где чувства были теплы и благородны, остаются столь же теплые и благородные воспоминания. Однако Надежда Филаретовна никак не могла предположить, что ее последнее письмо принесет Чайковскому такую горькую обиду. Она все-таки ждала, что он напишет, – об этом свидетельствуют совсем разные по своему отношению к Чайковскому люди – Пахульский и Анна Львовна, но Петр Ильич этого не сделал. Надежда Филаретовна сама написать была не в состоянии. Так и расстались они, унеся каждый свои воспоминания в могилу. Надежда Филаретовна умерла вскоре после Чайковского, в январе 1894 года.
"Вспоминайте меня иногда!"
Он вспоминал, но чаще с недобрым чувством, и хотя я не очень верю, что в предсмертном бреду Петр Ильич произносил ее имя, называя ее "проклятая", как об этом пишет Модест Ильич, но кто-знает? Горечь обиды за почудившееся Петру Ильичу пренебрежение к его чувствам могла вызвать и такую вспышку гнева в его агонии.
Надежда Филаретовна фон Мекк спасла Чайковского для России и всего мира. А если слово "спасла" кому-нибудь покажется преувеличением ее роли в жизни Петра Ильича, хотя он сам признавал это, тогда уж никто не возразит против того, что она сделала его жизнь свободной от мелких забот, так что он мог всецело отдаться своему любимому делу. Этого вполне достаточно, чтобы мы были благодарны ей за отношение к Чайковскому и чтобы мы не только вспоминали ее иногда, но и отдали должное ее памяти.








