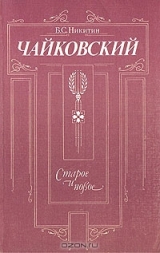
Текст книги "Чайковский. Старое и новое"
Автор книги: Борис Никитин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
Здесь нужно отметить только один важный момент. Основная версия, сообщенная "Новым временем" 26 октября, с точки зрения объяснения причины заболевания холерой выглядит более достоверной. То же можно сказать и о версии "Биржевых ведомостей", хотя там не сказано, что вода в стакане, поставленном на ночной столик Чайковского, была сырая: вероятно, читателям следовало об этом догадываться.
Поэтому еще раз приходится выразить недоумение, почему Модест Ильич Чайковский не вспомнил об истории с сырой водой в ресторане Лейнера, если она действительно имела место, и почему он вопреки логике посчитал фатальным выпитый за обедом 21 октября стакан сырой воды, который никак бы не успел к вечеру того же дня довести холеру до альгидного периода.
И без того тут много темных пятен, а это особенно темное, поэтому не только жители Петербурга в 1893 году, но и люди, весьма далекие по расстоянию и времени от Петербурга 1893 года, сильно усомнились в холере Чайковского. Согласятся ли читатели, если не дать им каких-либо дополнительных доводов в пользу холеры, что вся эта путаница в последние пасмурные и скорбные дни октября 1893 года есть сущий вздор, о котором, может быть, вовсе ' не стоило бы вспоминать?
К сожалению, нам напомнили об этом со стороны. Напомнили жестоко, грубо и не однажды.
Василий Бернардович Бертенсон в своих воспоминаниях после приведенных выше возмущений распространившейся молвой написал еще одну фразу, которую в современных перепечатках всегда выпускают:
"Стоит ли говорить о такой инсинуации, в особенности ввиду грязных намеков на причину, вызвавшую самоубийство Петра Ильича?"33
Трудный вопрос задал Василий Бернардович.
Собственно, это даже не вопрос, а крик души, протестующий не только против молвы о самоубийстве, но еще и против слухов по поводу причины, которая якобы привела к самоубийству.
Желание понять этот протест неизбежно сталкивается с необходимостью проникновения в самые интимные особенности сложной и деликатной натуры Петра Ильича. Ряд неудачных попыток сделать это путем простого представления фактов говорит о том, что такой способ вряд ли сможет привести к должному пониманию" Чайковского как человека и как великого художника.
В прошлом писатели, искусствоведы и критики очень обстоятельно доказывали, что гениальный художник совсем не обязательно должен оказаться высоконравственным человеком, как и высоконравственный человек уж вовсе не обязательно может нести в себе исключительный художественный талант. К сожалению, яркие примеры жизни показывают нам, что оспорить это утверждение было бы чрезвычайно трудно. Но вот Чайковский, по его собственным словам, не представлял себе, что можно отделить в художнике эти две стороны – его человеческие качества и его творчество. Как можно согласовать такой взгляд с неоспоримыми истинами жизни? Если глубоко вдуматься в эти убеждения Петра Ильича, то можно обнаружить чрезвычайно важную особенность его собственных взглядов, которые, впрочем, и принципиально совершенно справедливы. Все дело в том, что величие гения бывает разным. Творчество безнравственного гения (позволим себе такое определение) непременно несет в себе нечто дьявольское, развращающее. Даже – в самых волнующих эпизодах творений такого художника, будь он писателем, живописцем или композитором, видятся и слышатся какие-то недобрые, неискренние вспышки, которые могут увлечь, поразить, даже на какой-то момент обрадовать, но трепетных чувств справедливости, уверенности, доброты и земного счастья они в человеке не поселят, и, изумляясь силе гениальных произведений, этот человек всегда ощутит неприятный осадок от таких произведений, если, конечно, он сам не принадлежит к категории тех, кого больше увлекают именно человеческие аномалии или откровенный цинизм.
К счастью, задача познания Чайковского как человека значительно облегчается прекрасными качествами его души, и биографические стороны наших суждений о нем не нуждаются в каких-либо украшениях, уловках или в замалчивании того, что считается неприглядным, неприемлемым. А те его природные особенности, которые выбывают настороженное отношение или смущение у многих почитателей его творчества, просто требуют некоторых усилий, чтобы понять его человеческую трагедию и оценить те мучения, которые ему пришлось вынести в попытках победить свою натуру.
Дорога к этому познанию не может быть короткой, потому что человеческие свойства Чайковского действительно невозможно оторвать от его творчества, и нам придется все время обращаться и к той и к другой стороне в тесной их связи между собой.
Непонятый Брамс
В нелегкие годы своего музыкального становления Петр Ильич скорее ради добывания средств существования, чем из любви к писательству, взялся за труд музыкального критика и в период с 1869 по 1876 год написал более шестидесяти интересных и красивых музыкальных фельетонов в основном для «Русских ведомостей». Этим фельетонам вместе с многочисленными письмами Чайковского мы обязаны тем, что имеем возможность глубже понять музыкальную натуру и движущие силы, которые способствовали его гению в создании бессмертных творений.
Изрядно потрудившись на ниве музыкальной критики ради хлеба насущного, Петр Ильич вынужден был признаться, что честный рецензент, если он желает внести вклад в понимание музыки широкой публикой, не может руководствоваться исключительно своим личным мнением, а обязательно должен опираться на голос авторитетного круга специалистов, к которому принадлежит он сам. Если критик лишен такой опоры, говорил он, "то вся его критическая деятельность сводится к дилетантски бесцельной болтовне об искусстве, быть может, и очень милой, но лишенной всякого серьезного значения"34.
Это интересное предубеждение против единоличного суждения, как ни ущемляет оно самолюбие могучих авторитетов, безусловно, справедливо. Оно лишний раз подчеркивает скромность Чайковского и его стремление к достижению истины. Действительно, только в самом себе бывает трудно найти объективное суждение о новом: вследствие укоренившейся привычки к сложившимся традициям всякое новое далеко не всегда воспринимается должным образом. Что касается музыки, то Чайковский, будучи уже сложившимся музыкантом, не стеснялся признавать возможность своих ошибочных суждений о новом. "Только через многократное прослушивание уясняются качества и недостатки изучаемого музыкального произведения. Очень часто то, на что в первый раз не было обращено достаточного внимания, при вторичном исполнении вдруг поразит и неожиданно очарует вас. Наоборот, какой-нибудь эпизод, сначала прельстивший вас и найденный вами наиболее удачным, при дальнейшем изучении бледнеет перед вновь открытыми красотами". Отсюда можно заключить, что Чайковский весьма осторожен в своих оценках, по крайней мере в этих его высказываниях чувствуется желание быть осторожным и не сделать поспешных похвал или осуждений. Прекрасный принцип! Но он заставляет с некоторой опаской использовать музыкальные фельетоны Чайковского в целях выявления именно его собственных представлений о тех или иных композиторах или об их произведениях.
Зато на таком сдержанном фоне критики еще более определенно и беспощадно проявляется неприязненное отношение к какой-либо музыке. Уж если Петр Ильич искал тщательно взвешенные заключения, то, надо полагать, отрицательные суждения при его скромности и щепетильности обдумывались им особенно тщательно. По этой причине лучше всего начать с главной антипатии Чайковского, которая поначалу может вызвать сильное недоумение. Речь идет о музыке Брамса.
Чайковский нередко загорался творчеством тех или иных композиторов или, напротив, высказывал неприязнь. Часто он менял свое отношение то ли под влиянием более глубокого знакомства с музыкой тех или иных авторов, то ли в результате развития и изменения собственных вкусов с возрастом и опытом. Он с восторгом относился к Шуману и в молодые годы даже находился под его влиянием, а в конце жизни охладел к его творчеству. Он поначалу был равнодушен к Гуно, но затем мнение его изменилось. У него были подъемы и падения в чувствах к Вагнеру. Можно также указать на его постоянство в любви к Моцарту и в настороженности к Бетховену, на верность в почитании Глинки. Однако неприязнь и даже вражда к музыке Брамса представляет собой образец удивительного и уникального постоянства Петра Ильича в неприязненном чувстве.
Читая высказывания Чайковского о музыке Брамса, иногда ловишь себя на мысли: а не упорствовал ли Петр Ильич в своей позиции из принципа, подобно тому как он упрямо выражал свою любовь к какому угодно произведению Моцарта, даже самому второстепенному, лишь потому, что оно написано Моцартом?
Но нет, из года в год он с разной степенью гнева обрушивался на Брамса, все тем же веским словом подтверждал свою вражду к его произведениям каждый раз, когда с ними знакомился. А знакомился он с ними, как это видно из различных источников, основательно, проиграв и прослушав фортепианные переложения всех четырех симфоний, обоих фортепианных концертов, скрипичного концерта, ряда камерных вещей. Если собрать в один абзац все самое существенное, что сказал Чайковский о музыке Брамса в период с 1872 по 1888 год, то вряд ли можно обнаружить какие-либо перемены настроения:
"Это один из заурядных композиторов, которыми так богата немецкая школа; он пишет гладко, ловко, чисто, но без малейшего проблеска самобытного дарования… бездарный, полный претензий, лишенный творчества человек. Его музыка не согрета истинным чувством, в ней нет поэзии, но зато громадная претензия на глубину… Мелодической изобретательности у него очень мало; музыкальная мысль никогда не досказывается до точки… Меня злит, что эта самонадеянная посредственность признается гением… Брамс, как музыкальная личность, мне просто антипатичен"
И хотя в этот абзац включены и более откровенные слова из дневника Чайковского, неприязнь его не претерпевает заметных падений на более сдержанном фоне печатной критики. Шестнадцать лет не смягчили его сердце в отношении Брамса. И еще год спустя после встречи с Брамсом в Германии, хорошо отозвавшись о нем как о симпатичном человеке, он не изменил своего мнения о его музыке: "Слушая его, вы спрашиваете себя, глубок ли Брамс или только хочет подобием глубины замаскировать крайнюю бедность фантазии?" К этому совершенно не измененному встречей заключению Петр Ильич счел должным добавить лишь несколько фраз об учености, мастерстве, благородстве и возвышенности Брамса и, как бы спохватившись, что немного увлекся похвальными сентенциями, закончил: "Но во всем этом нет самого главного – красоты"36.
Странно все это и непонятно. Особенно странно нашему поколению, которому Брамс никоим образом не представляется лишенным творчества или мелодического дара, лишенным способности создавать красоту. Не говоря уже о его песнях, танцах или миниатюрах, стоит только вспомнить напевные эпизоды Второй симфонии…
Брамс был на семь лет старше Чайковского и на три с половиной года пережил его. Так что он был в полном смысле слова современником Петра Ильича, а если говорить о параллельных сроках, то опередил его в своем творчестве ненамного. Из крупных оркестровых произведений Брамса только Первый фортепианный концерт появился раньше капитальных произведений Чайковского. Симфонии Брамса были созданы в период 1876–1885 годов, Второй фортепианный концерт – в 1881 году, скрипичный концерт – в 1878 году. Поэтому все суждения Чайковского о Брамсе относятся к тому времени, когда Петр Ильич уже познакомился с важнейшими творениями своего музыкального неприятеля и сам уже был зрелым и признанным композитором, создателем четырех симфоний, знаменитого фортепианного концерта, нескольких симфонических увертюр и фантазий, оперы "Евгений Онегин" и многих других произведений. Так что его отношение к Брамсу нельзя расценить как случайно возникшую неприязнь, что иногда бывало у Петра Ильича. Однако если рассматривать не параллельные сроки творческого развития обоих композиторов, а их возраст, в котором каждый из них начал постигать великое искусство музыки, то здесь обнаруживается весьма существенная разница.
Брамс вошел в серьезную профессиональную музыку гораздо раньше, чем Чайковский. Еще в самом раннем детстве он получил первые музыкальные познания от отца, контрабасиста гамбургского театрального оркестра. В десятилетнем возрасте он превосходно владел фортепиано и даже выступал в публичном концерте. В восемнадцать лет он давал концерты как пианист-виртуоз, и его даже называли "одним из бешеных листовской школы", хотя такое сравнение с Листом можно отнести только к виртуозности игры Брамса, ибо Листа он не любил и к его школе принадлежать не мог. В двадцать лет Брамс отважился посетить Шумана, который, прослушав его, предсказал ему великую будущность.
Примерно в том же возрасте, когда Брамс уже был образованным и твердо стоящим на ногах музыкантом-профессионалом, завоевавшим признание и как исполнитель и как композитор, Чайковский только начал задумываться о возможности сделать музыку своей профессией. В это время он служил в министерстве юстиции, и окончательное решение бросить эту службу у него еще не созрело. Более того, в двадцать два года, когда он подошел к такому решению, Петр Ильич вдруг проявил к своей юридической карьере совершенно не согласующееся с музыкальными перспективами рвение в надежде занять место столоначальника, что сулило ему значительное улучшение материального положения. Чайковского, еще не искушенного во всех тонкостях чиновничьей карьеры, обошли назначением, и, по свидетельству его брата Модеста, он был настолько раздосадован и обижен, что эта неудача могла способствовать его резкому повороту в сторону музыки. Скорее всего, Модест Ильич преувеличил значение этого случая в окончательном выборе жизненного пути Петра Ильича, однако сам факт служебного усердия его летом 1862 года, доходившего до работы над министерскими бумагами дома по ночам, никак не говорит о твердом намерении порвать со службой именно тем летом. Он и сам подтверждает это в письме к сестре 10 сентября 1862 года, когда уже серьезно занялся музыкой и записался в консерваторию: "Службу, конечно, я окончательно не брошу, пока не буду окончательно уверен в том, что я артист, а не чиновник"37.
До поступления в консерваторию музыкальная подготовка Чайковского ограничивалась сравнительно немногим для композитора такого значения, каким он стал впоследствии. Самые элементарные понятия о музыке он получил от матери: она немного играла на фортепиано и пела модные романсы. Это был первый толчок, благодаря которому Петр Ильич научился подбирать на рояле то, что ему доводилось слышать в исполнении механического органа-оркестрины, привезенного отцом в воткинский дом из Петербурга. Родители обратили внимание на тягу мальчика к музыке и, когда ему было около пяти лет, наняли учительницу для обучения игре на рояле. В восьмилетнем возрасте ученик читал ноты не хуже своей учительницы. Но от Модеста Ильича мы знаем, что эта учительница обладала более чем скромными познаниями в музыке, и такой успех ее ученика не должен вызывать удивления. Примерно в это же время Петр Ильич неплохо играл некоторые мазурки Шопена. В таких семьях, какой была семья Чайковских, это тоже не может рассматриваться каким-то особым достижением, хотя, конечно, свидетельствует о наличии музыкальных способностей. В училище правоведения Чайковский пел в хоре, которым руководил известный композитор русской церковной музыки Г. А. Ломакин. Он видел музыкальность Чайковского, но в этом отношении все же ничем особенным его не выделил.
В возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет Чайковский занимался с домашним учителем, коим был Рудольф Васильевич Кюндингер, известный педагог и пианист. Кюндингер приходил к Чайковским только один раз в неделю, но за три года занятий с ним Петр Ильич получил от него немало полезного. Впоследствии Кюндингер, поглощенный многочисленными уроками с именитыми учениками, мало что сохранивший в памяти о своих занятиях с Чайковским, рассказывал Модесту Ильичу, что ему и в голову не приходило, с каким музыкантом он имеет дело. И хотя способности Чайковского, по его мнению, были выдающимися, он не усмотрел в нем не только будущего композитора, но даже блестящего исполнителя. На вопрос отца, стоит ли Пете посвятить себя музыке, Кюндингер ответил отрицательно. Веры в исключительный талант Чайковского у него тогда не было.
Не было такой веры ни у родственников Петра Ильича, ни у его друзей. Словом, ничто не предвещало в нем великого музыканта, и Кюндингер не был одинок в отсутствие смелых пророчеств, которые могли бы появиться, сверкни Чайковский огнем гениальности, как это случалось почти со всеми крупнейшими композиторами в их детские или юношеские годы. В его талант инстинктивно верил, пожалуй, только отец, усилия которого и привели к тому, что Чайковский сумел получить неплохие практические навыки и кое-какие познания в музыке. Это отец нанял ему учительницу в детстве. Он же потом пригласил Кюндингера и он же благословил сына, когда тот всерьез повернулся лицом к искусству, бросив службу. Но и отец никогда не предполагал, что его Петя станет величайшим композитором России, перед которым склонят головы почитатели музыки всего мира.
Да и что можно было предположить? Что знал и умел Чайковский в тот момент, когда он подошел к серьезному решению? Он умел прилично читать ноты, неплохо играл на фортепиано, импровизировал. Большей частью это сводилось к сравнительно легкой музыке развлекательного характера, и все это не слишком выходило за рамки обычного для светских молодых людей того времени. Про него можно было сказать: способный молодой человек – и только. Недаром, вспоминая об этом периоде, товарищ Чайковского по консерватории, видный музыкальный критик Герман Августович Ларош, сказал, что музыкальные сведения Петра Ильича в этот период были "пугающе малы"38, а Модест Ильич дал и вовсе безжалостную характеристику его музыкальной подготовке в предконсерваторский период: "В музыкальном отношении облик Петра Ильича к концу 1860 года выступает в виде дилетанта самого первобытного вида. В теоретическом отношении он круглый невежда…39
Насчет теоретических познаний Петра Ильича, которыми он обладал ко времени, соответствующему приведенной характеристике брата, можно судить по чрезвычайно яркому примеру, упоминаемому еще одним другом, также видным музыкальным критиком, Н. Д. Кашкиным. В 1859 году Петр Ильич был поражен искусством одного знакомого офицера делать модуляции. Чайковского удивляло, что этот офицер умудрялся переходить из одной тональности в любую другую не более чем в три аккорда. "Я считал себя в музыкальном отношении более талантливым, – рассказывал Чайковский, – а между тем я и подумать не мог проделать то же самое"40.
Разумеется, оценки Лароша, Кашкина и даже Модеста Чайковского значительно принижают то, чем обладал Петр Ильич в свои двадцать лет. Его глубокая музыкальная душа была тогда скрыта от всех. Но эти критики его профессионального уровня не могли не поражаться тому прогрессу, который сделал Чайковский, и это, естественно, сказалось на резкости их суждений.
Не заходя слишком далеко в поисках более точной характеристики музыкальных знаний Петра Ильича перед его поступлением в консерваторию, мы тем не менее можем смело сказать, что музыкальная база, которой располагали к двадцати годам Брамс и Чайковский, отличалась чрезвычайно сильно. Первый в эти годы был уже признанным музыкантом, который бы только посмеялся над затруднениями в переходе из одного тона в другой. Чайковский же, как мы видим его в воспоминаниях друзей и в его собственных письмах, в двадцать лет еще не был даже приличным дилетантом. Это различие в становлении обоих музыкантов надо обязательно иметь в виду, чтобы понять их разный подход к творчеству и как одно из важных следствий этого отношение их к музыке друг друга, особенно отношение Чайковского к музыке Брамса.
Многое также помогает понять разница в образе жизни', доставшемся обоим композиторам в период формирования их характеров и накопления первоначального жизненного опыта.
Брамсу с тринадцати лет приходилось помогать семье, ибо доходы отца были невелики. Природный дар и приобретенное мастерство талантливого мальчика использовались до предела, и Брамс до поздней ночи играл в тавернах и ресторанах, где познакомился с красочным разнообразием портовой жизни Гамбурга. Дополнительный заработок ему давали сочинения и аранжировки модных пьес, которые гамбургские издатели охотно покупали. И хотя Брамс не испытал настоящей нищеты, но как выходец из сословия, живущего за счет собственного нелегкого труда, он совсем не был избалован жизнью. Это, несомненно, наложило отпечаток на его характер, на отношение к жизни, к людям и на его творчество.
Чайковский рос в довольно богатой по тогдашним российским понятиям семье. Богатство определялось, правда, не наследованным или нажитым капиталом, а служебным положением отца и, следовательно, было временным. Но это нисколько не меняет обстановку, в которой протекало детство будущего великого композитора. Можно без колебаний согласиться со словами Модеста Ильича Чайковского насчет того, что положение их отца, начальника такого большого завода, как Боткинский, совершенно походило на положение богатого помещика. Поэтому детство Петра Ильича, по крайней мере до переезда семьи в Петербург, когда ему шел десятый год, в целом было отрадным и беззаботным. Да и в Петербурге, несмотря на более суровые условия и меньший достаток, Чайковский не испытывал каких-либо особых тягот, если не считать разлуку с родными, которую он переживал очень тяжело, и некоторых событий, случающихся в жизни почти каждого юноши, которые оставляют свой след у впечатлительных людей.
Есть между Брамсом и Чайковским и другие различия, менее существенные, но есть и некоторые общие стороны.
Можно заметить, например, что как Брамс, так и Чайковский были добры и участливы к нуждающимся. Хотя в отличие от неизменной деликатности Петра Ильича у Брамса на фоне его доброты наблюдались неожиданные и труднообъяснимые вспышки отчаянной грубости, которое, возможно, явились результатом его юношеских музыкальных скитаний по портовым кабакам. Можно также указать на общительность и веселый нрав и в то же время на стремление к уединению. Последнее для Чайковского, вероятно, имело большее значение, чем для Брамса, но и у него наблюдалась такая тенденция. Впрочем, творчество нуждается временами в тишине и покое, поэтому это сходство не столь примечательное. Гораздо более важной представляется другая общая для обоих композиторов сторона жизни. И тот и другой не обзавелись семьями и остались на всю жизнь холостяками. Правда, Чайковский женился и формально оставался женатым до своей смерти, но фактически он прожил со своей женой чуть более месяца и затем расстался с ней навсегда. Причины отсутствия семьи у Брамса и у Чайковского были, конечно, разными, но сам факт их домашнего одиночества сделал их жизнь во многом сходной в отношении ее влияния на творчество.
О Чайковском, как и о Брамсе, в этой связи говорят часто и много. На Брамса взваливают многократно преувеличенные истории о его походах к уличным женщинам, подводя под эти истории сложные психологические пояснения, которые любому здоровому человеку навряд ли покажутся серьезными и нужными. О Чайковском, вроде бы смягчая истину, говорят, что он был совсем лишен любви к женщине. А ведь и то и другое неверно. Петр Ильич не был лишен чувства любви к женщине. В молодости он довольно часто увлекался. Можно вспомнить его четырех Сонь, в которых он по очереди был влюблен в Москве. Там же ему очень приглянулась Лиза Дмитриева, которая, как писал Петр Ильич, была до того прелестна, что он подобного еще ничего не видел. Модесту он признавался, что "очень занят ею". Это увлечение было замечено его консерваторскими друзьями, и Николай Григорьевич Рубинштейн подшучивал над ним по этому поводу. Несколько более сложные отношения были у него с Верой Васильевной Давыдовой, но даже по письмам Чайковского видно, что до того, как он охладел к ней из-за каких-то свойств ее характера, у него были к ней не просто дружеские чувства. Вере Васильевне Петр Ильич подарил три фортепианные пьесы "Воспоминание о Гапсале", о том месте, где происходили главные события этой любви. Третья, самая популярная из этих пьес, "Песня без слов", взволновала не одно сердце и для многих стала музыкальным эпиграфом долгой любви: такие чувства вложил в нее Чайковский.
Хорошо известна история с французской певицей Дезире Арто, которая чуть не увенчалась женитьбой Чайковского. Несмотря на уговоры друзей и вмешательство Н. Г. Рубинштейна с целью заставить Петра Ильича отказаться от этой затеи, он весьма решительно говорил с Арто о законном браке, и она была согласна. Все имеющиеся свидетельства говорят о том, что любовь была взаимной, и Чайковский получил благословение своего отца. Трудно, конечно, узнать, что скрыто в сердце человека, но все-таки некоторые сведения подсказывают нам справедливость вывода о взаимной любви. Если у Чайковского и были какие-либо сомнения относительно этой женитьбы, то они касались исключительно судьбы его творчества, поскольку в конце 1868 года, когда решалось это дело, он писал отцу: "Я лишусь возможности идти вперед своей дорогой, если слепо последую за ней".
Видимо, к счастью для Петра Ильича, серьезным его намерениям не было суждено осуществиться, и в январе 1869 года невеста Чайковского, находясь на гастролях в Варшаве, вышла замуж за баритона Падиллу. Рассказывают, что когда Петру Ильичу сообщили об этой новости, он сильно побледнел, но горечь измены терзала его недолго. В музыке эта короткая любовь оставила память в виде трогательного фортепианного романса ор. 5, посвященного Арто.
Эпизод с Арто берется на вооружение почти всеми биографами, которые добросовестно используют его, чтобы отвести читателей от нездоровых подозрений, поэтому не стоит повторять все подробности этой истории. Подшучивая над увлечением свое" молодости, Петр Ильич тем не менее всегда тепло вспоминал Дезире Арто, радовался редким встречам с ней и в 1888 году посвятил ей шесть романсов, ор. 65.
Разные причины одиночества у Брамса и у Чайковского, но они все же имеют одно общее следствие – неудовлетворенность в любви. Как бы ни казалась грубой эта формулировка рядом с именами великих людей, но никуда не уйдешь от того, что препятствия, неудачи, неудовлетворенность в любви представляют собой далеко не последние по своему значению причины человеческих страданий. Если вспомнить об этом, тогда эта грубая формула, может быть, покажется не столь неуместной по соседству даже с такими именами, как Чайковский и Брамс. И для того и для другого любовный союз двух существ, соединенных физически и духовно, остался только мечтой.
Стало быть, в творчестве обоих композиторов должна звучать грустная мечта о неосуществленном, о недостижимом. Что ж, она на самом деле звучит. Несмотря на свою немецкую сдержанность в чувствах, Брамс неоднократно рисует эту мечту в своей музыке. И это настолько заметно, что Ницше назвал Брамса "музыкантом для неудовлетворенных людей". У Чайковского тоже немало свидетельств такой грустной мечты. Когда мы рассматриваем эту общность в жизни Чайковского и Брамса и пытаемся отыскать ее признаки также и в музыке, то дело тут не в том, что можно обнаружить некоторые сходства в мотивах, например, между Intermezzo 1-й сюиты Чайковского и Росо allegretto 3-й симфонии Брамса. Как раз наоборот, наиболее интересна разница в способах передачи этих настроений, и здесь опять сказывается то, что выше говорилось о различиях в воспитании, образе жизни, в музыкальном образовании и формировании композиторского мастерства.
Полученная в детстве жизненная закалка привела к тому, что Брамса в более зрелом возрасте уже не трогали печальные образы действительности, как это случалось у Чайковского, росшего в детские годы в неге и ласке. Отсутствие такой закалки в сочетании с природной впечатлительностью сделало Петра Ильича исключительно чувствительным к малейшим переменам бытия, не говоря уже о каких-либо печальных или трагических событиях. Западноевропейское (да1 еще типично немецкое) воспитание Брамса приучало, требовало быть сдержанным в чувствах, не проявлять их слишком открыто. Выработавшийся иммунитет к превратностям жизни и сдержанность не могли не сказаться на характере творчества. К этому прибавляется еще одно важное обстоятельство. Брамс пришел к серьезному творчеству с солиднейшим багажом, в котором были уже плотно уложены великие творения Баха, Генделя, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана. Чайковский входил в царство музыки еще не отягощенный таким богатством. Отсутствие должного музыкального багажа для какого-нибудь другого начинающего композитора могло бы стать серьезным препятствием в постижении принципов великого искусства. А Чайковскому отсутствие тяжелого груза только помогло осуществить взлет на музыкальные высоты. На него разом обрушились сокровища, накопленные человечеством в течение столетий, и он жадно поглощал их, с радостью принимая своим чутким и благородным сердцем все красивое, искреннее, проникновенное. Для него эти сокровища были еще совсем свежие, нетронутые, и по этой причине они возбуждали в нем волнение, которое Брамс в этом возрасте вряд ли мог испытывать. Если в двадцать лет Брамс мог восторгаться мастерством гармонии и формы, великолепием развития музыкальной мысли, блестящим искусством голосоведения гениальных поэтов звука, то Чайковский, кроме всего этого, горел огнем познания нового, и этот огонь вспыхивал, несомненно, ярче, чем это могло бы случиться в детские годы, когда еще далеко не все струны музыкальной души настроены верно. У Брамса в годы вхождения в серьезное творчество уже была укоренившаяся музыкальная ученость, которая вместе с воспитанной сдержанностью не давала ему выйти за строгие рамки. Чайковский же творил свободно, и его стремление высказывать свои чувства до конца не наталкивалось ни на какие пограничные столбы. Ограничить его в этом могло только чувство меры, чисто эстетическое: он не желал переходить лишь ту границу, за которой кончается красота и начинает проявляться показное умничанье, порождающее неискренность. Как и всякий здоровый художник, Брамс, конечно, тоже стремился к красоте, и в нынешние времена вряд ли найдутся любители серьезной музыки, которые будут убежденно отвергать красоту произведений Брамса. Но в те времена Чайковский в своих оценках не был одинок. В конце прошлого века среди любителей музыки установилось довольно прочное мнение о том, что симфоническая музыка Брамса суха, трудна для понимания и даже бессодержательна. Причина такого отношения к Брамсу среди значительной части музыкальной аудитории состоит, очевидно, в том, что его композиторские приемы, заключавшиеся в чрезвычайно многообразном варьировании тематическим материалом, разнообразии ритмов, трансформации мотивов, тонком, красивом, но сложном сплетении голосов, озадачивали не только рядового любителя музыки, но и многих профессионалов. Создавалось впечатление, что этот мастер специально упрятывал свои чудесные идеи-мотивы в глубине параллельных голосов и бесконечном преобразовании, чтобы их не могли сразу распознать и охладеть к ним, как охладевают к заигранной музыке. Даже тридцатилетний Н. Я. Мясковский, которого, как и Чайковского, никто не упрекнет в недостатке музыкальной чуткости, позволил себе употребить такое выражение, как – "окаменелости Брамса", в контексте, где не усматривается и искорки сочувствия к композитору.








