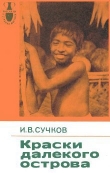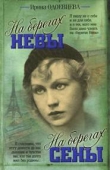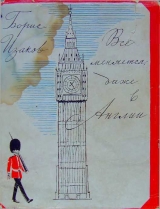
Текст книги "Всё меняется даже в Англии"
Автор книги: Борис Изаков
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Перемены

 есшумно закрылась за нами тяжелая дверь красного дерева, покрытая искусной резьбой. Мы в одном из клубов на улице Пэл-Мэл.
есшумно закрылась за нами тяжелая дверь красного дерева, покрытая искусной резьбой. Мы в одном из клубов на улице Пэл-Мэл.
Английский клуб – учреждение уникальное. Он напоминает гостиницу закрытого типа: член клуба может провести в нем по своему усмотрению несколько часов, дней, недель или месяцев. При клубе есть ресторан (кухня и винный погреб – гордость членов клуба), читальный зал, библиотека, рабочие кабинеты, наконец, жилые номера со всеми удобствами. Член клуба испокон веков был вправе приглашать сюда гостей мужского пола. Женщинам доступ всегда был строго воспрещен; даже обслуживающий персонал состоял из одних мужчин.

Но что это? Не успел седовласый швейцар передать моему спутнику накопившуюся корреспонденцию и почтительно доложить, что в читальном зале его дожидаются друзья, как наши мокрые плащи приняла миловидная гардеробщица; а когда мы зашли в ресторан, обнаружилось, что он обслуживается одними официантками. По пути в холле я успел прочесть объявление: «По пятницам членам клуба разрешается приглашать дам».
Поймав мой удивленный взгляд, спутник – англичанин не старых лет, но старых правил – сокрушенно говорит:
– Да, Англия идет ко всем чертям!
После ужина мы направляемся в бар – за стойкой тоже стоит женщина! – и тут у камина, где тлеют толстые поленья, завязывается неторопливый разговор. В числе собеседников – пожилой литературный критик (его перу принадлежат и два-три романа), актер с громким именем, молодой журналист лейбористских убеждений, работающий в консервативной газете и потому излагающий в своих статьях точку зрения консерваторов, и еще человека два-три. Изредка кто-нибудь поднимается и молча уходит, но на его место, заслышав спор, тут же подсаживается кто-нибудь другой: английский интеллигент в наши дни стал таким же завзятым спорщиком, как интеллигент русский.
Не без умысла завожу я разговор о переменах в клубной жизни Пэл-Мэла. Женский обслуживающий персонал! Дамы в стенах клуба по пятницам! Вот уж никогда не подумал бы!
– И не говорите! – вздыхает мой хозяин. – Если бы все это видел тот старый джентльмен, – он кивает на портрет одного из основателей клуба, строго взирающий на нас со стены, – он бы пришел в ужас. Но разве это единственное новшество в Англии? Все кругом переменилось. И продолжает меняться.
– Возьмите наш престиж, – желчно замечает критик. – Никогда еще он не котировался так низко. Из державы номер один, какой мы были в начале столетия, мы превратились в державу номер три. Впрочем, и это место оспаривается у нас сейчас Францией…
—...И Западной Германией, – вставляет актер. – О, эта Лорелея на Рейне! Так сладко пела после войны, так плакалась, мы давали ей подачку за подачкой. А теперь она стала богаче нас, да и армия у нее сильнее нашей.
– Что касается сухопутных сил, – замечает молодой журналист, – Англия никогда не делала на них ставку. Но вот военно-морской флот… Знаете, меня очень удивило заявление американского адмирала Джорджа Андерсона. Он сказал на заседании комитета начальников штабов США, что наш военно-морской флот безусловно на третьем месте – после американского и советского. «Безусловно» – так он выразился.
– Ну уж этого не может быть! – восклицает только что подсевший к нашему столику румяный здоровяк. – Чтобы мы уступили военно-морское превосходство русским!
– А почему, собственно, не может быть? Уступили же мы им превосходство в космосе, – кстати, не только мы, но и американцы тоже!
– Космос – совсем другое дело. Это новая область. Превосходство на море принадлежало нам по традиции.
– Традиции! – произносит актер с трагической ноткой в голосе. – Нет больше традиций!
– Некоторые традиции вряд ли стоит оплакивать, – осторожно вставляет журналист. – Может быть, даже к лучшему, если их не станет.
– Во всем виновата война, – со вздохом говорит мой хозяин.
– Вы какую войну имеете в виду? – спрашивает кто-то.
– Что значит – какую? Последнюю, разумеется.
– Но наши беды начались еще с первой мировой войны. Или даже еще раньше.
– При чем тут война? Возьмите Советский Союз – он, бесспорно, потерпел от войны больший ущерб, чем все другие страны вместе взятые, а поднялся после войны быстрее других и продолжает всех обгонять.
– Во всем виноваты международные факторы…
– Ну, это не объяснение!
– Давайте скажем правду: виновато правительство! Консервативное правительство, которое послушно выполняет все, чего хотят американцы.
– Если на то пошло, ответственность с ним должны разделить ваши бездарные лейбористские лидеры. Не забудьте: это они были у власти в первые послевоенные годы. Это они обременили наши финансы непомерными расходами на всякие там социальные мероприятия – бесплатное лечение, пенсии и так далее!..
Кашлянув, актер декламирует бархатным, хорошо поставленным голосом:
Те, кто трудились для Англии,—
Нашли в ней последний приют,
И певчие птицы Англин
Над могилами их ноют.
Но те, кто сражались за Англию
И отдали жизнь за нее,—
О горе, горе Англии,—
Могилы их далеко.
А те, кто правит Англией
По мере скорбных сил,—
О горе, горе Англии,—
Для них еще ист могил[2]2
Перевод Ю. Таубина.
[Закрыть].
– Чьи это стихи? – спрашиваю я.
– Гилберта Кита Честертона – «Элегия на сельском кладбище». Он умер еще в тридцатых годах, но его стихи звучат вполне злободневно.
– Они как будто написаны специально по поводу дела Профьюмо…
– Что касается дела Профьюмо, оно для нашего общества все-таки не показательно.
– Это как сказать…
И спор разгорается с новой силой.
Собственно говоря, споров о том, куда идет Англия, я слышал немало и прежде, но тогда в них все-таки проскальзывали оптимистические нотки, даже если оптимизм этот и был несколько напускным. Многие пытались убедить себя и других, что «британский век» – так именовали здесь век девятнадцатый – еще вернется, что кризис Британской империи – злостное измышление большевиков. Лорду Керзону (тому самому, который писал сердитые ноты молодому Советскому правительству) принадлежало классическое изречение: «Никогда еще британский флаг не развевался над более мощной и более единой империей. Никогда еще наш голос не звучал более веско в хоре народов при решении будущих судеб человечества».
Сравните это заявление с декларациями британских лидеров в наши дни, – какой контраст! «Мы сталкиваемся с устрашающим вопросом – не стали ли возникающие перед нами проблемы непосильными для нас?» – сказал, уходя в отставку с поста премьер-министра, старый Уинстон Черчилль. «Таймс» пишет в передовой статье: «Нет надежды, что вес Англии в международных делах когда-нибудь снова будет прежним».
Если руководящие политические деятели и журналисты рисуют себе будущее в более или менее мрачных красках, то что остается простым людям! Институт Галлапа, специальность которого – опросы общественного мнения, провел в Англии анкету на тему «Благоприятным или нет видите вы свое будущее?» Только половина опрошенных дала утвердительный ответ. Не-уверенность в завтрашнем дне – отражение кризиса, переживаемого страной.
Кризис этот нельзя рассматривать изолированно, вне времени и пространства, без связи с событиями, происходящими в мире. Трещины испещрили все здание современного капитализма, и было бы странно, если бы они пощадили ту или иную его часть. Но общий кризис капитализма сказался в Англии с особой силой, поскольку в течение ряда веков она была центром крупнейшей в мире колониальной империи.
«У нас нет больше империализма», – то и дело твердят сегодня в Лондоне, ссылаясь на превращение Британской империи в Британское содружество наций.
Содружество наций!.. «В Содружестве наций нет экономического единства, нет равенства жизненного уровня, нет общей политической позиции, нет согласия по внешней политике и стратегии обороны и даже ист равенства между гражданами Содружества в самой Англии», – писала цейлонская газета «Форвард».
Мне приходилось слышать в Лондоне мнение, что при неоколониалистских порядках монополиям пока удается выкачивать из вчерашних колоний не меньше полновесных фунтов стерлингов, чем прежде. Судя по всему, это весьма близко к истине. В общем, английская буржуазия не имеет в данный момент оснований для особых жалоб. Но ее тревожит будущее. Она отлично понимает, что народы, освободившиеся от колониальной зависимости, захотят избавиться и от зависимости неоколониалистской. Что станет тогда с британской политикой эксплуатации заморских стран?
Между тем к этой политике веками приспосабливалось в Англии все, и в первую очередь ее экономика. Богатая дань, взимавшаяся без особых хлопот за морем, действовала разлагающе. Туда в первую очередь устремлялись капиталовложения. Там всегда можно было рассчитывать на головокружительные сверхприбыли: ведь за труд коренного населения там платили сущие гроши. Приток свежих средств в промышленность и сельское хозяйство самой метрополии был недостаточным.
Я видел своими глазами ткацкие фабрики в Ланкашире, угольные шахты в Южном Уэльсе, металлообрабатывающие заводы в «Черном крае» вокруг Бирмингема, оборудование которых не обновлялось с прошлого столетия. Могу засвидетельствовать: в Советском Союзе таких устаревших предприятий не найдешь. Даже высокое профессиональное мастерство английских рабочих не может компенсировать изношенности станков и машин.
Так называемые «традиционные», старые отрасли промышленности отстали от времени. Это, конечно, не относится к предприятиям новых отраслей – химическим, автомобильным, авиационным и другим, которые отвечают всем требованиям современной науки и техники.
Англию стали теснить зарубежные конкуренты.
В давно минувшую эпоху, когда она слыла «мастерской мира», не требовалось особых усилий, чтобы продвигать ее товары на зарубежные рынки. Фабричная марка «Мейд ин Инглэнд» – «Сделано в Англии» – говорила сама за себя. Словно магическое заклинание, открывала она ланкаширским тканям и шеффилдским стальным изделиям ворота на любые рынки мира. Но уже после первой мировой войны английским промышленникам пришлось выдвинуть лозунг: «Бай бритиш!» – «Покупай британское!» В тридцатых годах весь Лондон был заклеен плакатами с этим лозунгом. Даже на Ближнем Востоке и в Латинской Америке я видел на рекламах британского льва с какой-нибудь перчаткой или шарфом в оскаленной пасти и непременной надписью: «Покупай британское!» В этом призыве, обращенном и к отечественному и, главным образом, к зарубежному потребителю, уже звучала нотка тревоги. После второй мировой войны парламентские отчеты и пресса Флит-стрита запестрели новым паролем: «Экспорт драйв» – «Экспортное наступление».
Три девиза – три эпохи.
Промышленники и коммерсанты строят в боевые порядки ящики и тюки. Об «экспортном наступлении» говорят на деловых заседаниях в Сити, с трибуны партийных конференций, на парадных банкетах. Но разговоры не помогают. Доля Англии в мировом промышленном экспорте сокращается из года в год. Английским экспортерам наступают на пятки американские, западногерманские, японские.
По темпам роста промышленного производства Англия стоит на последнем месте среди других промышленно развитых западноевропейских стран. Английская сталелитейная промышленность загружена меньше чем на три четверти своей мощности. Снова, как в тридцатых годах, над Англией маячит призрак хронической, долгосрочной безработицы. В некоторых промышленных центрах страны она превратилась уже сейчас в серьезную проблему.
Английская промышленность работает преимущественно на импортном сырье. Импорт Англии всегда превышал ее экспорт. Поэтому платежный баланс – предмет постоянных забот английского правительства. Пассивное сальдо торгового баланса покрывалось доходами от зарубежных капиталовложений, морских перевозок, финансовых посреднических операций. Теперь для покрытия дефицита сплошь и рядом недостает этих поступлений.
Положение с платежным балансом серьезно ухудшается большими военными расходами, в частности расходами за границей на содержание «Рейнской армии» и другие обязательства, налагаемые военным блоком НАТО. Огромные суммы поглотило создание собственного ядерного оружия. Недешево обходятся военные базы и опорные пункты в бывших и еще сохранившихся колониях, колониальные военные операции в Юго-Восточной Азии, на Арабском Востоке.
В поисках выхода английское правительство создает советы, комиссии, подкомиссии. Они заседают, пишут доклады, сочиняют проекты. И, как правило, стараются разрешить трудности за счет рабочего класса. В той или иной форме неизменно делается вывод: «Производить побольше, потреблять поменьше».
Правительственные эксперты изучают одну отрасль хозяйства за другой, составляя планы, которые, по существу, сводятся все к тому же. Типичным можно считать «план Бичинга», названный так по имени бывшего председателя Британской транспортной комиссии; он выработал план «экономии и модернизации», предложив закрыть почти половину железнодорожных станций, большинство паровозных депо, 5 тысяч миль полотна и уволить 70 тысяч рабочих. Английские железные дороги, национализированные лейбористским правительством в сороковых годах, действительно терпят крупные убытки; они обветшали и отстали от уровня современной техники. В то же время они ежегодно выплачивают бывшим владельцам огромные «компенсации», – в этом корень зла.
Вообще говоря, проведенная лейбористскими правительствами национализация вполне устраивает капиталистов. Лейбористские министры рекламировали ее как величайшее социальное преобразование, будто бы знаменующее мирный переход Англии от капитализма к социализму. На самом деле национализация коснулась тех отраслей экономики – прежде всего железных дорог, угольной промышленности, электроэнергетики, газовой промышленности, – которые, находясь в особенно запущенном состоянии, очутились на грани банкротства. Для их спасения требовались колоссальные капиталовложения. Государство пришло на помощь владельцам – взяло на себя заботу о судьбе их предприятий и обязалось выплатить им компенсации, которые значительно превышали действительную стоимость национализированного имущества.
Вдобавок во главе государственных управлений, ведающих национализированными предприятиями, поставлены все те же капиталисты и связанные с ними виднейшие чиновники старой министерской бюрократии. Национализация обеспечила пожизненной рентой большую группу обанкротившихся богачей, но не изменила сущности капиталистической экономики Англии и не приблизила ее к решению назревших проблем.
Всеми делами в стране заправляют промышленные гиганты, «большая пятерка» банков, крупные страховые общества. Монополии имеют многочисленных представителей в парламенте и в правительственном аппарате. Правда, принимая министерский портфель, хозяин какой-нибудь фирмы формально складывает с себя директорские полномочия, но остается ее хозяином и, по выходе из правительства, снова берет бразды правления. Так поступил, например, Гарольд Макмиллан, когда, оставив пост премьер-министра, сразу же принялся руководить своей издательской фирмой «Макмиллан энд компани».
«...Кто же, в сущности, правит Англией? – спрашивал еще Энгельс и отвечал: – Правит собственность». Так оно продолжается и по сей день.
В Лондоне вышла недавно книга социолога У. Гутсмена «Британская политическая элита». Автор перечисляет в ней имена крупнейших тузов британского финансового капитала, таких, как сэр Гарри Пилкингтон, директор Английского банка, президент Федерации британских промышленников и председатель нескольких правительственных комиссий, или сэр Эйван Стедфорд, известный промышленник, директор Британской радиовещательной корпорации и член Комиссии по атомной энергии. «Все это люди, обладающие исключительным влиянием, – пишет Гутсмен, – иногда их называют святыми патронами Существующего порядка».
Гутсмен приводит в своей книге любопытное заявление: «У нас нет сегодня демократического строя, – гласит оно. – У нас никогда его не было. Все, что мы сделали в порядке реформ и эволюции, свелось к расширению фундамента олигархии». Кому бы, вы думали, принадлежат эти слова? Джону Голлану, генеральному секретарю коммунистической партии? Нет. Антони Идену! Правда, он сказал их еще тогда, когда был молодым парламентарием и мог позволить себе говорить то, что на уме. «У нас нет сегодня демократического строя…» Прошли десятилетия, а положение не изменилось.
Глубокий кризис, который переживает Англия, мало отразился на положении ее привилегированной верхушки. Прибыли – особенно при выполнении военных заказов – огромны; компания «Ферранти» получила по такому заказу совсем уж умопомрачительную прибыль в 82 процента (!) – почти 6 миллионов фунтов; правда, тут возник скандал в парламенте. По-прежнему сверкают и манят глаз обывателя витрины лондонских магазинов, на аллее Роттен-роу в Гайд-парке галопируют на кровных конях молодые леди и джентльмены, толпа зевак собирается у театрального подъезда в день премьеры – поглазеть на вечерние туалеты и драгоценности, газеты сообщают о причудах богатых коллекционеров, собирающих старинные реликвии или украшения из слоновой кости.
Кричащая роскошь бьет в глаза. «Таймс», систематически печатающая отчеты о великосветских аукционах, на которых продаются предметы роскоши, считает нужным отметить: «Цены без преувеличения могут быть названы беспрецедентными». Некий С. Дж. Филлипс платит за туалетный набор 12 тысяч фунтов стерлингов – больше 30 тысяч рублей. На ежегодной выставке драгоценностей присуждается первый приз брошке, изготовленной по рисунку Р. Кинга; она изображает взрывы атомных бомб: атомные «грибы» из бриллиантов поднимаются над красной рубиновой землей.
В лондонской прессе появились даже сравнения с последними днями императорского Рима, когда роскошь и разложение патрицианской верхушки достигли своего апогея. На этом фоне разразилось «дело Профьюмо», военного министра, барона и члена Королевского совета, принадлежащего к сливкам лондонского аристократического общества.
То, что это дело, достойное пера Теккерея или Бальзака, получило широкую огласку, объясняется чистой случайностью. Когда безвестный иммигрант из Вест-Индии разрядил свой пистолет в запертую дверь профессиональной проститутки Кристины Килер, ни он сам, ни кто-либо другой не думал, что тут начнет распутываться клубок, который приведет к национальному скандалу. Стрелявшего посадили под замок на семь лет, Кристину Килер оштрафовали за неявку свидетельницей в суд на 40 фунтов стерлингов, и дело сочли исчерпанным.
Однако репортеры успели обнаружить, что Килер связана с костоправом и любителем-портретистом Стивеном Уордом, фигурой, весьма известной в высшем свете; одним из многочисленных посетителей Уорда был военный министр Джон Профьюмо. Выяснилось, что он встречался с Кристиной Килер. Службе безопасности, наблюдающей за частной жизнью членов правительства, это давно уже было известно, она даже предупреждала Профьюмо, но тщетно. Когда начались разоблачения, он заявил своим коллегам в правительстве, что его встречи с Килер были чисто платоническими, а выступая в парламенте, угрожал привлечь к ответственности за клевету всякого, кто станет утверждать иное. Правительство поддержало своего военного министра.
Полицейские власти «прижали» Уорда, решив, по-видимому, сделать его козлом отпущения. Полагаясь на свои связи и не рассчитав сил, тот предал гласности письмо Профьюмо к К. Килер, не оставлявшее ни малейшего сомнения в характере их отношений. Разразился скандал. Военному министру пришлось уйти в отставку, правительство Макмиллана зашаталось. Политические оппоненты не дремали. Выступая в палате общин по поводу правительственного доклада о деле Профьюмо, лидер лейбористов Гарольд Вильсон говорил: «Это тошнотворный документ. Он как бы приподнимает завесу над лондонским дном – миром порока, наркотиков, шантажа и контршантажа, насилия и преступности, – и связывает это все с мистером Профьюмо… Если бы этот документ был опубликован как дешевая книжонка в Америке, достопочтенные члены палаты выбросили бы ее не только из-за самого содержания, но и потому, что сочли бы ее чересчур надуманной и неправдоподобной».
Власти отомстили Уорду за причиненные неприятности так, как они умеют мстить в Англии. Он был предан суду по обвинению в сутенерстве. На суде вскрылись подробности, заставившие публику ахнуть. Любителю-портретисту Уорду позировали, в числе прочих, члены королевского дома. Среди высокопоставленных покровителей портретиста-костоправа оказались такие светские львы, как лорд Астор, владелец и директор респектабельнейшей газеты «Обсервер». Показания Кристины Килер, Мерилин Райс-Дэвис и других проституток, связанных с Уордом, печатались в газетах Флит-стрита целыми страницами; на головы англичан вылились ушаты помоев. Уорд грозил дальнейшими разоблачениями, но накануне вынесения судебного приговора был найден в своей камере отравившимся. Обстоятельства его смерти остаются загадочными.
Что касается Кристины Килер, Флит-стрит вознес ее на вершину славы и озолотил. За свою так называемую «Исповедь» она получила от газеты «Ньюс уорлд» 23 тысячи фунтов стерлингов (около 58 тысяч рублей). Кинофирма «Топаз-филмз» объявила о своем намерении снять «Историю Кристины Килер», пригласив ее на роль главной исполнительницы. Один из директоров «Топаз-филмз» сообщил прессе, что пробные снимки «прошли блестяще». Только когда вся эта шумиха стала приобретать совсем уж непристойный характер, Кристину упрятали на короткое время за решетку.
Блюстители нравов пытались свести эту историю к частному случаю. Но значение «дела Профьюмо» выходит за эти рамки. Разразившийся скандал бросил свет на устои, мораль и нормы поведения классового общества.
Вот уже несколько лет, как в английской разговорной речи получило новое значение словечко «эстаблишмент». Прежде под ним подразумевалось всякого рода учреждение, заведение. Теперь его все больше употребляют в смысле – «существующий порядок», «устои общества».
Что подразумевают под этим?.. Прежде всего – правящую верхушку и ее привилегии, закулисное влияние богачей и аристократов вроде всемогущего маркиза Солсбери, чье слово норой бывает решающим при назначении премьер-министра страны, или лорда Чандоса, который заседает в правлениях крупнейших монополий Сити. «Эстаблишмент» – это сила традиций и всевозможных «правил игры», – например, неписаный закон о том, что аристократический колледж открывает дорогу к блестящей карьере. Это – запутанное законодательство: оно основано на накопившихся за тысячелетие прецедентах и обросло всевозможными архаизмами – париками, мантиями, мрачными залами лондонского Томила. Это Флит-стрит и весь аппарат воздействия на умы англичан. Это, наконец, церковная иерархия.
Краеугольный камень «существующего порядка» – монархия. Беспутный прожигатель жизни и игрок Фарук, экс-король Египта, как-то раз сострил, что скоро в мире останется только пять королей: короли червей, бубен, пик, треф и король Англии.
Пресса Флит-стрита любит повторять, что в Англии королева не правит, а только выполняет «общественные функции», то есть представительствует. Это верно в том смысле, что английские монархи давно уже не вмешиваются в текущие государственные дела. Но мишурный блеск королевского двора, расшитых золотом камзолов королевской челяди слепит глаза обывателю и поддерживает незыблемость «существующего порядка».
Именно неписаные законы, управляющие Англией, позволили в свое время лорду Бальфуру заявить, что, какая бы партия ни находилась у правительственного руля, власть всегда принадлежит консерваторам. А видный лейбористский деятель, бывший член правительства жаловался мне, что чувствовал себя в своем министерстве аутсайдером, посторонним, и что практически все важные вопросы решались за его спиной кликой консервативных чиновников. «Говоря между нами, – сказал он, расхрабрившись (разговор происходил за бутылкой французского вина), – вы, русские большевики, управились с этой консервативной камарильей куда лучше нашего».
Консервативная партия – прямое политическое орудие монополий, орудие финансистов, крупных промышленников, землевладельцев. Подавляющее большинство парламентариев-консерваторов имеют или имели до избрания связи с крупными фирмами, занимают директорские и другие важные посты в банках, промышленности, торговле.
Члены любого консервативного правительства – кучка «сильных мира сего», тесно связанных между собой деловыми интересами, личными знакомствами, родственными связями. Бывший премьер-министр Макмиллан, владелец крупной издательской фирмы, унаследовал огромное состояние отца, учился в Итонском колледже и в Оксфордском университете, служил в гвардии, наконец, женился на дочери герцога Девонширского, породнившись с влиятельнейшим аристократическим семейством. В 1958 году консервативный журнал «Джон Буль» – отнюдь не желая причинить ущерб репутации Макмиллана, а просто констатируя факт – подсчитал, что из восьмидесяти пяти членов правительства не менее тридцати пяти находилось в родственных отношениях с премьером, а из девятнадцати министров – членов кабинета – в родственных отношениях с ним состояло семь. После перетасовки Макмилланом кабинета число министров возросло до двадцати одного, из них родственниками премьера оказались девять.
Бывший премьер-министр Дуглас-Хьюм был – до того, как он сложил с себя аристократический титул, чтобы баллотироваться в палату общин, – четырнадцатым графом из рода Хьюмов и обладал к тому же тремя наследственными титулами баронов. Дуглас-Хьюм – один из богатейших землевладельцев Англии: его поместья, превращенные в акционерное общество, расположены в пяти графствах, его капитал превышает миллион фунтов стерлингов, в его родовом замке, увешанном портретами сановных предков, – свыше 70 комнат. Как и Макмиллан, он учился в Итонском колледже, а затем – в Оксфордском университете. В статье по поводу выдвижения его кандидатуры в премьер-министры консервативная «Дейли экспресс» воскликнула: «Аристократия умерла, да здравствует аристократия!»
Но в местные отделения консервативной партии, в ее ассоциации и клубы входят и трудящиеся. Многие из них состоят в рядах консерваторов и голосуют за них в силу семейных или местных традиций; отойти от этих традиций – нелегкое дело. Лидеры «тори» – так издавна именуют в Англии консерваторов – в совершенстве владеют искусством демагогии; они умеют изображать из себя людей передовых взглядов, обещают вести Англию «вперед и вперед». («Мы идем вперед, и притом быстро», – заявил Дуглас-Хьюм в речи перед избирателями.)
В главном штабе консервативной партии начальник отдела печати Джеральд О’Брайен уверял меня: на будущих всеобщих парламентских выборах тори, несмотря ни на что, рассчитывают одержать победу. Однако в тот же самый день в Англии состоялись муниципальные выборы, на которых консерваторы потерпели поражение. Вопреки предсказаниям О’Брайена, они потерпели поражение и на парламентских выборах.
Те, кто правит Англией, по существу, ничего не имеют и против лейбористского руководства, которое, по выражению «Таймс», отличается «доктринерским консерватизмом».
Чтобы не быть голословным, сошлюсь на книгу лейбористского публициста Фрэнсиса Уильямса «Тройной вызов. Будущее социалистической Британии». Опубликованный полтора десятилетия назад, этот труд не потерял интереса и сегодня. Ф. Уильямс разъясняет читателю, что лейбористская партия стоит на весьма правых позициях. «Британский социализм» вырос, по свидетельству Уильямса, «главным образом из этических, гуманитарных, религиозных, профсоюзных и радикально-либеральных корней». В партии с самого ее основания «влияние марксизма было слабым». Больше того, «если бы когда-либо пришлось сделать выбор между социализмом и демократией» (сама такая постановка вопроса показывает, что имеется в виду буржуазная демократия), «большинство британских социалистов безусловно и без колебании встало бы на сторону демократии». Что касается руководства партии, то «политические лидеры почти всецело происходит и;? средних классов». Характеризуя лейбористскую политику, Ф. Уильямс отмечает, что она отличается «отсутствием строгой логики» и «ловкостью в достижении компромиссов».
Что же вообще заставляет лейбористских лидеров называть себя социалистами и говорить о «социалистических целях»? Уильямс признает, что их толкает на это тяга трудящихся к социализму.
Костяк лейбористской партии состоит из рабочих, и это накладывает отпечаток на всю ее деятельность. Около 6 миллионов членов входят в лейбористскую партию через профсоюзы, – они в Англии сильны и играют большую роль в экономической и политической жизни страны. 700–800 тысяч человек примыкают к партии индивидуальным порядком, через ее местные организации.
В лейбористской партии идет незатухающая борьба между ее правым и левым крылом. Профсоюзы были в прошлом опорой правого крыла; когда-то они находились всецело в руках таких завзятых антикоммунистов и сторонников социального компромисса, как Ситрин, Бевии, Дикин. Но в последние годы профсоюзы заметно полевели, возросла и их политическая активность. На профсоюзных съездах и лейбористских партийных конференциях нередко берут верх предложения, отражающие тягу простых людей к миру и прогрессу. Время работает на левые силы.
Когда-то я недоумевал: каким образом в Англии, где преобладает рабочее население, на выборах может побеждать партия консерваторов, партия крупного капитала? Почему рабочий сплошь и рядом голосует за классового противника, капиталиста?
Посещение предвыборных собраний в Англии многое мне объяснило. Расскажу об одном из таких собраний, на котором я побывал перед парламентскими выборами 1955 года.
Дело было в Далвиче, одном из пригородов Лондона. В здании местной школы выступали трое кандидатов в члены парламента: консерватор Дженкинс, лейборист Вернон и либерал Филлипс. Интерес к собранию был, по английским понятиям, немалый: в небольшой зал набилось свыше четырехсот человек, опоздавшим не хватило стульев, и они терпеливо простояли два с половиной часа на ногах.
Собрание походило на вечер вопросов и ответов: кандидатам, сидевшим рядом с председательствующим на небольшой эстраде, задавали из публики вопросы; на каждый из них все трое отвечали по очереди. Благодаря такой процедуре особенно наглядно проявилось поразительное сходство между избирательными лозунгами соперничающих партий. Стоило закрыть глаза, и вы уже не могли сказать, кто сейчас отвечает на вопрос: консерватор, лейборист или либерал.
Одним из первых задали вопрос о путях обеспечения мира. Каждый из трех кандидатов ответил, что его партия ставит интересы мира превыше всего. Консерватор Дженкинс уверял: его партия больше других озабочена тем, чтобы на переговорах четырех держав была достигнута полнейшая договоренность. Призывая собравшихся голосовать за тори, он в пылу красноречия воскликнул: «От этого зависит мир во всем мире!» Отсюда можно было вынести заключение: стоит избирателям проголосовать за лейбориста или либерала, как всеобщий мир пошатнется. Но два других парламентских кандидата клялись в своей приверженности к миру почти в тех же самых выражениях. Речь Вернона отличалась лишь тем, что он утверждал, будто лейбористские лидеры скорее найдут на переговорах общий язык с советскими руководителями, так как нм «русские доверяют больше, чем другим».