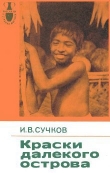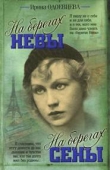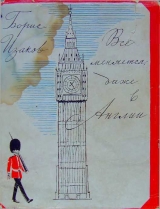
Текст книги "Всё меняется даже в Англии"
Автор книги: Борис Изаков
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Те, кто победнее, заменяют скачки собачьими бегами – это зрелище чисто английское, какого не увидишь больше нигде. В рабочих кварталах английских городов витрины табачных лавок пестрят большими афишами – программами собачьих бегов. Возле них собираются болельщики, взволнованно обсуждая, на какого пса поставить свои пенсы и шиллинги. Надежда на выигрыш манит и дразнит. С каким трепетом люди набрасываются на специальные выпуски вечерних газет, чтобы узнать результаты этих ни на что не похожих бегов – «собачьи результаты», как называет их печать.
Самые завзятые игроки отправляются к месту действия. Под вечер толпы людей обступают газон ипподрома; кто может израсходовать несколько липших пенсов, покупает билет на трибуну. Букмекеры, принимающие ставки, стоят на невысоких подмостках и вопят во все горло, потрясая афишками с расписаниями бегов: они свое дело знают и без передышки запихивают медяки, серебро и ассигнации в большие кожаные сумки, висящие у них на животе. Как тут устоять азартному человеку? Порой в эти вместительные сумки перекочевывает вся получка.
Но вот псари в спецовках выводят собак, совершая традиционный обход ипподрома. На привязи борзые всех мастей: серые, черные, рыжие, реже – белые; белый цвет почему-то считается тут несчастливым, и болельщики не так охотно ставят на белых псов. Собака, не кормленная со вчерашнего дня – чтобы злее была, – нервно поводит узкой мордой, подрагивает всем своим мускулистым телом, покрытым цветной попонкой. Зрители возбужденно показывают друг другу знаменитостей собачьего мира: «Рыжий дьявол!»… «Адмирал!»… «А вот Дездемона! Ставьте на Дездемону, не прогадаете!» Собак – в каждом забеге их участвует пять или шесть – загоняют на линии старта в клетку с изолированным отделением для каждой. Из клетки слышится тревожный лай, протяжное завывание, нетерпеливое повизгивание.
Наконец делает пробный круг по железному рельсу механический заяц, движимый электричеством. Публика замирает. Заяц набирает скорость. Вот он промелькнул на белой черте старта. Передняя стенка клетки взвилась вверх. Как пущенная из лука стрела, бросается вдогонку борзая. Глаз видит несущуюся свору, но не может уследить за отдельными перипетиями стремительного бега. Публика беснуется. Двадцать… тридцать секунд, – не успеешь и опомниться, как все уже кончилось. На большой доске появляется кличка победителя, букмекеры выплачивают выигрыши, сохраняя в кожаных сумках куда более значительные проигрыши. Но букмекеры – только пешки. По-настоящему наживаются анонимные дельцы, остающиеся за сценой.
Англичане – люди хладнокровные, но лишь до тех пор, пока не собрались в толпу. В толпе зрителей на каком-нибудь спортивном состязании не узнаешь англичан. «Покажи им, Дик!», «Задан им жару, Джон!» – вопят и неистовствуют болельщики.
Особенно разгораются страсти вокруг решающих футбольных матчей и ежегодного состязания в крикет между командами Англии и Австралии. Азарту способствует денежный интерес. Но дело не только в деньгах: традиционные гребные состязания между студенческими командами Оксфорда и Кембриджа вызывают совершенно бескорыстный ажиотаж.
Эти состязания происходят ежегодно в марте или апреле на Темзе в западной части Лондона. Обе восьмерки гребцов стараются вовсю; зрители теснятся не только на набережных, но и в окнах домов, на балконах, даже на крышах; вся Англия припадает к телевизорам. Столица Великобритании разбивается на две партии. А вечером студенты обоих университетов, и победившие и побежденные, устраивают пирушки и бродят веселыми кучками по всему городу. Что бы они ни натворили – водрузят ли шляпу на голову бронзового принца Альберта или устроят кошачий концерт под окном у декана, – все сойдет им с рук в этот вечер.
Свободное время каждого англичанина заполнено каким-нибудь любимым развлечением – «хобби». Конечно, и «хобби» чаще всего зависит от кармана: один коллекционирует, например, старинный фарфор или этрусские вазы, другой – почтовые марки и железнодорожные билеты. Но есть такое «хобби», которое встречаешь во всех слоях общества: это садоводство.
Даже если размеры «сада» не больше носового платка, любитель-садовод ухитряется копаться в нем целыми часами, а по воскресеньям – с утра до вечера. Зеленый ковер дерна подстригают ежедневно, – от этого он становится ровнее и гуще. Остальное время уделяется цветочным клумбам, иногда – грядкам с зеленью, а то и оранжерее. Через забор кидают ревнивые взгляды на сад соседа: получить приз на районной выставке садоводства мечтает каждый. Есть у англичан прелестное выражение: «зеленые пальцы»; его применяют к самым способным садоводам.
Общим обожанием пользуются домашние животные и птицы. В английском доме можно встретить порой самое неожиданное существо – змею или летучую мышь, хомяка или тигренка, сову или аллигатора, – словом, все, что бегает, прыгает, плавает, летает, ползает под солнцем. Все это приручают ценой неимоверных усилий, кормят, поят и холят. Но предпочтение оказывают кошкам и собакам. В стране имеется 12 миллионов кошек; родословные породистых кошек хранят как зеницу ока, но простого безродного кота лелеют ничуть не меньше, чем его аристократического собрата.
Нередко английская семья идет на всевозможные жертвы ради кошки или собаки: во время войны им порой перепадала львиная доля семейного мясного пайка. В газетах печатают объявления о смерти собаки или кошки, составленные точно в таких же выражениях, как если бы умер человек. Пресса вообще уделяет животным много внимания: какие бы события ни происходили в мире, сообщение о том, что мистер Уайт подобрал в лесу ворону с подбитым крылом или что миссис Блэк удалось приручить паука, обойдет всю печать и появится под крупными заголовками.
В Англии действует множество обществ по защите животных. Есть Лига защиты кошек. Есть Ассоциация защиты лошадей и пони, созданная еще в прошлом столетии, ее президентом является герцог Бофор; она ставит себе задачей бороться против жестокого обращения с лошадьми, заботиться в зимнее время о диких лошадях, наконец, добиваться улучшения условий на живодернях…
Нигде в мире не встретишь столько снобов, как в Англии. К высшему свету, особенно к королевскому дому, они испытывают влеченье, род недуга. Интерес к частной жизни великих мира сего носит прямо-таки патологический характер; особенно силен он у женской части населения. Информационное бюро Букингемского дворца рассылает редакциям газет подробнейшую хронику времяпрепровождения королевской семьи, газеты ее печатают. «Болезнь помешала принцессе Маргарет присутствовать на открытии выставки цветов; ее недомогание не носит серьезного характера», – с интересом прочитает жена бакалейщика; дойдя до слов «не носит серьезного характера», она, может быть, даже вздохнет с облегчением. У театров кинохроники, где демонстрируют кадры из придворной жизни, выстраиваются очереди. Когда объявляется заранее маршрут королевского кортежа, тысячи людей способны простаивать часами под проливным дождем в надежде хоть издали увидеть королеву.
Обыватель гордится знакомством с герцогиней Икс или лордом Игрек. Он не преминет ввернуть в разговоре к месту и не к месту: «Когда я обедал у герцогини Икс…», «Как мне сказал лорд Игрек…» У специалистов по генеалогии, проверяющих (и сочиняющих) родословные, неплохие заработки. Иной секретарь профсоюза радуется как ребенок, получив дворянский титул. «Англичане слишком ненавидят свободу и равенство, чтобы их понимать, – писал Бернард Шоу. – Зато каждый англичанин поклоняется патенту на дворянское звание и жаждет его получить». В этой шутке есть доля правды.
Английская аристократия, как и палата лордов, – прямой пережиток средневековья. В Англии имеются герцоги, маркизы, графы, виконты, бароны, баронеты и просто «рыцари» (личное дворянство с титулом «сэр»). Еще не очень давно родовое дворянство считало ниже своего достоинства заниматься делами меркантильными; младший сын обедневшего аристократического семейства мог пойти в армию или во флот, стать судьей или священником, но дорога в коммерцию, в бизнес была для него закрыта. Теперь отношение к бизнесу изменилось коренным образом. Древний фамильный герб нисколько не мешает его обладателю заниматься изготовлением пылесосов или подтяжек, больше того – торговать билетами на осмотр родового замка. В банковских, торговых, промышленных фирмах считается хорошим тоном заполучить в совет директоров какого-нибудь сиятельного лорда: это придает фирме некий блеск. Лорд Чандос или лорд Монктон, бывшие министры, стали могущественнейшими людьми среди дельцов лондонского Сити.
С другой стороны, богатые дельцы не прочь обзавестись дворянским титулом (сделать это не так трудно: достаточно внести солидный куш в избирательный фонд консервативной, а может быть, и лейбористской партии). В результате сословные противоречия бледнеют перед классовыми. Возникла уния между родовым дворянством с его земельными угодьями и крупной буржуазией с ее капиталами. Вместе они составляют около одного процента самодеятельного населения страны, а владеют больше чем половиной ее национального богатства.
Ниже по социальной лестнице стоит прослойка, которую в просторечии называют «высшие классы». Это – землевладельцы без титула, офицерство, священнослужители, адвокатура, врачи, наиболее преуспевающая часть других лиц свободных профессий.
Еще пониже следует многочисленная мелкая буржуазий, которая в английской литературе и в разговорной речи обозначается понятием «средние классы». Тут имеется ряд тонких градаций. К так называемым «высшим средним классам» причисляют лиц, имеющих солидный заработок и образование; сюда относится техническая интеллигенция – управляющие мелкими предприятиями, инженеры. Их положение в обществе прочнее, чем положение «низших средних классов», к которым принадлежат лавочники, владельцы каких-нибудь мастерских, наконец, «работники в белых воротничках» – конторщики, счетоводы, бухгалтеры, почтово-телеграфные и муниципальные служащие.
Социальные перегородки в Англии высоки и крепки – куда выше и крепче, чем в других европейских странах. Часто слышишь ходячее выражение – «Надо же знать границу», что означает: нельзя себе позволить общаться с людьми, которые стоят ниже тебя по социальной лестнице. Так скажет дама, обладающая фамильным гербом, своей дочери, которой вздумалось позвать в гости дочь управляющего местной фабрикой. Так скажет и управляющий фабрикой своему сыну, решившему приударить за хорошенькой хозяйкой бакалейной лавки.
Особо следует остановиться на очень английском понятии «джентльмен».
Джентльмен – сложный продукт английского классового общества. Он отличается от простых смертных прежде всего тем, что окончил одно из привилегированных закрытых учебных заведений – скорее всего Итон, Харроу или Винчестер, где ему преподали сложную науку: как разговаривать, одеваться, вести себя в обществе. Такие закрытые учебные заведения называются «общественными школами» («паблик скулз»), хотя меньше всего их можно считать общественными в подлинном смысле этого слова. Настоящие общественные школы в Англии – бесплатные государственные школы, где, кстати сказать, преподавание сплошь и рядом поставлено лучше, чем в закрытых учебных заведениях, программы которых перегружены изучением древних языков – латинского и греческого. Привилегированные закрытые учебные заведения основаны в стародавние времена: Итон – в 1400 году, Харроу – в 1571-м, Винчестер – в 1382 году. Древние серые каменные здания этих школ, в которых размещены учебные классы и дортуары, напоминают по внешнему виду монастырь; сходство увеличивается еще и тем, что в центре школьных зданий высится непременная часовня, которую школьникам приходится посещать ежедневно.
Плата за учение в закрытых школах высока, она по карману только очень состоятельным семьям: таким образом проводится черта, ограничивающая круг учащихся; это классовая черта. Несмотря на высокую плату, наплыв в закрытые школы так велик, что детей заносят в школьные списки чуть ли не со дня рождения. Так поступает не только аристократия и крупная буржуазия; достаточно любой чете из «средних классов» пробиться на более высокую ступеньку, как она уже мечтает о накрытой школе для своего отпрыска. Какому любящему отцу, какой матери не хочется, чтобы сын с самого начала жизненного пути попал в узкий круг привилегированных?
Окончив закрытую школу, а потом Оксфорд или Кембридж, молодой человек усваивает определенное произношение («стандартное английское»), которым пользуется и диктор на радио, и священник в церкви. У него безукоризненные манеры, он не станет, например, за едой помогать себе ножом в борьбе с зеленым горошком. Он досконально знает, как надо одеваться, и ни за что не покажется на людях в новом костюме или в новой шляпе, – чего доброго, назовут выскочкой (бывший премьер-министр Макмиллан позировал фотокорреспондентам в заплатанных брюках). Кругозор молодого джентльмена узок, он представления не имеет о том, что творится в мире, но он доволен собой и будущее его обеспечено. Он приобрел определенный круг нужных знакомств, сидел на одной парте с наследником владельца пушечного концерна, играл в футбольной команде вместе с юным лордом. Перед счастливчиком открыты все дороги.
«Настоящий джентльмен» чует «настоящего джентльмена» издалека, неким шестым чувством. На всякий случай питомец «закрытой школы» уносит с собой в жизнь отличительный признак: школьный галстук особой расцветки – черный с синими полосками для выпускников Итона, синий с белыми полосками для выпускников Харроу, сине-лилово-коричневый для воспитанников Винчестера. Если в каком-нибудь правительственном учреждении открылась вакансия, питомцу закрытой школы она обеспечена в первую очередь, а в правлении банка или солидного концерна ему могут найти вакансию, даже если ее нет. Бывший воспитанник Итона, а ныне убеленный сединами директор крупного департамента будет подолгу расспрашивать желторотого новичка, как обстоят дела в старой школе и все ли еще свирепствует на уроках латыни хромой Бентли по кличке «Тигр». Марка Итона делает свое дело.
Но подавляющее большинство 52-миллионного населения Англии не относится ни к аристократии, ни к «высшим» или «средним классам», не подпадает и под категорию «джентльменов». Не так еще давно этот слой населения называли «низшим сословием»; теперь такого термина избегают: дань веку. Я говорю о людях труда, которые куют благополучие страны и создали своими руками все, что в ней есть лучшего. Свыше девяти десятых ее самодеятельного населения работают по найму, из них больше двух третей – рабочие.
В последние десятилетия рабочие Англии добились многого. Бесплатным стало медицинское обслуживание. Введено обязательное страхование на случай безработицы, болезни, инвалидности, однако страховой фонд создается в значительной части из взносов самих рабочих и служащих. Старики получают пенсию, – правда, цены беспрестанно растут, и для безбедного существования ее недостаточно.
Среди работающих по найму сильно возросло число женщин: по сравнению с довоенным временем оно увеличилось больше чем в четыре раза. Прежде в большинстве профессий работать замужним женщинам считалось зазорным. В конторском мире, например, выход замуж секретарши или машинистки сопровождался, как правило, своеобразным ритуалом: фирма преподносила счастливой новобрачной столовый прибор – ложки, вилки, ножи, после чего тут же автоматически вычеркивала ее из штатных ведомостей. Война, вызвавшая острый недостаток рабочей силы, заставила по-новому взглянуть на женский труд. Впрочем, и сегодня во многих отраслях промышленности женщина зарабатывает почти наполовину меньше, чем мужчина одинаковой квалификации.
У английского рабочего золотые руки. Часто он перенимает профессию от отца, деда и прадеда. Принадлежностью к своей профессии он гордится. В былые времена в рабочей среде был распространен обычай: носить на предплечье татуировку – эмблему профессии. Смолоду рабочий проникается чувством солидарности с теми, кто трудится рядом с ним. Он всегда готов поспешить на помощь товарищу по заводу или соседу, попавшему в беду.
Но он куда сильнее чувствует свою связь с товарищами по профессии, по цеху, чем с рабочим классом в целом. Он готов вступить в борьбу, забастовать, если ущемлены его цеховые интересы, – этому способствует цеховая структура профсоюзов. Труднее ему подняться на борьбу за общеклассовые задачи.
Обирая многочисленные колонии и зависимые страны, английская буржуазия могла подкармливать у себя дома довольно широкую прослойку квалифицированных рабочих, – Маркс и Энгельс называли ее рабочей аристократией. Перепадало кое-что и другим прослойкам. Большинство трудящихся бессознательно участвовало, таким образом, и еще продолжает участвовать в колониальной эксплуатации. Это не могло, конечно, не отразиться на их психологии и образе мыслей. Достаточно сказать, что значительная часть рабочих еще голосует на выборах за консерваторов.
И конечно же английский рабочий не свободен от груза старых традиций. Я это понял тридцать лет назад во время крупной забастовки ткачей в Ланкашире.
Забастовка, охватившая 160 тысяч человек, была объявлена вопреки воле профсоюзного руководства; она затянулась на много месяцев и носила ожесточенный характер. В борьбе с штрейкбрехерами – ланкаширские пролетарии зовут штрейкбрехера «нобстик» («палка с набалдашником») – дело доходило до рукопашной. Кое-кому из «нобстиков» пришлось познакомиться с такой неприятной процедурой, как холодная ванна в речке или канале. Но меня удивляло странное, на мой взгляд, обстоятельство: в фабричных городах Ланкашира, где бастующие ткачи были могучей силой, они ожидали исхода стачки дома, сложа руки, или отправлялись за город… играть в футбол. Я не видел ни массовых собраний бастующих, ни уличных демонстраций, – разве что группа пикетчиков с позором проводит домой штрейкбрехера под звуки импровизированного оркестра (для пущей издевки).
Беседуя в Бернли – цитадели бастующих – с одним из их руководителей, я спросил его, не было ли в городе демонстраций.
– Что вы! – ответил он. – Ходить толпой по улице не принято. Что скажут соседи!
Бастующий пролетарий дрожал перед миссис Грэнди! Сперва такая мысль показалась мне дикой; потом я понял, что это – венец всего английского образа жизни, плод сложной и тонкой психологической обработки, которой народ Англии подвергается на протяжении многих веков.
Лондон

 ы колесим по улицам Лондона. За рулем машины – директор Архитектурной ассоциации Эдвард Картер, автор интересной книги «Будущее Лондона». Эдвард Картер влюблен в свой неповторимый и – при всех его противоречиях – прекрасный город. Он предложил показать мне новый участок жилых домов Рогемптои, построенный муниципальными властями на юго-западе английской столицы.
ы колесим по улицам Лондона. За рулем машины – директор Архитектурной ассоциации Эдвард Картер, автор интересной книги «Будущее Лондона». Эдвард Картер влюблен в свой неповторимый и – при всех его противоречиях – прекрасный город. Он предложил показать мне новый участок жилых домов Рогемптои, построенный муниципальными властями на юго-западе английской столицы.
По пути мы пересекаем центральную часть города. Едем по невероятно узким улицам, подолгу стоим на одном перекрестке, на другом, попадаем в «пробку»… Эдвард Картер мрачнеет.
– Эти улицы были проложены несколько веков назад, когда автомобиля не было и в помине, – говорит он, посасывая трубку. – Представьте себе: они сохранились почти такими же, какими были вначале… Надо, не теряя времени, браться за омоложение нашего старого города. Нельзя больше откладывать. Нашим архитекторам такая задача по силам. Либо мы перестроим Лондон, либо станем свидетелями его загнивания. Таков выбор.
…И вот мы в Рогемптоне. Да, директор Архитектурной ассоциации прав: лондонские архитекторы показали здесь, что они способны на многое. Десятиэтажные многоквартирные дома производят впечатление легкости и изящества. Рядом в зеленой рамке маленьких садиков одноэтажные домики для престарелых. В центре жилого массива – универмаг, лавки, библиотека. Много воздуха, света.
– Сколько тут жителей? – спрашиваю я.
– Девять тысяч.
Я вспоминаю московский Юго-Запад с его массовым жилищным строительством и невольно качаю головой… Да, английским архитекторам по силам сложная задача реконструкции своей столицы. Но по силам ли это социальному строю, который господствует сегодня в Англии?..
* * *
Бернард Шоу, мастер острого слова, говорил: «Трудно представить себе худшего злодея, чем тот, кто построил бы новый Лондон, похожий на нынешний, как и большего благодетеля рода человеческого, чем тот, кто стер бы Лондон с лица земли». И еще: «Все, что требуется Лондону для его оздоровления, – это землетрясение…»
Лондон рос хаотически. Он возник еще тогда, когда к берегам Темзы вплотную подступали болота. На языке древних кельтов «лон-дон» или «лин-дун» означало: крепость на болоте. Историки спорят о том, кто основал здесь первое поселение: коренные жители Британских островов или легионеры Цезаря, покорившие этот край в 55 году нашей эры. Так или иначе римляне оставили свои гарнизоны на Темзе, замостили дороги, построили дома и храмы, окружили их городскими стенами. Римские завоеватели строились прочно, и следы их владычества сохранились по сей день: при закладке фундамента нового здания то и дело находят реликвии той эпохи, и порой во дворе унылого многоэтажного дома вы вдруг набредете на поросший мохом и плющом древнеримский бастион.
Старина обступает вас в Лондоне повсюду. Древний Тауэр – резиденция королей, тюрьма и застенок, – окруженный массивными крепостными стенами и глубоким рвом, кажется, еще таит в своих закоулках тени замученных. Пожелтевшая от времени летопись описывает, как, присутствуя при пытке «еретички» Анны Аскью, лорд-канцлер Райозли распалился: скинув камзол, он встал к дыбе и так рьяно орудовал рычагами, что разорвал ее тело на части. В длинном перечне мучеников Тауэра упоминается и Томас Мор, автор «Золотой книги, столь же полезной, как забавной, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия», оставившей глубокий след в сознании человечества. Вам и сейчас покажут место у «Ворот изменников», где дочь великого гуманиста прорвала кордон стражи, чтобы в последний раз броситься на шею отцу, когда его доставили сюда после вынесения смертного приговора.
Романтика старины как магнит влечет к Тауэру туристов и детвору. В одной из башен выставлены на всеобщее обозрение «драгоценности короны»: бирманские рубины, южноафриканские алмазы, индийский жемчуг, австралийские сапфиры. Одна из королевских тиар украшена огромным бриллиантом Кохинор, – знаменитые драгоценные камни, стоимостью в целое состояние, носят имена собственные, подобно людям. Тауэр приобрел в наши дни вполне идиллический вид: ясным днем, когда его башни залиты солнцем, трудно поверить, что здесь творилась та самая история Англии, которую, по выражению Вольтера, «должен был бы писать палач, ибо он заканчивал все великие дела».
Вас поражает Вестминстерское аббатство, одетое в орнаменты, изящные, как брюссельские кружева, украшенное башенками, острыми шпилями, ложными арками, – величественная каменная симфония, созданная гением и трудолюбием человека. Под высокими сводами покоятся здесь короли и флотоводцы, ученые и дипломаты, купцы и стряпчие, воины и поэты. Недвижимо лежат на саркофагах изваяния Плантагенетов. Мраморный Питт все еще грозит Наполеону. Замерли, зажав в руках свитки с текстом речей, Пальмерстон и Каннинг. Рядом – тяжелая плита: могила Неизвестного солдата, одного из тех, кому пришлось жизнью своей расплатиться за чрезмерно тонкие расчеты и грубые просчеты сильных мира сего.
В «Уголке поэтов» – могилы Чосера и Бена Джонсона, Шеридана и Теннисона, Браунинга и Вордсворта. Шекспир в раздумье облокотился на стопку своих книг; впрочем, его могила не здесь, а в тихом Стратфорде-на-Эйвоне. Джон Гэй, автор прелестной «Оперы нищих», избавившей его от нищеты и принесшей ему богатство, с неукротимым юмором усмехается в лицо самой смерти. «Жизнь – только шутка, все это подтверждает; прежде я об этом догадывался, сейчас я знаю это наверняка», – гласит надпись на камне. В этом своеобразном клубе литераторов отсутствует Байрон: церковники запретили ему доступ, обвинив в атеизме и прочих смертных грехах. Зато сюда затесалась ныне позабытая всеми Афра Бин, литературная дама с весьма пикантной биографией.
Приметы седой старины вы видите в Лондоне повсюду. На стенах старых домов еще красуются опознавательные знаки, заменявшие номера в те дни, когда посыльные и кучера не знали грамоты: изъеденный временем барельеф, голова мавра в тюрбане, грифон с отбитым крылом. В тавернах, приютившихся в подвалах и проходных дворах, кажется, еще пирует дух развеселого гуляки сэра Джона Фальстафа. Нужды нет, что от некоторых таверн остались одни имена – они не выдержали натиска столетий, но все равно гордятся знатными посетителями веков минувших: как утверждают, в «Черте» засиживался Свифт, в «Красном льве» – знаменитый актер Гаррик, в «Старом чеширском сыре» – Теккерей и Диккенс.
Но что за путаница кривых улочек и тупиков, какие лабиринты темных, похожих на тесные ущелья переулков, а главное, что за контрасты!
Лондонский Уэст-энд («Западная сторона») с его дворцами и особняками, парками и памятниками привык поглощать богатства Британии и ее колоний. Миллионы рабов всех цветов кожи гнули спины на чайных плантациях Цейлона, на алмазных россыпях и золотых приисках Африки, в каучуковых рощах Малайи, чтобы плоды их труда воплощались в мрамор и бронзу на берегах Темзы. Этот Лондой, описанный во всех путеводителях, не имеет ничего общего с пролетарским Ист-эндом («Восточная сторона»).
Если вы спуститесь в подземку где-нибудь на Пиккадилли и отправитесь в глубь Ист-энда, вам покажется, что вы попали в другой город. На грязных, замусоренных улицах выделяются лишь ярко освещенные по вечерам дешевые кинотеатры. Рядом с неуклюжими коробками фабрик и заводов выстроились мрачные кирпичные здания – «слэмз», городские трущобы, о которых писали Энгельс и Шоу. Многие из этих домов – если их можно назвать домами – стоят с тех самых пор. Домовладелец по собственной воле не обречет на слом даже самое обветшалое и пришедшее в полную негодность здание; зачем ему беспокоиться? Он получает хороший доход и с трущобы: какая-нибудь сырая и темная берлога отнимает у лондонского рабочего пятую, а то и четвертую часть заработка.
Понятия «Западная сторона» и «Восточная сторона» легко могут ввести в заблуждение. Демаркационная черта между богатством и бедностью проходит в британской столице не только по линии Запад – Восток. Ист-энд не географическое, а скорее социальное понятие. Один из трущобных районов, пользующихся наихудшей репутацией, – Пимлико – берет начало в двух шагах от здания парламента, другой – Паддингтон – расположен между Гайд-парком и Риджентс-парком, убогие улицы Сент-Панкраса протянулись в северной части города, унылые кварталы Баттерси лежат к югу от Темзы. Лондонец никогда не причислит Пимлико или Паддингтон к Уэст-энду.
Случается и так: вы идете по одной из красивейших магистралей Уэст-энда и вдруг, повернув голову, видите в переулке угрюмые, обветшавшие здания, – они словно бросают вызов окружающему благополучию.
Коренной житель Ист-энда своим образом жизни, привычками, даже внешним видом резко отличается от рослого, упитанного богача из Уэст-энда. Да и говорят в Ист-энде на особом диалекте – «кокни», и не каждый питомец Кембриджа сразу поймет лондонского докера.
Особое положение занимают окраины столицы, где обосновалась мелкая буржуазия – рантье, лавочники, служилый люд, а кое-где и рабочая аристократия. Целые улицы застроены совершенно однотипными домами – теми самыми, которые вытянулись вверх.
Но вернемся в центр города. Пройдемся туристским маршрутом мимо дворцов и церквей, возведенных в разные века Иниго Джонсом, братьями Адам, Джоном Нэшем, Джоном Сооном и самым великим из всей плеяды английских архитекторов прошлого – Кристофером Реном. Возьмем с собой карту Лондона: я не знаю занятия увлекательнее, чем ходить по чужому городу, ориентируясь по карте.
Начнем наш путь дорогой парков. Лондон заслуженно гордится великолепными парками, – почти все они расположены в западной части города. Среди них наибольшей известностью пользуется огромный Гайд-парк с его продолжением – тенистым, излюбленным детьми Кенсингтонским парком. Когда-то короли Англии охотились тут на оленей, потом Гайд-парк стал пристанищем разбойников и дуэлянтов, теперь по вечерам сюда стекаются парочки со всего города, и летом густая трава усеяна телами: дань миссис Грэнди, которая запрещает молодым людям встречаться у себя дома до вступления в законный брак; то, чего нельзя делать дома, в четырех стенах, оказывается, допустимо на людях.
Не могу удержаться, чтобы не привести здесь выдержки из парламентского отчета «Таймс», опубликованного 19 июня 1959 года. В палате общин зашла речь о заявлениях приезжего американского проповедника Билли Грэхема, возмущавшегося вольным поведением парочек в Гайд-парке; вопрос этот был поднят консерватором Липтоном, ему отвечал министр внутренних дел Батлер. Произошел следующий диалог:
«М-р Батлер. Надеюсь, что, когда законопроект о правонарушениях на улице станет законом, полиция сможет более эффективно бороться с такими неприятностями. Жалобы на поведение публики в королевских парках подлежат рассмотрению министерства общественных работ.
М-р Липтон. По свидетельству м-ра Билли Грэхема и других, обратившихся ко мне с письмами в подтверждение его заявлений… (Возгласы: «Кто такой Билли Грэхем?» «Что он сказал?») – в королевских парках среди белого дня на глазах у прохожих люди вступают в половые сношения. Если происходят такие вещи, – разве не долг министра внутренних дел принять меры, чтобы стереть это пятно с честного имени Лондона?
М-р Батлер. Я уже сказал, что, как мы надеемся, с принятием нового закона дело подвинется вперед. Впрочем, за последние три месяца по одному лишь Гайд-парку были привлечены к ответственности за приставание, непристойное или оскорбительное поведение 538 лиц.
М-р Шинуэл. Все это, может быть, и так, но разве нам немножко не надоели люди, которые, приезжая в нашу страну, рвутся разоблачать дела такого рода?
М-р Эллис Смит. А также другие, которые поднимают такие вопросы в парламенте? (Смех)…»
В северо-восточном углу Гайд-парка, против триумфальной Мраморной арки, где когда-то возвышалась виселица Тайберн три («Тайбернское дерево»), по вечерам и по воскресным дням происходят состязания в красноречии. Взобравшись на складную трибуну, на стул, а то и на ящик из-под мыла, добровольцы с сильными голосовыми связками ораторствуют кто во что горазд. Преобладают сектанты: один предсказывает светопреставление, другой клеймит безнравственность молодежи, третий, не мудрствуя лукаво, читает выдержки из библии. Говорят здесь и о политике. Лондонцы не придают особенного значения ораторским упражнениям в Гайд-парке. Зато умиляются иностранные туристы: ах, свобода слова! Но пусть любой из ораторов Гайд-парка попробует выступить по радио или опубликовать статью в «большой прессе», – его быстро поставят на место.