
Текст книги "Игра на гранях языка"
Автор книги: Борис Норман
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Сегодня – это завтра вчера
Вынесенная в заголовок фраза кажется сначала странной, искусственной: какая-то абракадабра, случайный набор слов. И только вдумавшись, начинаешь понимать, что перед тобой – афоризм, да еще довольно глубокий и остроумный. Просто все употребленные здесь наречия следует трактовать в качестве существительных, примерно так: «Сегодняшний день – это завтрашний день по отношению к вчерашнему дню». Тогда все становится на свои места.
О возможностях переносного употребления слов мы уже говорили. В этой же главе речь пойдет о том, как от «вчера» язык переходит к «завтра». По сути дела, перед нами одно из глубочайших (и неразрешимых) противоречий языка, одна из его, говоря греческим термином, антиномий. Как это следует понимать?
В каждый конкретный момент человек имеет дело с некоторым состоянием языка: с набором определенных единиц, связанных определенными отношениями. Если бы язык был преходящим, быстротекущим, мгновенно изменяющимся, то пользоваться им было бы невозможно. Представим себе на минуту: только мы узнали какое-то слово, только научились пользоваться какой-то формой или конструкцией – глядь, а они уже не те, уже изменились или заменились чем-то другим… Нет, язык относительно устойчив во времени. Это позволяет нам принимать его за некоторую данность. Условно говоря, мы считаем его неизменным, стабильным. Нам так удобно считать: благодаря этому мы можем общаться не только со своими сверстниками, «соседями» по времени, но и с представителями иных поколений – как «уходящих», старших, так и «приходящих», нарождающихся. Конечно, в речи наших бабушек и дедушек (если таковые живы) встречаются какие-то свои особенности, да и в речи наших детей и внуков (если таковые есть) тоже не все нас устраивает. Наши бабушки и дедушки, например, говорили гребенка и вечное перо; мы говорим – расческа и авторучка. Они говорили платье и автомобиль, мы говорим – одежда и машина… Наши же внуки, возможно, вместо одежда и машина будут пользоваться какими-то иными, новыми названиями (может быть, прикид? может быть, тачка? Трудно прогнозировать будущее языка!).
Однако заметим, что в целом подобные отличия не столь уж значительны и многочисленны, они практически не мешают общению между поколениями. Можно утверждать, что огромное большинство русских слов за последние сто лет не изменилось; век для языка – это не срок. Мы сегодня свободно, без особых затруднений читаем басни И.А. Крылова или «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина; а ведь нас от них отделяют целых двести лет. Устойчивость языка во времени – великое благо!
И все же то, что язык изменяется, не подлежит сомнению. Появляются новые слова (а какие-то старые, наоборот, отмирают), развивается грамматический строй (например, изменяется количество падежей или чисел), меняется даже звуковой состав. Когда таких изменений накапливается много, язык превращается в другой язык. Примером может служить история русского языка. Когда-то, в XII или XIII веке, это был один язык, со своим лексиконом и со своими правилами (в частности, в нем существовало двойственное число и звательный падеж, иной была система глагольных времен и т. д.). Затем в нем произошли существенные изменения, которые в конце концов привели к сегодняшнему состоянию. И тот язык, предок современного, оказалось необходимым назвать как-то по-другому, чтобы отличить его от языка-потомка. Его теперь называют древнерусским языком.
Тексты, написанные на древнерусском языке, нуждаются в переводе: иначе наш современник их просто не поймет. Приведем в качестве подтверждения оригинальный отрывок из памятника древнерусской литературы – «Повести временных лет» – и его перевод на современный русский язык (сделанный Д.С. Лихачевым).
«В се же лѣто рекоша дружина Игореви: “Отроци Свѣньлъжи изодѣлися суть оружьемъ и порты, а мы нази. Поиди, княже, с нами в дань, да и ты добудеши и мы”. И послуша ихъ Игорь, иде в Дерева в дань, и примышляше къ первой дани, и насиляше имъ и мужи его.
И тот год сказала дружина Игорю: “Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам”. И послушал их Игорь – пошел к древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его».
Итак, один из основных парадоксов средства общения состоит в «столкновении» его развития и состояния. С одной стороны, мы считаем язык чем-то нам данным и стабильным: если было бы неясно, что сегодня входит в словарь и грамматику, а что – нет, то невозможно было бы общаться.
С другой стороны, то, при помощи чего мы общаемся, есть лишь условный «слепок», «мгновенный снимок» с не прекращающейся ни на минуту языковой эволюции. Противоречие между развитием и состоянием языка имеет и некоторые частные, вполне конкретные следствия. Дело в том, что борьба «старого» и «нового», которая в каждый конкретный момент осуществляется в языке, происходит и в голове у отдельного человека. Естественно, к «старому» этот человек привык, оно для него удобно, как разношенные туфли; «новое» же для него непривычно и потому нередко раздражает, воспринимается в штыки. Иными словами, противопоставление «старого» и «нового» часто принимает вид борьбы правильного с неправильным.
У К.И. Чуковского в книге «Живой как жизнь» есть специальная глава «Старое и новое», в которой рассказывается о том, как совершенно безобидные и привычные сегодня слова – такие, как результат, факт, вдохновлять, талантливый, научный, ерунда и другие, – вызывали в середине XIX века негодование литературной и филологической общественности. Бездарность, талантливый, возмущался поэт П.А. Вяземский, – это «площадные выражения»; вдохновлять, по мнению академика Я.К. Грота, – «безобразное слово»…
Тот же Корней Чуковский вел на своей даче в Куоккале рукописный дневник-альбом, в который его гости записывали литературные экспромты (художник Илья Репин назвал этот альбом «Чукоккалой»). И среди прочих записей за 1921–1922 гг. мы находим список неологизмов, которые только-только появились тогда в русской речи и, естественно, резали ухо. Вот, к примеру, какие выражения содержатся в этом списке: пока (в значении «до свидания»), до скорого, ничего подобного, халтура, текущий момент, пара минут, полседьмого, я пошел (в значении «я сейчас уйду») и т. п. Какие же это неологизмы? – так и хочется спросить. Все эти выражения сегодня уже утратили момент новизны, стали для нас привычными и «хорошими».
Но если так, если неправильное, ненормативное становится со временем правильным, нормативным, то не стоит ли мягче относиться к тем новообразованиям, которые нам режут ухо (или глаз) сегодня? К примеру, сочетания типа пара минут или пара яблок уже не вызывают ныне столь резких возражений, как ранее. («Что это еще за пара яблок? Пара – это «два предмета, составляющие единое целое»: пара перчаток, пара гнедых, супружеская пара… и всё!»)
Мы рассуждаем примерно так: это раньше пара значило «два предмета», а теперь к старому значению этого слова прибавилось новое: «несколько», «небольшое количество, в пределах от 2 до 5» (поэтому пара яблок – совсем не то же самое, что два яблока). И если сегодня словари с некоторым сомнением или неуверенностью фиксируют данное значение (оно, мол, просторечное, да еще, возможно, возникло под влиянием немецкого языка…), то завтра оно займет там свое место без всяких оговорок. Получается, что в основе спора – столкновение того, что в языке было, с тем, что в нем будет.
А вот еще другой пример: слово половина. Это существительное в современной русской речи нередко встречается в сочетаниях «большая половина», «меньшая половина» – и это вызывает у грамотных людей обоснованные возражения: «Половина не может быть ни большей, ни меньшей! Половина – это 1/2!»
Но ведь язык – не арифметика. Не стоит ли предположить, что слово половина просто-напросто начинает принимать переносное значение – «часть, доля»? Конечно, особой необходимости в таком переносе значения нет, да и выглядит он нелогично, но мало ли в русском, как и в любом другом языке, нелогичностей? Когда-то и словосочетание красные чернила резало слух: чернила по самой своей природе должны быть черными! А ныне мы не видим в этом выражении ничего противоречивого. Быть может, и «большая половина» приживется в языке? Поживем – увидим…
Если антиномия «развитие языка – его состояние» порождает столь серьезные теоретические проблемы и столь острые практические споры, то, спрашивается, где же тут место для языковой игры? Какие возможности есть у говорящего, чтобы дополнительно использовать, обыграть скрытую изменчивость языка?
Прежде всего это введение в текст иновременного элемента. Поскольку же весь опыт носителя языка лежит позади, в прошлом, то «иновременной» на практике значит: устаревший, архаичный. Конечно, свою прямую коммуникативную (информативную) функцию архаизм выполняет плохо. Это все равно как если бы через много лет после денежной реформы прийти в магазин с купюрой старого образца и услышать в ответ: «Эти деньги уже не в ходу». Так и устаревшее слово: оно или уже стало означать что-либо другое, или просто вышло из употребления.
Но у иновременного элемента свои достоинства и свои функции. Он как бы придает тексту особую глубину, дополнительное измерение, временную стереометрию! Подобно тому, как вкрапление иноязычного элемента рождает эффект переноса в пространстве (в мир другого народа), так и введение в текст архаизма создает иллюзию переноса во времени (в другую эпоху).
Обратимся к излюбленному фантастами приему: человек попадает не в свое время. Скажем, в кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию» (в основе сценария – пьеса Михаила Булгакова) наши современники оказываются перенесенными в XVI век, а царь Иван Грозный – в наши дни. И, кроме внешности и поступков, царя, естественно, «играет» его речь. Он говорит, в частности: «Ох, тяжко мне!»; «Не человечьим хотением, но Божиим соизволением царь есмь»; «Отведай ты из моего кубка»; «Пошто боярыню обидел, смерд?» и т. п.
А другой персонаж, «прелюбодей несчастный», режиссер Якин, включается в игру и судорожно перерывает в своей памяти весь запас церковнославянизмов: «аз есмь…», «житие мое», «паки и паки», «иже херувимы», «вельми понеже»… Действительно, всякие там «лепота», «увы мне, увы» и т. п. – яркие приметы исторической эпохи, и говорящий (в данном случае писатель) сознательно сталкивает друг с другом два речевых пласта – современный и древний. Слово – вот та реальная «машина времени», которая перемещает человека на оси истории…
А вот другой пример, в некотором смысле «наоборотный». У писателя Г. Гора есть повесть «Странник и время», в которой наш современник-ученый переносится на 300 лет вперед, в эпоху домашних роботов и общественной гармонии (как наивны все мы, и писатели – не исключение!). Разговаривая с людьми XXIII века, он своими выражениями то и дело ставит собеседников в тупик. Вот две иллюстрации:
«– Не прибедняйтесь!
Это словечко из лексикона моего времени подвернулось на язык случайно.
– Что вы сказали? – насторожилась Людмила Сергеевна. – Я не поняла.
– Не прибедняйтесь.
По-видимому, это выражение давно вышло из употребления…»
«– …Быт без жизни. А у вас жизнь без быта. Собакевич бы забраковал.
– Забраковал? А что это значит?
Я стал объяснять… Не очень-то у меня это получалось».
Хотя в данном случае писатель пытается взглянуть на нашу языковую современность глазами «человека будущего», применяемый речевой прием нам уже знаком: он основан на том, что, в сущности, любое слово может когда-нибудь устареть. (Как остроумно выразился Феликс Кривин, «архаизмы – это слова, забывшие о том, что и они были когда-то неологизмами».) И глаголы прибедняться и забраковать, по мысли автора, когда-то будут требовать специальных разъяснений…
Итак, слово несет на себе печать времени. И говорящий, употребляя иновременной элемент, увеличивает дистанцию между моментом речи и описываемым событием. Особенно велика такая – стилизующая – роль архаизмов в исторической беллетристике (т. е. в художественной литературе). Приведем в качестве подтверждения один эпизод.
В романе Алексея Толстого «Петр Первый» князь Голицын ведет по-латински беседу с приехавшим из Варшавы иноземцем. Но вот какими средствами передается его речь:
«– …Нашего государства основа суть два сословия: кормящее и служилое, сиречь – крестьянство и дворянство. Оба сии сословия в великой скудости обретаются, и оттого государству никакой пользы от них нет, ниже одно разорение. Великим было бы счастьем оторвать помещиков от крестьян, ибо помещик ныне одной лишь корысти ради, без пощады пожирает крепостного мужика, и крестьянин оттого худ, и помещик худ, и государство худо…»
Если бы писатель передал содержание латинской речи средствами современного русского языка, то читатель утратил бы эффект присутствия при исторических событиях. Для создания такого эффекта годятся любые средства: лексические и фразеологические архаизмы (сей, сирень, обретаться, дабы, челядь, корысти ради, челом бить и т. п.), устаревшие морфологические и фонетические формы (кофей, гишпанский, ея, новыя, библиотека, кататься верхами, упоминавшиеся уже конфекты и т. п.), измененный порядок слов (инверсия).
Причем историческая точность, буквализм тут не обязателен: иновременной элемент – условный знак, примета «былых времен». Скажем, в оригинальном тексте пьесы М. Булгакова «Иван Васильевич» говорится: «Жалую тебе рясу с царского плеча» – хотя цари ряс никогда не носили, просто ряса – как бы признак иной эпохи (в киносценарии, кстати, ряса заменена на шубу)…
Или еще пример: в историческом романе В. Пикуля «Фаворит» читаем:
«Екатерина, оказывая особую честь наместнику, проводила его до вестибюля, где уже чуялось лютое дыхание зимы. Потом выскочила и на площадь – с непокрытою головой; в прическе ее сверкал дивный персидский аграф, доставшийся в наследство от Елизаветы».
Один внимательный (чтоб не сказать – въедливый) читатель написал в газету «Книжное обозрение»: «Вы, конечно, знаете, что аграф – это платяное, а в XVI веке шляпное украшение. Я осмелюсь рекомендовать автору «Фаворита» в последующих изданиях книги заменить аграф на эгрет. В качестве украшения для волос XVIII век любил эгреты…» А в сущности, массовому-то читателю – не все ли равно? Ему что аграф, что эгрет – лишь бы был знак иной эпохи!
Конечно, архаизмы вовсе не обязательно отсылают нас ко временам Ивана Грозного или Петра Первого, они могут напоминать и о сравнительно недавнем прошлом. Таковым для нас является, в частности, первая половина XX века. Если мы встречаем в современных русских текстах слова аэроплан, фильма, штиблеты, партиец, голкипер и т. п., то понимаем: они «работают» на колорит соответствующей эпохи, а заодно на речевую характеристику персонажей. К примеру, в романе В. Богомолова «Момент истины» говорится о Сталине: «Не мог он привыкнуть и к надеваемым с мундиром искусно пошитым шевровым ботинкам, которые в усмешку именовал по-дореволюционному – штиблеты».
Тем же целям могут служить некоторые орфографические особенности. В частности, сегодня нередко встречаются написания слов с твердым знаком на конце, типа «магазинъ», «Коммерсантъ», «Ва-Банкъ», которые всерьез или с иронией отсылают нас к орфографии начала ХХ века.
В целом же можно сказать, что архаизму присуща особая выразительность, он стилистически окрашен на фоне других, нейтральных, современных слов. Иногда эта окраска настолько сильна, что затеняет, оттесняет на второй план само значение слова или оборота. (Фактически мы могли уже это наблюдать на примере «конкуренции» названий аграф и эгрет в романе В. Пикуля.) Но вот еще характерная иллюстрация. В историческую эпоху в русском языке существовал глагол-связка, изменявшийся по лицам и числам: аз есмь, ты еси, он есть… они суть. Затем эта связка вышла из употребления; вместо Аз есмь чловек мы говорим сегодня просто: Я человек. Изредка используется в современных текстах связка есть (например: Игра есть древнейшее занятие человека), а также форма того же глагола суть. Но интересно то, что суть, сохраняя свою стилистическую окраску (архаично-возвышенную), постепенно утрачивает изначальную соотнесенность с 3-м лицом множественного числа. Несколько цитат из поэзии нобелевского лауреата Иосифа Бродского:
«Склонность гор к подножью, к нам, суть изнанка ихних круч» («В горах»).
«…Эстетическое чутье суть слепок с инстинкта самосохраненья и надежней, чем этика…» («Доклад для симпозиума»).
«Постоянство суть эволюция принципа помещенья в сторону мысли…» («Элегия»).
По подсчетам Л.В. Зубовой, из 20 глагольных форм суть, употребленных в поэтических текстах И. Бродского, только одна употреблена «на своем месте», с полным историческим основанием.
Неудивительно, что архаизмы с их экспрессией широко используются в поэзии, особенно интеллектуальной и иронической. Здесь совсем не обязательно имеется в виду создание какой-то исторической ретроспективы; зато можно говорить об особой магии, «волшебстве» иновременного элемента. Приведем несколько иллюстраций из стихотворений Осипа Мандельштама, как серьезных, так и шутливых:
«Были очи острее точимой косы —
По зегзице в зенице и по капле росы…»
(«Были очи острее…»).
«Люблю под сводами седыя тишины
Молебнов, панихид блужданье…»
(«Люблю под сводами седыя тишины…»).
«Полковнику Белавенцу
Каждый дал по яйцу.
Полковник Белавенец
Съел много яец»
(«Умеревший офицер»).
«– Лесбия, где ты была?
– Я лежала в объятьях Морфея.
– Женщина, ты солгала: в них я покоился сам!»
(«Лесбия, где ты была?..»).
Употребленные здесь слова очи, зегзица, зеница, форма прилагательного седыя во втором примере и существительного яец в третьем, фразеологизм быть в объятьях Морфея (т. е. спать) – всё это вкрапления архаизмов в поэтический текст, призванные усилить его «художественность». По сути же они представляют собой частный случай языковой игры: говорящий (поэт) вводит в текст инородный, «чужой» языковой элемент (и тем самым в каком-то смысле нарушает правила), но рассчитывает при этом на определенную эстетическую компенсацию: читатель должен включиться в игру и по достоинству оценить прием.
Таким образом, архаизмы – это своего рода вестники из иных миров, сообщающие тексту дополнительное измерение: они либо отсылают слушающего (читателя) к прошлым эпохам, либо (благодаря своей «чуждости») заставляют его активнее воспринимать текст, мобилизуют его эстетические начала.
Но глубинное противоречие между эволюцией языка и его состоянием проявляется не только в границах целого текста. Оно находит свое выражение и в пределах одного слова, в самой его структуре. Речь идет о так называемой мотивировке, или внутренней форме слова. Мотивировка – тот признак, который кладется в основу наименования (при рождении слова). Огромное количество лексических единиц, которыми мы пользуемся, мотивировано. Мы понимаем, почему выключатель называется выключателем (он служит для того, чтобы выключать), подоконник – подоконником (он находится под окном), рукав – рукавом (он покрывает руку), огород – огородом (он огорожен, т. е. окружен забором), солонка – солонкой (в ней – соль) и т. д. И в то же время масса других названий выглядит для нас немотивированной. Мы не можем, например, сказать, почему стол называется столом, стена – стеной, ладонь – ладонью, тетрадь – тетрадью, пуговица – пуговицей… Причем, что характерно, мотивированные и немотивированные слова могут в языке соседствовать, «поддерживать» друг друга, образовывать синонимические пары и т. п. Так, мы обычно даже не замечаем, что у одних названий дней недели в русском языке есть внутренняя форма (четверг – четвертый день недели, пятница – пятый…), а у других – нет (суббота – немотивированное слово); нам это не мешает.
Большинство названий грибов в русском языке мотивированы (подберезовик, боровик, лисичка, сыроежка…), а названия рыб, наоборот, внутренней формы не имеют (лещ, сазан, щука, форель…) – ну и что? И практически все равно, как сказать: рукавица или варежка, передник или фартук, объявление или афиша – хотя во всех этих парах первое слово мотивировано, а второе – нет…
Какой же из всего этого следует вывод? Пожалуй, один: что носителю языка все равно, есть у слова мотивировка или нет. Точнее, она была необходима на тот момент, когда название возникало (нужно же ему было на что-то опереться!), но после того, как слово в языке прижилось, внутренняя форма может благополучно исчезнуть, забыться. Приведем аналогию из жизни людей. При рождении человека выписывается соответствующий документ: свидетельство о рождении, или, как раньше говорили, метрика. Это очень важный – на данном этапе жизни – документ. Но, когда человек, достигнув определенного возраста, получает паспорт, метрика ему вряд ли когда-то еще понадобится. Точно так обстоит дело и с внутренней формой. Скажем прямо: все те слова, которые сегодня выглядят немотивированными, когда-то имели мотивировку – просто они ее где-то «по дороге» утратили. Не составляют исключения и приводившиеся выше примеры типа стол, стена, фартук, суббота и т. д.: внутренняя форма у них была, но «забылась».
Конечно, филологи, специалисты по исторической лексикологии, без особого труда находят, восстанавливают эту утраченную мотивировку. Они говорят: в существительном стол исторически тот же корень, что в глаголах стлать и стоять, слово стена родственно древнегерманскому stains («камень»), название фартук пришло к нам через польский язык из немецкого (Vortuch значило буквально «передний платок»), а суббота восходит к древнееврейскому шаббат (и является, кстати, далеким родственником русских слов шабаш и шабашить). Человека, который заинтересуется происхождением названий, ждет немало увлекательных наблюдений и неожиданных открытий. Он вдруг ощутит историческую связь слов пузырек и пузырь, клинок и клин, рябина и рябой, тварь и творить (отсюда выражение божья тварь), точка и ткнуть, грыжа и грызть и т. п.; он уловит в слове невеста мотивировку «не ведающая, неопытная», а в слове ведьма – наоборот, «ведающая, знающая» (и тогда возникнет шутка о сущности замужества как постепенном превращении невесты в ведьму)…
И все же общее правило таково (все приведенные примеры его только подтверждают): мотивировке слова свойственно со временем утрачиваться, забываться. Это совершенно естественный, нормальный процесс, который позволяет слову развиваться, менять со временем как свою форму, так и значение. Мы говорим сегодня: перочинный нож, хотя уже давно не чиним им никаких перьев. Говорим: допотопная конструкция, никоим образом не связывая эту конструкцию с библейским потопом. Говорим: зеленые чернила и цветное белье, хотя по самой своей языковой природе (т. е. по мотивировке) чернилам положено быть черными, а белью – белым… Короче, внутренняя форма – это внутреннее дело самого слова; нас же в лексическом знаке интересуют только две его стороны: значение и форма. Таково правило. Более того, если мотивировка сохраняется, то, присутствуя в сознании носителя языка, она может некоторым образом мешать ему использовать это слово. Приведем некоторые иллюстрации.
В России существует политическая партия «Яблоко». Известно, что это название возникло из «кусочков» фамилий ее лидеров: Явлинский, Болдырев, Лукин. Но больно уж оно непривычно для общественного движения. «Общая газета» (1995, № 47) иронизировала по данному поводу: «Сами отцы-основатели ничего интереснее придумать не сумели. Неизвестно, согласились бы они на «турнепс» или «топинамбур», но выбор у них был скудный: к осени 1993 года все приличные ярлыки и бирки были разобраны и зело употреблены. От безысходности пришлось назваться фруктом». Действительно, сталкиваясь с названием «Яблоко», трудно отделаться от посторонних, «фруктовых» ассоциаций…
Другой пример. На вооружении у милиции состоит слезоточивый газ под названием «черемуха». И опять что-то режет нам слух: безобидное и даже полезное дерево (воспетое, кстати, в песнях) – и средство для разгона демонстрантов? Новое значение явно не соответствует мотивировке…
Третий пример. В газетах промелькнуло сообщение о том, что очередному детищу автозавода «Москвич» присвоено название «Иван Калита». Первые экземпляры автомобиля «Иван Калита» уже экспонировались на международных выставках. И снова напрашивается вопрос: удачно ли такое имечко? Разве не чувствуется за ним оттенка седой древности, патриархальности, допотопности? Не лучше ли было бы выбрать имя попроще да поусловнее – как ведь хорошо звучат какие-нибудь «рено» или «ауди»!
Четвертый пример – из художественного (юмористического) текста. Это вопросы, которые задает себе человек якобы не вполне нормальный. Он не понимает очевидных вещей и потому плохо вписывается в окружающую обстановку: «Почему нельзя говорить всё как есть?.. Почему утренники бывают вечером, вечера танцев – днем, а субботники – в воскресенье?!» (М. Азов, В. Тихвинский. «Записки сумасшедшего»). Действительно, мотивировка слов утренник или субботник плохо «увязывается» с их современным значением и употреблением – и это может вызывать определенные затруднения в общении.
Подытожим, наконец: на определенном этапе жизни слова мотивировка становится ему не нужна и даже вредна. Поэтому она, собственно, и отмирает. Но, даже трижды повторенное, это правило еще не исчерпывает всей правды, всей сложности развития языкового знака. Дело в том, что наряду, можно сказать – параллельно, с естественным процессом утраты внутренней формы слова, в речи то и дело наблюдается обратный процесс: «реанимация» мотивировки, ее восстановление и обновление. И в этом – очередной парадокс языка.
Филологи давно заметили: человек иногда не удовлетворяется двумя сторонами знака – его планом выражения и планом содержания, а ищет третий, связующий их компонент: мотивировку. Он как бы хочет знать не только, «как слово звучит и пишется» и «что оно значит», но и «почему оно значит именно это». Чаще всего такой интерес пробуждается тогда, когда слово говорящему плохо знакомо, оно для него ново или же – для нас эта ситуация более интересна – если у него есть какая-то «сверхзадача»: например, эстетическая или юмористическая (вспомним уже знакомые нам основания языковой игры). И человек начинает фантазировать, предполагать: как могло бы возникнуть то или иное слово. Вот одно из таких свидетельств – размышления поэта Николая Асеева:
«Я понял смыслы как будто не разгадываемых слов. Что значит, например, слово мелкий, мелочь? Не от крошащегося ли мела произошли они? А что значит слово кровь? Не от сокровенности ли его значения произошло оно? А что значит плоть, что значит гореть, что значит святой? Не от пылания ли, не от подымания ли вверх, не от света ли произошли эти слова? Плоть – пылать? – недоверчиво скажете вы. Гореть – подыматься ввысь? Святой, как светлый, как светоносный? А не домысел ли это поэтического воображения?! Нет, это домысел наших предков, создававших эти слова. Поэтому плоть – пылает, а тело – тлеет…»
Скажем сразу: приводимые здесь мотивировки – это действительно плод фантазии, лингвистической ценности они не имеют. Происхождение слова устанавливается здесь на основании случайного сходства с другим словом. В науке это называется народной, или ложной, этимологией.
Процитируем в связи с этим книгу Ж. Вандриеса «Язык»: «…Сознание стремится установить связи во внешней форме слов, часто даже вопреки здравому смыслу. Слабое звуковое сходство данного слова с употребительным или более известным словом ведет за собою сближение, результатом которого являются странные искажения слов». В самом деле, «сближение» слов очень часто означает подгонку одного слова под другое. Так вместо пиджак в просторечии появляется «спинжак» (сближение со словом спина), вместо бульвар – «гульвар» (подразумевается мотивировка: «место, где гуляют»), вместо аудиенция – «уединенция» (ср.: уединиться) и т. п. Все это – классические образцы ложной этимологии!
К ним легко добавить и другие примеры: «купиратив» вместо кооператив, «перетрубация» вместо пертурбация, «штурмовка» вместо штормовка (вид куртки), «разуме» вместо резюме, «куркулятор» вместо калькулятор и т. д. Один читатель, услышав где-то слово полиглот, с возмущением писал в газету «Неделя»: «Зачем русскому языку слово «пылеглот», когда уже есть слово пылесос?!»
Есть, правда, одна сфера, в которой народная этимология оправданна и простительна: это детская речь. Чтобы запомнить новое слово, включить его в свой словарный запас, ребенок должен «привязать» его к уже имеющимся словам, т. е. по-своему его объяснить, мотивировать. Так получается вместо экскаватор – «пескаватор», вместо молоток – «колоток», вместо вазелин – «ма-зелин» и т. п. (Массу подобных примеров читатель найдет в уже упоминавшейся книге К.И. Чуковского «От двух до пяти».)
В целом же, конечно, примеры народной этимологии свидетельствуют о недостаточной образованности говорящих и, можно сказать, об их недостаточном уважении и такте по отношению к средству общения. Но назвать народную этимологию просто «порчей» слов тоже нельзя: во-первых, носитель языка руководствуется здесь благими намерениями (он пытается, в конце концов, решить лингвистическую задачу), а во-вторых, перед нами явление значительно более массовое, чем это можно заключить, судя по первым приведенным примерам.
Дело в том, что человек регулярно сталкивается в своей речевой практике со словами, сходными между собой. И если это сходство ограничено планом выражения, т. е. слова просто частично совпадают по своей форме (как, например, пирамида и пирамидон или кресло и кресало), то обычно это никаких особых последствий не имеет. Говорящий (или слушающий) как бы списывает такое подобие на проявление случайности, на действие закона больших чисел. Это значит: слов в языке так много, что какие-то из них рано или поздно должны были частично совпасть по своей форме. Но если формальное сходство сопровождается еще и какой-то смысловой связью, общностью элементов значения, то можно быть уверенным: в сознании носителя языка данные слова объединятся устойчивой связью. Таковы, в частности, для русского языка лексемы деревня и дерево (потому что деревня состоит, как правило, из деревянных домов), мята и мять (потому что запах мяты наиболее проявляется, если ее листья помять в руках), вяз и вязать, вязкий (потому что вяз – дерево с раскидистой кроной, с переплетенными, «связанными» друг с другом ветвями), рубанок и рубить (потому что рубанком хотя и не рубят, но строгают, а это действие тесно связано с рубить), щуплый и щупать (потому что в щуплом человеке как бы легко прощупывается весь его скелет)… Предоставим читателю возможность самому найти смысловые звенья, которые соединяют в русскоязычном сознании слова дубина и дуб, хлеб и хлебать, прыть и прыгать, вихор и вихрь, кучерявый и кучер, кишечник и кишеть, строптивый и стропа и т. д.







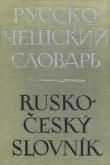
![Книга Чешско-русский словарь. Том 2 [P-Ž] автора Л. Копецкий](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-cheshsko-russkiy-slovar.-tom-2-p--104408.jpg)