
Текст книги "Игра на гранях языка"
Автор книги: Борис Норман
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Большим мастером создания искусственных слов был английский ученый и писатель Льюис Кэрролл, известный нам по сказкам про девочку Алису.
В его «Алисе в Зазеркалье» есть баллада о «джаббервокках» (слово, которого нет в английских словарях), почти целиком состоящая из слов-фантомов. Вот ее начало (в переводе Д.Г. Орловской):
«Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове…»
Несмотря на «абсолютную непонятность» того, о чем тут говорится, стихи эти с удовольствием читают и дети, и взрослые: игра захватывает всех. Еще показательней в данном отношении – для русского читателя – сказочка «Пуськи бятые», принесшая ее автору, писательнице Людмиле Петрушевской, поистине всенародную популярность. Вот она:
«Сяпала Калуша по напушке и увазила бутявку. И волит:
– Калушата, калушаточки! Бутявка! Калушата присяпали и бутявку стрямкали. И подудонились.
А Калуша волит:
– Оее, оее! Бутявка-то некузявая! Калушата бутявку вычучили.
Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки. А Калуша волит:
– Бутявок не трямкают. Бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые. От бутявок дудонятся.
А бутявка волит за напушкой:
– Калушата подудонились! Калушата подудонились! Зюмо неку-зявые! Пуськи бятые!»
Филологам такие забавы давно и хорошо знакомы. Пожалуй, самый известный пример – это предложение, которое в свое время, в 1920-е годы, придумал профессор Л.В. Щерба, чтобы показать, что даже из незнакомых, искусственных слов можно составить целое, которое будет нести некоторый смысл. Вот как это предложение выглядело: «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка». С тех пор многие и многие поколения молодых филологов прошли через «глокую куздру» (об этой истории хорошо рассказано в книге Льва Успенского «Слово о словах»).
Искусственно созданные слова используются также психолингвистами. Психолингвисты – ученые, которые изучают процессы речевой деятельности, т. е. то, как человек производит и понимает текст. Их, в частности, интересует внутренняя связь между значением слова и его звуковой оболочкой. Дело в том, что звуки, из которых состоит форма слова, могут связываться у нас в сознании с определенными эмоциями, приятными или неприятными. И если «настоящее» значение слова неясно, неизвестно, то эти ассоциации играют решающую роль. В частности, описаны эксперименты, в ходе которых испытуемым предъявлялись две картинки. На одной было изображено округлое добродушное существо, на другой – мохнатый (или колючий) зверь с рогами. Задание состояло в том, чтобы определить, кто тут жаваруга, а кто – мамлыга. Ответ, кажется, напрашивается сам собой.
Слова-фантомы применяются и в иных научных целях. Скажем, во вполне серьезной книге П. Линдсея и Д. Нормана «Переработка информации у человека» приводится такое искусственное сообщение:
«В глике с руповыми локсенами и кейтером мункните локсен в бламп, и в гратце появится бим».
В сущности, перед нами еще один вариант «глокой куздры»: высказывание, которое содержит «информацию об отношениях», но умалчивает о том, между какими реалиями эти отношения устанавливаются. Тем не менее, как показывают авторы, и с таким высказыванием можно «работать» – например, задавать вопросы и получать ответы типа: «Где находится кейтер?» – «В глике». «Что является руповым?» – «Локсен»…
Как мы видим, это игра не только языковая. Она имеет отношение к логике и теории информации, она сродни алгебраическим операциям. Мы ведь можем складывать и умножать не только конкретные величины (например, 7 + 8 = 15), но и величины абстрактные, о которых известно только то, что они нечто значат (например, a + b = с). Чем отличаются наши слова-фантомы от символов a, b, c в приведенной формуле? Практически ничем: мы тоже принимаем, что пуськи и мукуки «что-то значат», и всё.
Но слово-фантом – не какое-то изолированное и «запредельное» явление языка, оно связано с другими, обычными словами множественными нитями. Иногда бывает так, что слово в начале своего «жизненного пути» ведет себя совершенно нормально: соотносится с соответствующим предметом и т. п. Но затем эта связь почему-то утрачивается: то ли предмет выходит из употребления, то ли выясняется, что его, собственно говоря, и не было, то ли еще что – и слово постепенно превращается в фантом.
Очень интересны, в частности, такие слова, которые «обессмысливаются» по мере развития науки. Это, так сказать, вехи, отмечающие тупики на пути человеческого познания. К примеру, в XVIII веке ученые считали, что есть особое вещество, которое рождает и передает тепло – теплород. Позже, с развитием молекулярной физики, это представление отпало, а слово теплород так и осталось в языке – как памятник заблуждению. Подобной историей может похвастаться существительное флогистон – так ученые в XVIII веке называли «огненную материю», которая, по их мнению, содержалась в горючих веществах и выделялась из них при горении. Позже флогистонная теория горения сменилась кислородной, но название флогистон так и сохранилось в словарях и энциклопедиях. Любопытно, все ли науки находят в себе смелость отказываться от одних понятий в пользу других – или только экспериментальные? Это отдельная тема, так же как и вопрос о словах-призраках в сфере общественной жизни – идеологии и т. д.
Нередко слово утрачивает предметную соотнесенность в составе устойчивого словосочетания – фразеологизма. Это значит, что сочетание в целом имеет свой смысл, а его элемент, отдельное слово, как бы растворяет свое значение в смысле целого выражения. Таковы в современном русском языке фразеологизмы бить баклуши – «бездельничать, лодырничать», точить лясы – «болтать, трепать языком, сплетничать», типун (тебе) на язык «не говори так», «я не хочу, чтобы случилось то, о чем ты говоришь», у черта на куличках – «очень далеко», турусы на колесах – «нелепица, вздор» и др. Баклуши, лясы, типун, кулички, турусы – все эти слова когда-то обозначали (а можно сказать, в какой-то степени и сегодня обозначают) определенные предметы. В частности, баклуши – это чурки, заготовки для деревянных ложек, лясы (балясы, балясины) – столбики в перилах, ограде и т. п. Но постепенно эти слова превращаются в фантомы – во всяком случае, когда они употребляются в составе фразеологизмов, за ними уже не стоит никаких предметов.
Близки к этому случаю и слова, которые существуют только в определенных литературных или фольклорных контекстах. Все мы читали в детстве сказку «Колобок» и помним просьбу деда к бабке: «А ты по амбару помети, по сусекам поскреби – глядь, муки и наберется». Что такое сусеки? (Один маленький мальчик так переиначил незнакомое ему слово: «Ты по соседкам поскреби…») Сусеки, вообще-то, – «закрома», большие ящики, в которых хранили зерно. Но слово это постепенно забывается, выходит из употребления, остается только в сказке, которая вряд ли забудется. Но тут мы сталкиваемся с целым рядом лингвистических проблем. Можно ли считать фантомом слово, значение которого известно только узкому кругу лиц (например, специалистов)? Если есть слова, знакомые носителю языка лишь «понаслышке», по их оболочке, можно ли считать, что он их знает? Как далеко может отходить переносное значение от первоначального, прямого, может ли оно превращаться в «нуль», в отсутствие значения?
Все эти вопросы очень интересны, но, к сожалению, уводят нас за границы нашей темы. Поэтому здесь мы только отметим, что утрата предметной соотнесенности слова, отрыв его от питательной почвы действительности не только свидетельствует об относительной автономии языка, но и создает богатые возможности для языковой игры. Такие слова, как мы видели, можно «безнаказанно» создавать в развлекательных и прочих целях, ими можно манипулировать, придавать им чуть ли не любое значение…
Лакуны и фантомы в лексической системе – это еще не все проявления самобытности и самостоятельности языка. Не менее характерным доказательством этих его качеств является своеобразие языковых классификаций. Дело в том, что те разбиения на классы, которые предлагает нам язык, часто не совпадают с классификационными основаниями, предлагаемыми нам объективной действительностью. Ничего удивительного в этом нет. Чем дальше продвигается человек по пути познания окружающего мира, тем глубже он узнает суть вещей, тем полнее и совершеннее становятся его определения… Но – одновременно – тем заметнее становятся расхождения между классификацией научной и классификацией бытовой, может быть, примитивной и архаичной, но уже закрепленной в языке.
Если кто-то попросит перечислить известных нам насекомых, мы с легкостью назовем муху, комара, муравья, кузнечика, паука, жука, скорпиона, таракана… Для нас насекомое – это маленькое животное, с ножками и, возможно, крылышками, которое ползает (а возможно, также прыгает или летает); остальное неважно. Наука же подходит к своему объекту более тщательно, учитывает его существенные признаки: строение тела, особенности поведения и т. п. И с этой точки зрения оказывается, что мухи, комары, жуки и т. д. действительно представители класса насекомых, а вот пауки и скорпионы не относятся к насекомым и в научной номенклатуре образуют отряды иного, отдельного класса паукообразных.
Точно так же для нас минерал – это какое-то природное образование, твердое, вроде камня, встречающееся в горах и добываемое людьми. Наука же определяет минерал как «природное тело, приблизительно однородное по химическому составу и физическим свойствам, образующееся в результате физико-химических процессов на поверхности или в глубинах Земли» (Большая советская энциклопедия, 3-е изд., т. 16). В соответствии с данным определением к минералам относятся не только малахит, апатит, кварц и т. д., но и, скажем, лед, а быть может, даже вода.
В той же энциклопедии можно найти немало других примеров расхождения научной теории и языковой практики. В частности, при объяснении того, что такое орех, специально указывается: «Неправильно называют орехом семена некоторых сосен («кедровый орех»), косточку грецкого ореха («грецкий орех»), сухую костянку кокосовой пальмы («кокосовый орех»)» (т. 18). При определении ягоды говорится: «Ягодой часто неправильно называют плоды земляники, малины, инжира и некоторые др.» (т. 30).
Действительно, для обычного человека ягода – это маленький сочный плод кустарника (обычно сладкий или кислый), и всё. Пусть себе познание развивается как ему угодно, язык не склонен менять свою устоявшуюся точку зрения, он консервативен. Впрочем, утешением может служить то, что наши «наивные» определения не очень мешают нам в практической жизни. Мы знаем, что малина вкусна, и едим ее, независимо от того, ягода она или что-то там иное… Другое утешение – в иных языках классификация природных и общественных явлений имеет свои странности и непоследовательности, иногда, пожалуй, даже большие, чем в русском языке.
Вот как выглядит, например, часть классификационной системы языка навахо (индейское племя Северной Америки): «Индейцы вначале классифицируют все живые существа на говорящие и неговорящие… Неговорящие существа затем подразделяют на животных и растения. Потом первые на основе очевидных воспринимаемых свойств подразделяются на «бегающих», «летающих» и «ползающих». Далее каждая группа еще раз делится на «передвигающихся по земле» и «передвигающихся по воде», а также на «передвигающихся днем» и «передвигающихся ночью». Для всех этих описаний, основанных на отдельных признаках, имеются характерные названия» (Ф. Кликс. «Пробуждающееся мышление»). Не стоит только относиться к подобным «картинам мира» высокомерно: это, мол, свойство примитивных народов. Наша собственная «наивная» классификация – например, деление на животных и растения и т. д. – тоже довольно далека от истины.
Получается, что языку свойственно весьма вольно поступать с реалиями, с предметами объективной действительности. И если так, то стоит ли удивляться тому, что конкретный человек в своей речевой деятельности может еще сильнее нарушать правила, перетасовывать классификационные признаки?
Известны казусы, случавшиеся даже с великими художниками слова. А.С. Пушкин, похоже, плохо различал медь и бронзу, если позволил себе в «Медном всаднике» (медном!) выразиться так:
«…Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне».
М.Ю. Лермонтов приписал львице наличие гривы (хотя грива бывает только у льва):
«И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел…»
(«Демон»).
А И.А. Крылов в своем переложении басни Лафонтена «Стрекоза и муравей» вынужден был пойти на некоторые изменения. В оригинале у французского поэта действуют цикада (насекомое, близкое к кузнечику) и муравей (кстати, по-французски оба существительных относятся к женскому роду, так что это две «кумушки»). Крылов заменил цикаду на стрекозу, но при этом сохранил особенности поведения насекомого: стрекоза у него «прыгает» и «поет» в мягких муравах! «Стрекозы, – замечает Л. Успенский в «Слове о словах», – насекомые, которые в траву попадают только благодаря какой-нибудь несчастной случайности; это летучие и воздушные, да к тому же совершенно безголосые, немые красавицы».
Самое интересное тут, что обычный читатель подобных ляпсусов просто не замечает. И не потому, что находится под гипнозом авторитетов (или вообще печатного слова), а более всего потому, что он привык к нежесткости языковой системы: тут «всё может быть». Если есть кентавры и циклопы, человеки-невидимки и черепашки ниндзя, то почему не быть львицам с гривой или прыгающим стрекозам…
Создавая свои классы предметов и – на их основе – свои понятия, практическое (или «наивное», что в данном случае одно и то же) мышление человека как-то их упорядочивает, соотносит друг с другом. В конце концов классы выстраиваются в систему последовательного подчинения – иерархию. Например, мы можем сказать: жук – это насекомое, насекомое – это животное, животное – часть природы… Только надо признаться, что и эта иерархия довольно непоследовательна и случайна. Посмотрим на примеры того, как некоторые предметы объединяются нашим сознанием в классы.
Туфли, тапочки, сапоги, ботинки, кроссовки… – это всё обувь.
Молоток, дрель, плоскогубцы, отвертка, клещи… – инструменты.
Шапка, кепка, шляпа, берет, фуражка, папаха… – головные уборы.
Молоко, сыр, творог, кефир, сметана, брынза… – молочные продукты.
Чашка, кружка, стакан, бокал, фужер… – то, из чего пьют.
Марки, монеты, значки, открытки, спичечные этикетки… – то, что коллекционируют.
Уже тут видна первая непоследовательность: одни классы имеют свое четкое, устойчивое, однословное наименование (обувь, инструменты), другие обозначаются устойчивым же, но словосочетанием (головные уборы, молочные продукты), у третьих и такого названия нет, они могут быть обозначены по-разному (то, из чего пьют; посуда для питья; чашки-кружки и т. п.). На примере данных классов легко также показать нежесткость языковой системы.
Скажем, класс головных уборов в принципе проницаем, незамкнут. Можно добавить в него платок, шаль, тюбетейку, башлык, феску, чалму и т. д., хотя мы чувствуем, что с каждым шагом все дальше отходим от «типичного», привычного нам головного убора. А если продолжить этот список: войдет ли в него каска? Мотоциклетный шлем? Парик? Фата? Корона?.. Трудно сказать.
Это уже то ли головные уборы (по некоторым своим признакам), то ли нет (по другим). Границы класса оказываются нечеткими, размытыми – хотя ясно, что у него есть некоторое более или менее стабильное «ядро». (Сказанное, естественно, относится и к другим выделенным нами группам.)
Сложность лексической классификации связана и с тем, что слова неодинаковы по своей способности налаживать иерархические связи с другими словами. Есть такие, которые с легкостью образуют родовидовые отношения (например: туфли – вид обуви, отвертка – вид инструмента), а есть такие, которые плохо поддаются подобной систематизации. Это касается, в частности, слов неоднозначных, с отвлеченным или оценочным значением (например, загадка – это вид чего? Бессмыслица – это вид чего?). Кроме того, носителю языка привычно «работать» с некоторым наиболее удобным уровнем обобщения (примером может служить слово и понятие жук), а на уровни выше-и нижележащие (соответственно: насекомое и, допустим, навозник) он редко обращает внимание, они для него служат скорее своеобразным фоном…
Наконец, сами отношения иерархии, подчинения понятий в языковой классификации не так уж отчетливы и прозрачны. Вот, скажем, сыр – это вид молочных продуктов. А брынза? Находится ли она на том же уровне обобщения? То есть это тоже вид молочных продуктов? Или же это вид сыра? Другой пример. Птица – в языковом или, если угодно, наивном понимании – относится к животным или же существует рядом с ними как отдельный класс? Как мы скажем по-русски: «Птицы и другие животные спасались от пожара» или же просто «Птицы и животные спасались от пожара?» Кажется, первое предложение вызывает у нас сомнения («режет слух»), в то время как второе выглядит вполне нормально; это значит: птица – не животное…
Подобных вопросов и сомнений может быть множество. Главное же, сложность этих внутриязыковых отношений дает массу поводов для языковой игры. Дело в том, что принадлежность понятий к одному уровню обобщения не только интуитивно ощущается человеком, но и выражается формально, в тексте. Простейшая «проба на однородность» – возможность установления между словами сочинительной связи. На практике это означает: если имеется сочетание из двух слов, соединенных союзом и (или каким-либо другим сочинительным союзом), то оба его члена должны принадлежать к одному уровню обобщения. Поэтому нормальными, правильными являются конструкции типа сад и огород, стол и стул, учебники и словари, преподаватели и студенты. А ненормальными, по крайней мере странными, являются книги и словари, стол и мебель, яблоки и овощи. Тем не менее именно такие словосочетания встречаются иногда в речевой практике: куплю книги и словари (объявление в газете), машины для перевозки людей и студентов (из документа) и т. п. Естественно, что они составляют один из объектов языковой игры.
Однородность слов, вступающих в сочинительную связь, заключается не только в том, что они должны принадлежать к одному уровню обобщения, но еще и в том, что они должны относиться к одной тематической сфере (например: «мебель», «обувь», «искусство», «природа» и т. п.), а желательно также иметь общие грамматические признаки (свойства части речи и т. п.). Нарушение этих требований создает дополнительный эстетический или комический эффект, который часто используется в художественной литературе. Приведем соответствующие примеры.
«– Как ты? – говорю. – Я ведь тебя оставил социалистом, республиканцем и спичкой, а теперь ты целая бочка.
– Ожирел, брат, – отвечает, – ожирел и одышка замучила»
(Н.С. Лесков. «Смех и горе»).
«– Дайте мне щетку, чистый воротничок и согласие на законный брак, – сказал Норфольк»
(А. Бухов. «Лавочка смеха»).
«Восходят из долины к террасам англичане, аббаты, экскурсии и ослы»
(О. Форш. «Сумасшедший корабль»).
«Кто вы такая? Откуда вы?
Ах, я смешной человек…
Просто вы дверь перепутали,
Улицу, город и век»
(Б. Окуджава. «Тьмою здесь все занавешено…»).
«Сержант Ланцов – старик тридцати лет, кадровый… учитель жизни и минометного искусства, которое есть первейшее для нас…» (Б. Окуджава. «Уроки музыки»).
«Вот, скажем, я любим собой,
Своим обедом и женой,
Пишу стихи, имею сбыт…»
(Д. Пригов. «Изгнанники земли»).
Во всех приведенных цитатах происходит соединение несоединимого – слов, принадлежащих к заведомо разным тематическим классам (соответственно понятий, относящихся к разным сферам действительности). Приведем теперь несколько примеров, в которых сочинительная связь объединяет слова, разнородные по своей синтаксической функции (синтаксическая функция – это грамматическая роль, которую играет слово в предложении, например: подлежащее, дополнение и т. п.) – это приводит, в общем-то, к тому же эффекту.
«Скрипка и немножко нервно»
(название раннего стихотворения В. Маяковского).
«Но, живого и наяву,
Слышишь ты, как тебя зову»
(А. Ахматова. «Cinque»).
«Скорей со сна, чем с крыш; скорей
Забывчивый, чем робкий,
Топтался дождик у дверей…»
(Б. Пастернак. «Лето»).
«Забыться бы, заснуть летаргическим сном и очнуться бы в семидесятом году профессором и при коммунизме»
(Ю. Щеглов. «Поездка в степь»).
«– А как же ты сюда попал?
– …Я сюда, кажется, взбежал. Или вскочил.
– Как вскочил?
– С разбегу! – объяснил слоненок.
– По-моему, ты вскочил не с разбегу, а с перепугу, – сказала мартышка»
(Г. Остер. «Бабушка удава»).
«После того как обезьянка ушла, Гена вышел вслед за ней и написал у входа на бумажке:
ДОМ ДРУЖБЫ ЗАКРЫТ НА УЖИН Потом он подумал немного и добавил:
И ДО УТРА»
(Э. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья»).
При всем разнообразии приведенных примеров у них есть нечто общее: это намеренно допускаемая неправильность при образовании сочинительных конструкций. Разъясним данное свойство на последнем из примеров. Здесь закрыт на ужин – значит «закрыт по какой причине»? (или «с какой целью?»). А закрыт до утра – это значит «закрыт до какого времени? как надолго?». Объединять причину и время в сочинительном ряду в общем-то нельзя, однако «если нельзя, но очень хочется, то можно», – вот тут-то и рождается игра. Конечно, не всегда можно с уверенностью сказать, сознательно ли использовал писатель данное средство (как прием) или же у него просто «так получилось». Но читатель наверняка оценит по достоинству дополнительные усилия автора.
Что же касается сведения в одну сочинительную конструкцию обстоятельств причины и времени, то здесь уместно вспомнить анекдот об армейском старшине, который превзошел Эйнштейна, сумев объединить пространство и время. Он приказал своим солдатам: «Копайте вот от этого забора и до обеда!» Вообще, один из самых характерных в данном отношении жанров, в котором регулярно происходит речевое нарушение логических оснований классификации (в том числе единства уровня обобщения и тематической однородности понятий), – это так называемые армеизмы: перлы армейской словесности, приписываемые не шибко грамотным офицерам. Тут действительно – чем глупее, тем лучше.
Почему у вас здесь водятся крысы и другие насекомые?
Сначала пройдут люди, а потом поедем мы.
Поставьте на дороге шлагбаум или толкового майора.
Что у вас за носки? Вы курсант или где? Вы на занятиях или как?
Надо смотреть не глазами, а подбородок поворачивать!
Товарищ солдат, вы где были? В туалете? Вы бы еще в театр сходили!
А вдруг война или какое другое мероприятие?
Навести порядок на лице и в кровати.
Сапоги и портянки должны стоять около табурета.
Рулевое управление танка служит для поворота направо, налево и в другие стороны.
По команде «вольно» ослабляется не правая и никакая другая нога, а левая!
Опрос будет письменный, но устно.
Короткими перебежками от меня и до следующего столба!
Автобусов не будет!
Придут два ЗИЛа, один – ЗИЛ, другой – КамАЗ.
Передайте вашему командиру, пусть найдет меня живым или по телефону.
Носки должны быть не какие-нибудь красные или зеленые, а однотонные.
Я вас не спрашиваю, где вы были. Я спрашиваю, откуда вы идете.
Чтоб к моему возвращению ногти были подстрижены. И на пальцах тоже!
Пусть он будет вытянутым, но чтобы это был круг!
Противогаз надевают на лицевые части лица.
Я вам и старшина, и отец родной, и бабушка!
Смешно? Конечно, смешно. Но для филолога – еще и интересно: какие правила построения текста здесь нарушены?..
Напомним: внутренние принципы лексической классификации, особенности «устройства» словарного запаса в голове человека – это проявление самобытности и относительной самостоятельности языка. И они же – в случае нарушения писаных и неписаных правил – предоставляют говорящему многообразные возможности для языковой игры.
А упомянутые нами конкретные факты – условия образования сочинительных конструкций – это удобный повод для того, чтобы перейти ко второй составной части языковой системы (кроме лексики), к грамматике.







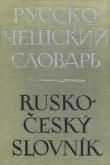
![Книга Чешско-русский словарь. Том 2 [P-Ž] автора Л. Копецкий](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-cheshsko-russkiy-slovar.-tom-2-p--104408.jpg)