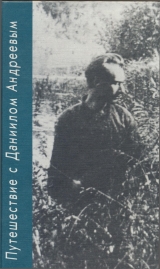
Текст книги "Путешествие с Даниилом Андреевым. Книга о поэте-вестнике"
Автор книги: Борис Романов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
А. Л. Андреевой
1
Консерватория, сирень.
Ни звука музыки. Все глухи.
Все под зонтами. Все не в духе.
Но слышно, как бросалась тень
на визг колес и рвался день
навстречу мокрой оплеухе.
Я в гости к пламенной старухе
спешил, для струй косых – мишень.
Вбегаю в Брюсов переулок,
в подъезде набираю код.
Без проходных и караулок
немыслим выход наш и вход.
Стук лифта короток и гулок.
Вдова поэта здесь живет.
2
А где поэт живет высоко,
там из округлого окна
Небесный Кремль и вся страна
видны глубоко и далёко,
на ржавость кровель нет намека —
не жестью крыты времена…
Сирени купы, и весна
сквозь дождь косится синеоко.
Поэт живет в своих словах,
а не в ее воспоминаньях,
столь достоверных на правах
вдовы. Представить не дано
запнувшимся на умолчаньях
перегоревшее давно.
3
Лишь долгожители и вдовы
из одиночек слепоты
сквозь дождь, колеблющий кусты,
в глаза весны глядеть готовы.
Воспоминанья бестолковы.
Как бабочки, из темноты
они летят и – видишь ты —
за воскресенья свет готовы
скупую лампу в сорок ватт
принять, и на меня летят,
коль нет другого воскрешенья
на сей земле помимо слов
и памяти, и вдохновенья,
и верности ослепших вдов.
2000
ФАВН
…он, скажут, выдумка и вовсе не бывал.
Виктор Василенко. Стенания Фавна
Может быть, то, что я пишу о Викторе Михайловиче Василенко, это, кроме прочего, попытка вернуть долг. Долг из моих не – ответов на его письма, из моих не – звонков, которые он ждал.
Да, он казался иногда чрезмерно говорливым, чуть ли не назойливым, при всей его безукоризненной вежливости, аристократической корректности. Почти все годы нашего знакомства мой день в издательстве (дома телефона не было) начинался с его звонка, с долгого, чаще всего, разговора. Приходилось его прерывать фразой, которую он ждал:
– Извините, Виктор Михайлович, ко мне пришли…
Но когда он умер, мне стало не хватать этих звонков, его увлеченной речи, его голоса. Уже никому я не был нужен каждодневно.
И это не телефонная пустота. Умолк неповторимый голос.
Стало не хватать писем с непременными стихами, с узнаваемой тесной машинописью на полулистах, с почти обязательной росписью. «Я люблю подписываться», – по – детски признавался он.
«И как всегда, простите, посылаю еще одно Вам новое стихотворение… для Вашей коллекции моих скромных “творей”, как сказал бы мой предок Григорий Сковорода».
Поэзия для него была чем‑то насущнейшим и святым, недосягаемо высоким. Без нее жизнь обессмысливалась.
«Я счастлив тем, что пишу стихи, несмотря на мои годы, значит – я еще живу».
Виктор Михайлович Василенко (1905–1991) был крупным историком народного искусства и «скромным» поэтом, как он себя называл, с нещедрой литературной судьбой, слегка улыбнувшейся ему лишь на закате.
Родившись зимой, бредившей первой русской революцией, во Влоцлавске, уездном городе Варшавской губернии, где стоял корпус, которым командовал его дед – генерал, в потомственной военной семье, не бесславно послужившей отечеству, он умер неуютной московской осенью, на очередном российском изломе, последним в роду.
Виктор Михайлович помнил, что по материнской линии его род восходит к семье Григория Сковороды, которого «мир ловил, но не поймал»… Что его прадед Иван Иванович Василенко брал в плен жестокого Осман Нури пашу, сражался на Шипке…
Он многое помнил.
Я заглянул в письма, которые он мне беспокойно присылал в тот, по – настоящему первый год нашего знакомства. Познакомились‑то мы в начале октября предыдущего, 1984 года, но это было ритуальным знакомством редактора с автором. Тогда он подарил мне свою первую книгу стихов «Облака», вышедшую в 1983 году.
Правда, прочитав уже рукопись, я был о ней самого хорошего мнения, многое мне нравилось. Я в его стихах почувствовал нечто родственное. А в те времена отношения редактора с автором чаще всего напоминали японский театр масок. Каждый представлял, какая маска что означает, и тёртый автор распрекрасно знал правила игры. Как и опытный редактор. Когда автор был редактору мил и к тому же рукопись была принципиально проходима, тот делал все, чтобы действо завершилось счастливым концом.
Чтобы рукопись вначале получила одобрение маститого рецензента.
Потом попала в план.
Потом, уже при сдаче в набор, благополучно прошла препоны чтения завредакцией, контрольного редактора главной редакции, вплоть до подписи директора.
Принеся рукопись, выхода книги нужно было ждать года два в самом лучшем случае. А иногда лет десять.
А каково было Виктору Михайловичу ждать в его 80 лет?
Помогла рекомендация Расула Гамзатова, к которому заинтересованный пиетет имел тогдашний завредакцией Д., начальства боявшийся как огня. Хорошую рецензию написал Станислав
Куняев, бывший для издательства серьезным авторитетом. Книга попала в план. То есть все шло прекрасно, и «Птица солнца» через два с лишком года вышла. Сейчас книгу можно издать за два – три месяца. Но мало ли что можно сейчас! Тогда все было другое.
И время до выхода книги стало для Виктора Михайловича волнительно – тревожным. Многого не понимая (никто ему не растолковывал – как растолковать железную логику абсурда?) в издательской интриге, он переживал, сомневался, не знал, что предпринять.
Ушел Д. Завом стал П. Человек хваткий, понимающий поэзию по – настоящему. Но редко отказывавший себе в удовольствии ехидно, с чувством интеллектуального (пусть иногда и действительного) превосходства высмеять авторские слабости, недосмотры, тем более стихотворчество невысокого полета, плоды которого несли без устали. Нередко, увы, и издавали.
Одному смоленскому стихотворцу, мало симпатичному, но не без способностей, с пафосом рассказывавшему пакости о Твардовском, П. с прищуром предлагал: «Продай корову – издашь книжку!»
У тёщи стихотворца была корова. А книжки только что стало возможным издавать и за свой счет. Тот, пыхтя, сносил все шуточки.
Как‑то Виктор Михайлович приехал в редакцию, не зная, что я заболел, и его встретил П., ничего существенного не сказавший. Но тон! Этого было достаточно для переживаний. Он мне писал:
«Не знаю, какие он там сделал замечания, но я, конечно (я очень человек волнительный, да и все сомневающийся в своей ценности как поэта), расстроился необычайно. Конкретно он ничего мне не сказал, но бросил: “Есть однотипные стихи и замечания”. Надеюсь, что Вы там, где это будет возможно, меня защитите».
Я как мог защищал. С переменным успехом.
«Вернувшись домой, я стал понемногу приходить в себя после вчерашнего. Отбор стихов, ваша редакционная обстановка, шум и т. д. Все это очень тяжко… Когда я еще раз просмотрел отобранное, то мне стало очень горько, что не вошли многие хорошие, Вами отобранные и Вами ценимые стихи. Неужели некоторые из них нельзя вернуть? Я очень прошу Вас постараться это сделать», – писал он. И следом: «Могу же в чем‑то я остаться самим собой и не быть подвергнутым каким‑то мне неприятным изменениям… Восстановите что можно. Уговорите Владимира Алексеевича…»
Треволнений, которые понимает каждый в те поры издававшийся, было много. Наконец все осталось позади, и он приносил благодарность и мне, и Владимиру Алексеевичу, заключая, что он «все же человек неплохой», восклицая: «Теперь я не боюсь за мою скромную книгу!»
26 декабря 1986 года он мне писал: «Я счастлив тем, что держу мою вторую книжку. Это – чудесный для меня подарок к Новому году».
Виктор Михайлович был старше меня на целую жизнь. Ему было 42 года, когда его в августе
47–го посадили, а я только родился. И когда знакомишься с человеком, которому 80, а твоя жизнь вроде бы еще в разгаре, эта беспощадная разница встает пусть часто и призрачной, но стеной.
Кажется, мы понимали друг друга и разговаривали не через стену. Было лестно, что, даря мне книгу, он надписывал возвышенно старомодно: «Другу – поэту…»
И общались мы в самые последние его годы часто. Но было бы самонадеянной натяжкой говорить, что я знал Виктора Михайловича по – настоящему хорошо. Да и кто и о ком это может сказать? Несмотря на все иногда детское простодушие и открытость, он был, как всякий недюжинный человек, совсем непрост. Проживший жизнь такую долгую, что в ней почти не осталось «своего» времени, с новыми временами и поколениями, он волей – неволей был насторожен. И очень доверчив.
В одном из стихотворений он написал: «Чужое время нынче, не мое». Хотя и его время ему было явно не родным. Потому он непрестанно искал сочувствия, сопереживания, общения. И чем более одиноким становился, тем настойчивей – звоня, настигая письмами и стихами. И далеко не одного меня. Потому он преподавал до конца, уже в последний свой год, с огромными трудностями зимы 91–го года, когда и весь советский уклад стал рушиться, добивался по телефону такси, ехал в университет читать лекции. Ему это было нужно. Студенты его любили.
«Вы молчите: ни звонка, ни письма. Почему?»
«Ждал, откровенно говоря, письма от Вас в Нальчике, но, как понял, не получив его, что Вы очень заняты».
Заглянул в его письма, и мне стало стыдно. Стыдно за то, за что не было по – настоящему стыдно тогда. Особенно много он мне писал в 86–м году, когда шла работа над его книгой. А позже, большей частью во время отъездов – из Железноводска, Литвы… В Москве нас связывал телефон. Правда, время от времени он присылал стихи.
Его письмо от 29 марта 1986 года.
«Дорогой Борис Николаевич! Вы не очень гневаетесь на меня за то, что я Вам так много и так часто посылал стихи? Но хочу перед Вами несколько оправдаться. Я, как приехал из Литвы, не написал ни одного стихотворения: желания были, но ничего не выходило, муза, видимо, сочла, что ее присутствия в Литве было вполне достаточно, покинула меня; надеюсь, что в будущем она вернется: может быть, полетит к кому‑нибудь другому, более достойному, чем я, и задержится ненадолго у меня.
Не в силах что‑либо писать, я стал разбирать мои “закрома”, и если учесть, что я “писал всю жизнь”, то накопилось там этого “дела”, как Вы сами понимаете, немало. Даже то, что я извлек и напечатал в “Облаках”, передал теперь для печати к Вам, не исчерпывают всего, что я делал. Прошли ведь большие и многие годы; этим многое объясняется; причем хочу еще добавить, что я не так уж много писал, как можно было бы подумать с первого взгляда, но если принять во внимание то, что я писал давно, то не так уж много сохранилось;
из того, что писал, остались стихи, главным образом те, что были написаны после 1947 года, и немного тех, что раньше. Но Вы хорошо знаете обстоятельства и причины сего. И вот я стал опять разбирать то, что есть, и оказалось… что остается еще много. И как бывает, а так бывает: когда‑то многое казалось неудачным, были к этому основания, и основания сильные: …потому, что я менялся сам в моем отношении к моим стихам, менялись мои представления о их стиле и пр. и пр. Теперь, когда прошло много лет, я посмотрел на эти “создания моего вдохновения” и увидел, что они живые, что в них есть свежесть, сила, звучание ритма… и, главное, вероятно, энергия молодости, той молодости, которой уже нет в последних стихотворениях. А там все было “открытиями” мира, моими “встречами” с новой для меня природой (ведь, наверное, все же я поэт главным образом природы, понимая это широко, не узко; она проходит через все мои стихи, и без нее у меня почти ничего нет). Природа всегда была моим вдохновением, и мои стихи можно разделить на периоды: Крыма, отчасти Кавказа до 1947 года, затем – стихи, что рождались могучей и часто тяжкой и грозной природой Севера, Заполярья (она же, я уверен, помогла мне выжить; я, даже выходя в тундру на работу, смотрел широко раскрытыми глазами на красоту этой снежной природы, или летней, но суровой, и она спасала меня), затем идут периоды мои, связанные с моим возвращением к Кавказу, но уже сейчас это было его “открытие” через красоту, мир Армении, через ее Урартийские и пус тынно – величественные пейзажи, а также через новое возвращение в Крым.
Последние полтора десятилетия стали властно привлекать меня образы те, что рождались в угодьях Эльбруса, в царстве ему подвластных гор, тут, конечно, и мой, милый мне Железноводск, но не курортный, а другой, который я “увидел” через его древние, ветхие горы и леса. Рядом была, конечно, и чистая лирика, но ее у меня, как Вы знаете, не так уж много. Не уверен, верно ли говорю Вам о моей поэзии, не знаю, могу ли я вообще говорить о ней, ведь так могут говорить, наверное, только признанные большие поэты, а я фигура “мимоходящая”, писавшая стихи где‑то на отшибе от больших литературных веяний и устремлений века. Да, ведь писал‑то я так, словно находился в каком‑то мною созданном идеальном мире, где не было (или только издали доносились гулы) кипевшего и содрогавшегося мира: вероятно, это было не очень хорошо, ограничивало мою поэзию, лишало ее широты, но в то же время что‑то и давало. Возникали стихи, где я, уходя от мира, приходил к миру через природу, пытался уловить ее речи, ее голоса, особенно близки мне были горы, с их величественной, “надчеловеческой” жизнью, море, а потому это было естественно: жизнь деревьев, трав, камней, воды. Я начинал “слышать” их (так, я думаю, родился “Мой фавн”, так возникли его стенания, потому что многое было им утеряно и не все возвращено), “понимать” их. В этом меня, безусловно, научил, а я в значительной мере его ученик, певец Киммерии Максимилиан Волошин.
Если бы Вы знали, как жадно я в 30–е годы вчитывался в его стихи, как переписывал их, как от них сам “шел” к своим стихам! Вот и многое, что посылаю Вам, – тоже рождено в те годы, но уже после войны, в конце 50–х, 60–е годы, это “У Херсонесского музея”; “В ясный вечер в Крыму”, “Платаны, ель и лавр темнозеленый…”, “Ночь на Юге”, “Кипарисы” (“Разрушенная церковь…”), “Деревья” (“Как много их – зеленых и прекрасных…”), “Возвращение”, “Гроза” (“Опять стучат колеса грома…”), “Лес в грозу” (памяти С. Д. Спасского; мне очень бы хотелось, если Вы сочтете возможным, его напечатать, я много обязан этому поэту, делившему мое горе на Севере), “У Арагаца” и затем разные стихи “Северного” цикла. Я к этой теме возвращался все мои годы, вернее даже, не уходил от нее никогда, да и не мог уйти совсем. Может быть, вы что‑то и возьмете в мой сборник. Тогда перепечатайте сами (я, конечно, все тут же машинистке оплачу). В тех стихах, которые я привел выше, есть какая‑то крепость, сила, ясность и точность слова, что, мне кажется, делает их живыми и ныне. А моя ведь книжка будет, по сути дела, моим “избранным” изданием стихов (где только, конечно, не будет ничего из “Облаков”, оттуда и не надо) за многие годы и что мне очень, очень приятно – будут поставлены даты, это надо сделать обязательно. Если поэт печатает книгу за книгой, рождаются его стихи в отдельные периоды и издаются, то, конечно, можно и не ставить даты, но ведь у меня все иное. Вы это хорошо знаете. И я Вам за это знание и внимание благодарен…
Вот все, что я хотел сказать. Я прошу еще раз извинения за столь длинное письмо, но надеюсь, что Вы его будете не сразу читать все, а постепенно; я его написал быстро, сразу, как я это делаю в моем эпистолярном жанре, сразу на машинке. Я люблю именно такие письма: они получаются тогда живые, в них что‑то от невольно возникающего разговора, непринужденного, иногда уходящего в сторону, потом возвращающегося опять и находящего, казалось бы, уже потерянную нить темы.
Жму Вам крепко руку. Жду Вашего ЗВОНКА.
Искренне Ваш В. М. Василенко».
Все, кто знал Василенко, обязательно слышали от него робкий вопрос, который не давал ему покоя:
– Скажите, я поэт?
Став профессором, сделав в науке немало, в ней будучи известен, уважаем, авторитетен, он все время чувствовал себя непризнанным стихотворцем. Мало тех обычных сомнений в себе, которые кого только не посещают, даже Боратынский жаловался на свой «убогий» дар, так еще и десятилетия непечатания, писания «для себя»… И он неустанно всем, и мне, задавал с ребяческой настойчивостью свой «основной» вопрос при встречах. И в письмах:
«…очень жду Вашего мнения о стихах. Скажите: я все же поэт? Имею ли я право на это высокое звание? Кому нужны мои отвлеченные – о природе, о вымыслах – стихи? Будут ли их читать?»
«…Неужели я все‑таки поэт, конечно, небольшой, не обман ли это моего слуха и моего зрения. Вам я очень верю».
«…Я невольно задаю мне присущий вопрос, Вы его не раз слышали, поэт ли я? Да, есть ли во мне что‑то, что удержит мои стихи на волне времени? …Напишите, ради Бога, мне все же – я немного поэт? Имею ли свое поэтическое лицо?»
Когда вышел справочник членов Союза писателей, в который его приняли в 80 лет, он больше всего радовался тому, что «в скобках там указано: поэт».
Действительно мучительные сомнения в себе, стремление услышать хотя бы какой‑то отзвук в себялюбивом литературном воздухе, тот же сакраментальный вопрос, поэт ли он, делали его болезненно чутким и к равнодушию, и к доброму слову. Выписывая отзывы о своих стихах из писем друга юности, художника Вадима Викторовича Соколова, солагерника, литературоведа Юрия Константиновича Герасимова, высоко чтимого им Давида Самойлова, он делился своей радостью, присылая эти выписки, со мной. Да и не только со мной.
Особенно гордился Виктор Михайлович ахматовской надписью на ее «Подорожнике»: «Виктору Василенко с верой в его стихи». Он мне рассказывал, что Лев Адольфович Озеров в телефонном разговоре заметил ему, что обнародовать ее нескромно, это самореклама. «Я ему нахально заявил – “ну и пусть!”», – добродушно сказал Виктор Михайлович. Озеров судил как человек, про живший всю жизнь в литературе. А Василенко до конца боялся поверить, что он поэт. Чем скромнее сочинитель, тем более он нуждается в сочувствии и похвале.
Виктор Михайлович очень дорожил благосклонностью Давида Самойлова, который о его книге «Облака» писал, что ему «близки ее интонации, понятия, мотивы и посвящения», а свою книгу «Голоса за холмами» подарил с надписью: «Дорогому Виктору Михайловичу Василенко, поэту одной группы крови, с дружеской приязнью». Еще Самойлов посвятил ему стихотворение «Свободы нет. Порыв опасный…». Очень тронул Виктора Михайловича щедрый отзыв Самойлова о нем на поэтическом вечере в Ленинграде, о котором ему рассказали.
Последнее письмо от Давида Самойлова, с откликом на книгу «Сонеты», помеченное 15 февраля 1990 года, он получил через несколько дней после известия о его смерти. Смерть всегда придает сказанному некое иное значение. Вспоминается строка Марии Петровых: «Я получала письма из‑за гроба».
В письме был сонет. Самойлов любил сонетную форму в шутливых дружеских посланиях, не предназначавшихся для печати. Не знаю, опубликован ли этот – «В. М. Василенко, приславшему “Сонеты”»:
Спасибо! Как всегда, Ваш голос чист!
Вы бьете метко, словно арбалетчик.
Не знаю, как назвать
Вас: сонетист, сонетотворец или же сонетчик.
Стих лезет так и эдак. Он ветвист,
в нем много загогулин и засечек.
Сонет его на место ставит в лист
и обрамляет прочно, как багетчик.
Итак, «Сонеты» вышли. Им почет.
И хорошо, что не за чей‑то счет.
Мне драгоценно Ваше посвященье.
Теперь я буду каждый вечер
Ваш сонет читать ко сну, как «Отче наш»,
и ублаженный засыпать от чтенья.
Первые свои сонеты, которые он начал писать в 16–летнем возрасте и в которых подражал не кому‑нибудь, а Дельвигу, Василенко показывал еще Брюсову. Но, как и его друг Даниил Андреев, не печатался, от литературной жизни был далек.
Дружба с Даниилом Андреевым невольно определила многое в жизни Василенко. В почти каждой судьбе бывают роковые повороты, которые мы сами и выбираем, хотя долго считаем их случайностью. Свой арест Виктор Михайлович называл несчастьем.
Он занимался своим делом, сумел сказать о народном искусстве то, что до него сказано не было. Преподавал в университете. Был жив отец, умерший вскоре после его ареста. Рядом была Шурочка, жена. Жил книгами, поэзией. И вот тюрьма. Крушение. Несчастье, которого не ждал.
Не принимая страшную, чужую современность, он своими занятиями и увлечениями очерчивал, как гоголевский персонаж, круг, стараясь не видеть чудищ, роившихся в мглистом воздухе, и не спрашивая, как библейский пророк в его стихотворении, сколько ночи, приближается ли утро:
Был я зван на пир. На пиру
Опоили горячим вином.
Ночь еще за окном. Я умру.
Утра нет, еще ночь за окном.
Колотушкою сторож стучит
и зовет, будто хочет помочь.
Он идет, он стучит и кричит:
«За окном только ночь, только ночь!»
Даниил Андреев мучился главными, больными вопросами, искал ответов в литературе, неотрывной для него от религиозного мироощущения, в мистических откровениях. Василенко уходил в искусство и в поэзию, как в мир гармонии и лада. Он был созерцателем. Он и природу любил по – иному, чем его друг, уходивший с узелком и палкой в брянские немеречи, где рядом с ним бродила гибель и знойный день полыхал, «пресыщенный убийством и разбоем».
В своей поэме «Немереча» Андреев, словно бы уже прощаясь с жизнью, благодарно перечисляет «любимейших» друзей. Строчка «И девушке в глаза глядит другой» – о Василенко, как свидетельствует называвшая его Витей Алла Александровна Андреева. И говоря о тех тридцатых, сам Виктор Михайлович улыбчиво признавался: «Я тогда все время влюблялся».
В той же строфе можно найти некоторое доказательство того, что они могли познакомиться в
23–м году. Даниил Андреев говорит, что перечисляемые друзья сопутствовали ему «легендой голубою / Пятнадцать лет». «Немереча» начата в 37–м. Но закончена в 50–м, и значит, «пятнадцать лет» можно отсчитать и с 32–го по год их ареста.
В датах я, при жизни Виктора Михайловича многого у него не выспросив, сомневался. Сомневался потому, что он говорил: познакомил их Галядкин, Андрей Дмитриевич, его университетский однокашник. А в университет Василенко поступил только в 1926–м, после нескольких неудачных попыток. Неудачны они были из‑за непролетарского происхождения. Хотя, и Галядкин, как сын служащего (?!), был принят в Московский университет лишь на третий раз! Затем в одном месте Василенко пишет о том, что в Москву из Петрограда их семья переехала в 1921–м, в другом, что в 1923–м. Но на этом разнобой не кончается. В одной книге сообщается, что родился он в городе Холме Великолукской области, в других – что в Воцлавске.
Память у Виктора Михайловича была замечательная, до последних дней он внятно помнил многое, удивляя тем, что по памяти набирал многочисленные телефоны. Но почти всю жизнь его учили бояться, и в немалой степени собственной биографии. Особенно лубянские учителя. Может быть, отсюда эти разночтения?
Теперь опубликованы некоторые материалы следственного дела Даниила Андреева. Среди них допрос Галядкина от 5 марта 1941 года, на котором тот сообщает, что познакомился с Андреевым в
1932–м и что их близкое знакомство продолжалось недолго, что потом Андреев «наиболее сблизился с Василенко». И эта достоверность под знаком Лубянки. Ну что ж, пока примиримся с тем, что дату их знакомства назвать определенно мы не можем.
Вспоминая Даниила Андреева, их проводившиеся в разговорах и чтении стихов встречи в доме в Малом Левшинском переулке, Виктор Михайлович писал мне: «Потом я часто вспоминал эти вечера – ночи и любил уже в тюрьме, говоря о них моим друзьям (С. Спасскому), декламировать строки Влад. Соловьева другу: “Помнишь, – как бывало, – ночи те далеко, – тишиной встречала нас заря с востока”. На месте дома Дани теперь детская площадка, качели, желтый песочек. Скамеечки. Найдете время – в первые же дни поедем посидим там и я еще что‑нибудь расскажу…»
Не поехали, не посидели, ничего я не услышал. Кругом виноват.
В этом же письме такое воспоминание: «Даня любил сам читать свои стихи, читал удивительно музыкально, всегда стихи “звучали” в его исполнении. И потом давал их мне, и я их переписывал. У меня было дома около ста его стихотворений. Ими я очень дорожил. Он, как поэт, бесконечно был выше меня, оказывал на меня огромное благотворное влияние… Все его стихи, переписанные мной, были у меня изъяты при аресте и, видимо, тоже окончательно погибли (я уверен, что и у него не все сохранилось)».
В письме из тюрьмы, говоря о своих однодельцах, предполагая их тогдашнее состояние (это
55–й год, все сидят уже по 8 лет), Даниил Андреев замечал: «Думаю, что Василенко – еще хуже».
Юрий Константинович Герасимов, сидевший в Абези вместе с Василенко, напоминал ему в одном из писем: «…когда я встретил Вас, вы мне жаловались на старость, хотя еще были сравнительно молоды…»
Андреев хорошо знал своего друга, в котором, видимо, была склонность к громким жалобам, к интеллигентским возмущениям, которая так раздражала, например, его солагерника Анатолия Анатольевича Ванеева. Но Ванеев, человек волевой, сосредоточенный, последовательно логичный, да и в ту пору сравнительно молодой, был во многом противоположен Василенко. Об этом можно судить по лагерным запискам Ванеева «Два года в Абези»[2]2
См.: Ванеев А. А. Два года в Абези. Брюссель, 1990.
[Закрыть], где Василенко изображается весьма иронически. И пусть к тому поводы могли находиться, в Викторе Михайловиче было немало детского, почти инфантильного, наверное, он мог выглядеть в лагере и жалко, я не думаю, что Ванеев прав. А часто он и просто несправедлив. И хотя, судя по всему, ничего не присочиняет, взгляд его холоден и ироничен.
Вот он пишет о Викторе Михайловиче: «Будучи книголюбом, он питал зависть к Пунину, в обладании которого была книга Алпатова. Зная об этом, Пунин подарил ему эту книгу. Пунин вообще несколько опекал московского искусствоведа, однако подчас обращался с ним так, словно находил для себя удовольствие дразнить его. Отношения между ними были странным соединением взаимных нападок и взаимной же нужды друг в друге».
Я думаю, это была светлая зависть. И Пунин, видимо, по – своему любил Василенко, так как самые теплые отношения часто прикрываются и ироническими репликами, и страстными несправедливостями, и резкими словами. Тем более, что надо иметь представление о характере самого Николая Николаевича Пунина, который ко всему был куда старше Василенко.
Вот что он написал в мае 1951 года на подаренном втором томе «Всеобщей истории искусств»: «Милому Виктору Михайловичу Василенко во искупление абезьских обид на светлую память». После своего освобождения Виктор Михайлович передал книгу И. Н. Пуниной[3]3
См.: Пунин Н. Н. Мир любовью светел. Дневники, письма. М., 2000. С. 505.
[Закрыть].
Виктор Михайлович и в старости кое у кого вызывал ироническое отношение, и это, как правило, были люди с немалым самомнением. А его скромность и простота бросались в глаза. Кстати, сам он, прочитав воспоминания Ванеева, на автора не обижался, говорил о нем хорошо. Благородство Виктора Михайловича было настоящим, без пафоса.
Алла Александровна Андреева рассказывала, как она, только что вернувшись из лагеря и хлопоча об освобождении мужа, пришла в прокуратуру и в дверях столкнулась с Василенко.
– Не говоря ни слова, – вспоминала она, – Витя взял меня за плечи, развернул, и когда мы оказались в стороне от ужасной двери, повел под руку и стал говорить.
Он категоричным голосом заявил, чтобы она выслушала все, что он ей скажет, о чем его спрашивали сегодня и как он отвечал, все запомнила, вернулась домой, обдумала и возвращалась сюда лишь завтра, чтобы не наделать глупостей.
Глупостей она не наделала. Потом признавалась: «Он спас не только меня и Даниила, он всех нас спас».
И с Аллой Александровной он меня познакомил. В 76–м еще году я услышал о «Розе Мира». Мне предложили прочесть ее, самиздатскую ксерокопию, убористую, переплетенную. Узнав, что это книга мистическая, «о путешествиях в иные миры», я отмахнулся. Потом, слушая скупые рассказы Виктора Михайловича о друге, я и не представлял себе, кто это Даниил Андреев и что он написал. Непростительная нечуткость? Или инстинктивное ощущение того, что встреча преждевременна?
Но вот в «Новом мире» в 1987–м я прочел его стихи и сразу же позвонил Василенко: «Виктор Михайлович, мне очень хочется издать книгу Даниила Андреева». Он передал наш разговор Алле Александровне, та примчалась с юной порывистостью, какой она отличается и сейчас, даже ослепшая, в редакцию с рукописью.
Но мои занятия наследием Даниила Андреева – иная история. Хотя без Василенко ее не было бы. Кое что о дружбе с автором «Розы Мира»
я у него узнал, успел расспросить. А главное, само наше знакомство позволило мне ощутить, что это были за люди, та московская интеллигенция, довоенная, те герои андреевского романа «Странники ночи», которых роман‑то и привел в сталинские тюрьмы и лагеря.
У меня сохранились записи, обрывистые, бестолковые, того, что мне рассказывал Василенко о Данииле Андрееве, своем друге. Сделал я их, как помечено, 16 апреля 1988 года.
Приведу лишь то, что не попало в опубликованные воспоминания Виктора Михайловича[4]4
См.: Андреев Д. Собр. соч.: В 3 т. (4 кн.) М., 1997. Т. 3, кн. 2. С. 385–396.
[Закрыть]. Рассказывал он не слишком связно, перескакивая от эпизода к эпизоду, отвечая на мои вопросы. Еще более пунктирно я записывал.
Здесь‑то и обозначена дата знакомства с Даниилом Андреевым, о которой он говорил, – 1923 год.
– Даниил Андреев любил встречаться с друзьями вечерами, и сидели они, разговаривая долго, до 2–3 часов ночи. О чем только не беседовали.
– Даня рассказывал об отце, что тот в прежней жизни был современником Христа и видел, как вели Его на Голгофу. (Чуть иначе об этом говорится в «Розе Мира».)
– Очень любил свою приемную мать, Елизавету Михайловну Доброву, и когда та умерла (1942), просил меня ночь побыть с ним у ее гроба…
– В доме Добровых был всеми любимый пес, который иногда лаял, подскакивая вверх…
Рассказывал Виктор Михайлович, что Даниил был влюбчив, упомянул какую‑то знакомую из театра Вахтангова…
– Он любил читать богословские книги, гораздо меньше, чем литературой, интересовался живописью…
– Был очень хорошим товарищем. И мы были очень откровенны друг с другом, обсуждали все события. Я помню его стихи о бесах, носящихся вокруг мавзолея Ленина. Он читал мне свои законченные стихи, недописанные, неотделанные он не читал. Некоторые я переписывал.
– В моем стихотворении «Дракон» есть строфа, которую любил Даня. (Я не записал, какая строфа. Стихотворение помечено 1971 годом, но в него могла быть включена и строфа, написанная куда раньше. Может быть, эта, с гумилевским мотивом, отличающаяся от остальных:
Я коснулся его руками.
Отвечал теплотою камень.
Я увидел: дракон рогат.
Был он тяжек, былинного веса,
и лежал, обращенный к лесу,
как простые камни лежат.)
– Во время войны встречались редко. Помню, что в сорок втором году мы не верили в немецкие душегубки, в зверства фашистов… После войны долго не встречались, в 1946–м, 1947–м виделись раза по два в год…
Не все, что рассказывал Виктор Михайлович, было безукоризненно точным. Он, например, упомянул, что Даниил Андреев знал санскрит и древнееврейский. Алла Александровна это справедливо отрицает. Но любопытно само впечатление, которое производил Андреев своей эрудицией, знаниями. Сообщал о том, что в детстве Даниил побывал в Оптиной пустыни, о чем иные источники умалчивают. Но ведь и эта деталь характеристическая.








