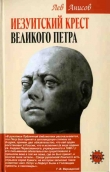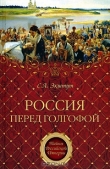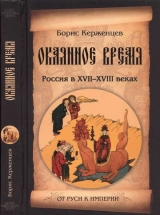
Текст книги "Окаянное время. Россия в XVII—XVIII веках"
Автор книги: Борис Керженцев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
1669 год вообще выдался тяжелым для царя. Тогда, кроме жены, умерло еще двое детей: младенец царевна Евдокия и четырехлетний Симеон.
Но трагедия в царской семье была лишь звеном из целого ряда бедствий, сыпавшихся на Московское государство подобно «казням египетским». 1669 и следующий, 1670 год – выдались неурожайными. Царю писали в челобитных из разных мест, прося помощи: «Учинился хлебу большой недород, и многие люди из домов своих разбежалися и помирают голодом… Стало оскудение велико». Другим несчастьем, помимо голода, были громадные пожары, испугавшие не столько трагическими последствиями, сколько причинами своего происхождения. Не от чего иного, а от ударов молнии погорели почти целиком множество городов, среди которых такие крупные центры, как Ярославль и Нижний Новгород. Пожар в Москве уничтожил едва не больше половины столицы.
Но не прошло и нескольких месяцев после смерти супруги, как царь завел близкие отношения с одной из придворных дам, замужней женщиной, женой комнатного стольника Алексея Мусина-Пушкина {62} . От этой связи родился сын Иван, которого Алексей Михайлович иногда открыто именовал: «мой сын Пушкин» {63} . Хотя в дате рождения Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина существуют некоторые расхождения, позволяющие усомниться в его появлении на свет именно в это время, все-таки невозможно игнорировать указания, подтверждающие его происхождение от незаконной связи царя [21]21
Петр Первый знал, как и многие, о том, что Иван Мусин-Пушкин его единокровный брат. В одном из писем, отправляя заграницу сына Ивана Алексеевича, Платона, император пишет: «Посылаем мы к вам, для обучения политических дел, племянника нашего, Платона…». – Записки князя Петра Долгорукова. СПб., 2007. С. 203.
[Закрыть].
Иван Мусин-Пушкин за короткое время сделал блестящую карьеру, молодым был пожалован боярством и «участвовал в придворных церемониях наряду с членами царской семьи» {64} . Впоследствии, при Петре, он был одним из самых близких к нему людей, обладавших большим влиянием, стал первым сенатором и всегда был окружен вниманием и уважением, которые можно назвать исключительными.
Однако, несмотря на временные увлечения, Алексей Михайлович решил заново жениться, и с ноября 1669 года начались официальные смотрины по выбору царской невесты. Этот увлекательный процесс не остановила даже новая трагедия в семье царя Алексея. В начале 1670 года умер наследник, 16-летний царевич Алексей Алексеевич. А в апреле было объявлено имя будущей царицы – Натальи Нарышкиной.
Еще до свадьбы по Москве распространились неприятные для царя слухи о том, что его избранница, дочь стрелецкого полковника Кирилы Полуектовича Нарышкина, девица не самых строгих правил. Говорили, что во время службы ее отца стрелецким головой в Смоленске она даже имела связь с неким польским дворянином.
Слухи довольно быстро пресеклись, когда нескольким любителям посплетничать вырезали языки и выпороли кнутом. Но характер новой царицы, ее манеры и образ жизни все-таки зримо отличались от се предшественниц. С первых шагов во дворце она начала смело испытывать на прочность старые обычаи, показывая свое нежелание жить затворницей. Резидент герцога тосканского Яков Рейтепфельс сообщал своему патрону о новой супруге Алексея Михайловича: «царица Наталья… по-видимому, склонна пойти иным путем, к более свободному образу жизни, так как, будучи сильного характера и живого нрава, она отважно пытается внести повсюду веселие. Это можно было уже предсказать по выражению лица ее, когда мы имели случайно счастье видеть ее еще в девицах два раза в Москве».
Наталья Нарышкина обладала, по-видимому, яркой и запоминающейся внешностью. По описаниям того же современника, девятнадцатилетняя царица была «роста выше среднего, с черными глазами навыкате, лицо у нее кругловатое и приятное, лоб большой и высокий, и вся фигура красива, отдельные члены тела крайне соразмерны, голос, наконец, приятно звучащий, и все манеры крайне изящны».
Будущая мать Петра Первого некоторое время жила воспитанницей в доме дальнего родственника, скорее – свойственника, Артамона Матвеева. Это обстоятельство, а также внешние данные девушки стали залогом того, что царь обратил благосклонное внимание именно на «племянницу» своего любимца.
Жизнь у четы Матвеевых, явно ориентировавшихся в своих вкусах и привычках на иноземцев, не могла не отложить отпечатка на мировосприятие Натальи Кирилловны. Оказавшись хозяйкой во дворце, внутренний быт которого уже был нарушен последними церковными нестроениями и появлением людей с новыми эстетическими взглядами, молодая царица тем с большей легкостью могла пренебрегать прежними условностями и обременительными ограничениями.
Именно здесь берет свое начало та самая «людскость», иначе говоря – светскость, введение которой с таким воодушевлением приветствовали историки XVIII—XIX веков и в большинстве своем приветствуют до сих пор их преемники. Но в действительности эта перемена означала в первую очередь падение нравов в высших слоях общества. То, что считалось раньше грехом и распутством, благодаря понятию «людскости» становилось всего-навсего галантностью, достоинством из числа не просто терпимых, но непременных для придворного кавалера.
Одной из первых жертв «людскости» стал сам реформатор Петр. До самой смерти императора мучили настойчивые слухи о том, что на самом деле он не является сыном царя Алексея. Упорно передавали за верное, что Наталья Кирилловна родила сына от связи с Тихоном Стрешневым.
Но здесь важна не сама сплетня. Толки о незаконном происхождении того или иного царевича были достаточно обыденным делом. Важно, как именно она была сплетена. При сомнениях в происхождении Алексея Михайловича, например, никому и в голову не приходило говорить о прелюбодеянии царицы Евдокии Лукьяновны. Это было немыслимо, ни практически, ни теоретически почти невозможно. Толковали, что царевич Алексей «подметный», т.е. подменный ребенок. Во второй половине столетия нравы переменились.
Но и среди высшей знати не все были готовы в одночасье предать дедовские обычаи и благочестие в угоду новым вкусам. При дворе Алексея Михайловича существовала консервативная оппозиция, включавшая в себя представителей многих древних и влиятельных родов.
На первых порах эта оппозиция была не слишком активной. Только впоследствии она выплеснулась в нескольких ярких вспышках открытого противостояния, как случилось во время стрелецкого бунта под руководством князя Хованского, или еще позднее в антипетровском заговоре братьев Пушкиных и Соковниных.
Но в большинстве случаев боярство выступало не столько против церковной реформы, довольно легко отказавшись от двоеперстия, сколько против перемен в традиционном укладе жизни, против иноземных нравов при дворе и вообще увеличения числа иностранцев.
Ошибочно было бы полагать, что люди, принявшие перемену обрядов, все вдруг стали западниками. Многие искренне были уверены в том, что можно оставить все по-старому и с новым церковным уставом. Консерваторы не только противостояли покушениям на традиционные устои русской жизни, но временами переходили в успешное контрнаступление. Огромных усилий стоило Артамону Матвееву в 1674 году отклонить настойчивое требование многих бояр, во главе с князем Ю.Л. Долгоруковым, выслать из России всех иностранных резидентов.
Придворным западникам, таким как Матвеев, постоянно приходилось отбивать атаки консерваторов, нападавших на любые проявления иностранного влияния. Но в 1675 году усилия защитников старины увенчались успехом. Стараниями патриарха Иоакима вышел царский указ, серьезно ограничивавший распространение иноземных обычаев. Под страхом строгого наказания и церковного взыскания воспрещалось носить иностранную одежду, «немецкие» кафтаны, прически, брить усы и бороду.
Консерваторы могли праздновать победу, не осознавая всей ее иллюзорности. Для успешного противостояния соблазнам иноземной культуры, проникавшей во все области частной и общественной жизни, надо было обладать более действенным оружием, чем запретительный указ. Но что могли противопоставить начавшемуся вторжению мощной западной цивилизации люди, всенародно признавшие собственную церковную старину еретическим заблуждением, публично проклявшие и отказавшиеся от нее, объявившие русских святых и царей, живших до реформы, «грамоты не знавшими», глупыми, темными людьми?!
Очень скоро непоследовательное сопротивление консерваторов будет задавлено уже окончательно, а сами они поспешат встать в ряды самых горячих сторонников новой культуры.
Исповедовавших древлеправославие людей среди знати было не так уж и много, и уж тем более никто из них не решался открыто осуждать церковных нововведений. Только две женщины встали непреклонно на защиту старой веры, устыдив подвигом мученичества малодушных.
Боярыня Феодосья Морозова и ее сестра, княгиня Евдокия Урусова, не приняли троеперстия и прочих обрядовых новин, как и кощунственной хулы греческих иерархов на древлеправославные каноны. Они последовательно и стойко отказывались от любых компромиссов со светскими и церковными властями, были разлучены с детьми, лишены достояния, подвергнуты пыткам и, в конце концов, уморены голодом в монастырской земляной тюрьме.
Богатый дом Морозовой в Москве был настоящим староверческим кремлем, куда сходились все нити церковной оппозиции – оказывалась материальная помощь единоверцам, покровительство гонимым. Но самое главное – отсюда поддерживалась связь с пустозерскими отцами, с Аввакумом и его соузниками, переписывались во множестве списков и распространялись по стране их духовные наставления.
Открытый конфликт с царем у Феодосьи Морозовой произошел в январе 1671 года, когда она отказалась участвовать в свадьбе Алексея Михайловича с Нарышкиной, где должна была исполнять придворные обязанности при невесте. Сославшись на болезнь, боярыня осталась дома. В действительности она уже и не могла выполнить волю царя. Морозова решила покончить с обременявшей ее душу раздвоенностью, которую испытывала все эти годы, не порывая явно с царским двором и невольно разделяя то, что там происходило. В декабре 1670 года Феодосья Прокопьевна тайно приняла монашеский постриг под именем Фсодоры от игумена Досифея, одного из непримиримых противников новообрядчества.
Восприняв отказ боярыни явиться на свадьбу как личный вызов, царь Алексей был в ярости, но не спешил с карательными действиями. Он только мрачно произнес тогда: «Тяжко ей братися со мною – един кто от нас одолеет всяко…»
История обреченнного, но несгибаемого подвижничества за веру Фсодосьи Прокопьсвны Морозовой подробно и трогательно изложена в источниках [22]22
В «Повести о боярыне Морозовой» и известном сочинении протопопа Аввакума, духовного отца Феодосьи Морозовой – «О трех исповедницах слово печальное».
[Закрыть], а также повторена в большом количестве позднейших произведений о церковном расколе, поэтому нет смысла останавливаться в очередной раз на последовательном изложении событий. Здесь важно обратить внимание на то, как смотрели на существо противостояния одна и другая стороны конфликта.
С самого начала церковных преобразований в позиции царя и его окружения проявляются два примечательных обстоятельства: непримиримое преследование противников реформы, вплоть до соборного проклятия двоеперстия и всех придерживающихся его как величайшей ереси – и, одновременно, практически полное безразличие, на грани пренебрежения, к нововводимым обрядам. Это по меньшей мере странное отношение проявилось еще в словах Никона, бросившего своему помощнику в порче древлеправославных текстов, Арсению Греку: «Правь, Арсений, как хочешь, лишь бы не по-старому!..»
Точно такую же позицию демонстрирует и царь Алексей. Видя, что никакие преследования не способны испугать защитницу древлеправославия, Алексей Михайлович понял, что единственный способ заставить се замолчать – попросту убить. Но по ряду причин он долго не мог решиться на этот последний шаг. Странно все-таки было представить себе казнь знатнейшей аристократки, родственницы многих бояр, заседавших в царской Думе, не чужой и царскому дому. Кроме того, не хотелось умножать и число мучеников старой веры в глазах народа. Дойдя до края, испробовав лютые пытки, разные способы психологического воздействия, лишив Морозову всего имущества, царь вдруг остановился и решил изменить тактику. Он пробует уговорить мятежницу. Для этого к ней постоянно приходят то священные лица, то родственники, предлагая от имени царя фактически сделку.
Они передают слова Алексея Михайловича: «Дай мне таковое приличие людей ради, что аки недаром тебя взял: не крестися тремя персты, но точию руку показав, наднеси на три те перста»!..»
Двоюродный брат Морозовой, Федор Ртищев, также уговаривает ее: «Сестрица, потешь царя того и перекрестися тремя перстами, а втайне, как хощешь, так и твори. И тогда отдаст царь холопей и вотчины твоя».
А новые посланники из дворца не скупились на еще более заманчивые обещания Алексея Михайловича: «Мати праведная Феодосия Прокопиевна! Послушай, аз пришлю по тебя каптану (карету) свою царскую и со аргамаками своими, и приидут многие боляре, и понесут тя на головах своих…»
Царь как будто искренне не понимает, что занятая им позиция странно выглядит с точки зрения верующих людей. Он откровенно признает, что для него не имеет никакого значения не просто то – как молится, но и как по-настоящему верует тот или иной человек. Его волнует только одно «приличие» – внешняя лояльность режиму. Здесь Алексей Михайлович изменяет всей традиции русских государей, считавших душевное спасение подданных своей главной обязанностью, за что они должны дать личный ответ перед Богом. Из мироощущения царя Алексея очевидным образом исчезает искренняя религиозность, и ей на смену приходит казенное желание «порядка», безотносительно того, на какой основе он утверждается – канонической или нет. Спор Феодосьи Морозовой и царя – это спор не о вере, а снова, как и в столкновении Аввакума и А. Матвеева, – противостояние веры с начинающимся безверием.
Не говоря о том, что сам факт соблазнения подвижницы образами мирского величия, нарисованными по царскому приказу перед инокиней Феодорой, должны были служить в глазах современников не в пользу царя.
Внутреннее перерождение Алексея Михайловича было действительно очевидным и глубоким. С ним произошло то, что обычно называется «обмирщением» сознания. По эмоциональному, но очень точному замечанию П. Паскаля: «Несчастный был теперь уже совершенно не способен понять сомнения и чаяния тех, кто в его глазах были отныне лишь невеждами, упрямцами и мятежниками» {65} . Царь Алексей так скоро и невозвратно оторвался от всей древнеправославной духовной традиции, что ответ инокини мог не устыдить, а только раздражить его. Феодора в горьком недоумении проговорила: «Оле глубокаго неразумия! О великаго помрачения! Доколе ослепосте злобою?.. Каптаною мя своею почитает и аргамаками!.. Аще-де и умру, не предам благоверия! Издетска бо обыкла почитать Сына Божия и Богородицу, и слагаю персты по преданию святых отец, и книги держу старые; нововводная же вами вся отмещу и проклинаю вся!.. Аз бо о имени Господни умрети есть готова!»
В православной Москве середины XVII столетия повторялся тот духовный кризис, который уже пережил западный христианский мир дважды – в период «Возрождения», когда громко и властно заявила о себе культура, свободная от «страха Божия», и в эпоху после кровопролитных религиозных войн XVI – начала XVII века, когда из перегоревшего пуританского воодушевления возникли и стали определяющими приметами жизни: материализм, буржуазные ценности, религиозный индифферентизм и секуляризация сознания.
Обмирщение всего московского общества шло очень быстро. И правительство, и обыватели забыли, что само присутствие иноземцев и знакомство с их культурой было только временной вынужденной мерой, что цель состояла в наверстании технического отставания. Но этой утилитарной задачи как раз и не было еще выполнено, когда стало покрываться трещинами все нерушимое веками здание «пресветлого православия». Иностранцы со всех концов света беспрепятственно прибывали и прибывали в Москву, привозя все новые диковинки, отвлекавшие москвичей от аскетических обычаев предков, пробуждая новые мирские вкусы.
Иноземное становится модным. Несмотря на робкие правительственные запреты, люди Московского государства активно заимствуют у иноземцев бытовые привычки, манеру одеваться, строить и украшать жилище. Да и какие запреты могли иметь действие, если было известно, что сам царь Алексей устраивает у себя «вверху» пирушки под немецкую музыку, что царских детей учат латинскому языку и одевают в иноземное платье? Что новый царь, Федор Алексеевич, тайно ездит в Немецкую слободу посмотреть своими глазами на обычаи иностранцев, на особенности их быта…
Определяющей чертой культурной жизни Москвы этого времени становится культура барокко. Невольно подчиняясь слишком сильному еще влиянию старой русской традиции, новый стиль значительно адаптируется к местным особенностям. Он лишен здесь самых ярких форм своего выражения, в которых стал известен на Западе. Умеренность и сдержанность – таков боевой девиз, под которым культура испорченных нравов, порока и антицерковности проникает в русские пределы.
Но это только временная тактика. Еще те, кто родился в Москве до реформы Никона и кто доживет до начала нового века, застав его первое десятилетие, будут иметь возможность посмотреть своими глазами на перерождение нравов в отечестве.
Однако и на первых порах перемены были достаточно заметными. Менялся облик прежней архитектуры – начало так называемого «московского барокко», предвестника безжалостного вторжения чужого архитектурного стиля, уничтожившего в конце концов все следы традиционного облика жилых зданий и церквей в России.
В иконописи происходил отказ от старых традиций аскетического письма в угоду новым вкусам, превратившим священные изображения для молитвы, создаваемые по строгим древним канонам, в досужее и праздное развлечение для глаз, ничем не отличимое от светской живописи.
В это время появляется большое число переводных историй, среди которых преобладают рыцарские романы и любовные приключения. Они совершают переворот в чтении жителей Московского государства, революцию в самом отношении к литературе. Как и перемены во всех остальных областях быта и культуры, теперь чтение обретает в первую очередь функцию развлекательную. Книгу приобретают для «прохлаждения», для того, чтобы удовлетворить досужее любопытство, «потешиться». Этой же цели служит украшение текстов иллюстрациями-лубками. Сами заглавия манят читателей такими эпитетами к повестям, как «дивная» или «удивления достойная».
Утрачивается старое отношение к книге, вне зависимости от того – печатная она или рукописная, как к духовному наставнику, источнику благочестивых познаний для укрепления в вере. Ревнитель старины, стольник Иван Бегичев упрекал размножившихся любителей «легкого чтения»: «Все вы кроме баснословные повести, глаголемые еже о Бове королевиче и мнящихся вам душеполезные быти, иже изложено есть от младенец, иже о куре и лисице, и о прочих иных таковых же баснословных повестей и смехотворных писм, – божественных книг и богословных дохмат никаких не читали…» {66} . Эти перемены не могли не тревожить людей, предвидящих, что новшества не остановятся, будут развиваться до тех пор, пока окончательно не уничтожат прежнюю религиозную культуру.
Намечается ослабление в людях родового чувства, крепкого до той поры. Утрачивается память о прошлом семьи и духовная связь с предками. Это прослеживается по поминальным записям, подаваемым в церковь или монастырь для поминания душ усопших родственников. В отличие от записей, относящихся ко времени до середины XVII века и содержащих нередко перечни предков до отдаленных колен – в 200 и более лет, поминания конца столетия уже ограничиваются, как правило, только ближайшими родичами, именами дедов {67} .
Все эти трансформации традиционных начал культуры и быта коснулись в первую очередь знати и царской семьи, а также городских обывателей, хотя далеко не всех. В.О. Ключевский писал об этом: «Любопытно следить за московскими верхами, как они падко бросаются на иноземную роскошь, на привозные приманки, ломая свои старые предубеждения, вкусы и привычки» {68} .
Короткое царствование Федора Алексеевича стало настоящим прорывом в перемене «вкусов и привычек» знати. Еще С.М. Соловьев придавал этому времени чрезвычайное значение, считая, что именно тогда Россия, в лице своего правительства, как бы решительно повернулась лицом от Востока к Западу. Однако вряд ли такой шаг можно приписать на долю слабого царя Федора, большую часть своего правления не выходившего из покоев ввиду бесконечных недомоганий. Его личные пристрастия были, конечно, на стороне новых нравов. Все его окружение представляло собой талантливых людей нового склада, причем и сам молодой царь не был заурядной личностью. Даже Аввакум отзывался о Федоре, что он «летами молод, да разумом стар». Но все-таки не он был инициатором этого революционного перелома, который начался много раньше и в лице Федора Алексеевича и его друзей встретил только доброжелательных помощников для своего развития.
При Федоре усиливается и углубляется полонизация русской культуры. Вся жизнь этого царевича была причудливо связана с Польшей. Он воспитывался под руководством Симеона Полоцкого, мировоззрение и вкусы которого были сформированы польским католицизмом. Некоторое время рассматривалась возможность женитьбы Федора на вдовой польской королеве и занятие им польского престола. Этот проект был особенно близок сердцу новой царицы, Натальи Кирилловны, которая, удалением старшего наследника из России, надеялась освободить дорогу к русскому престолу для своего недавно родившегося сына, Петра.
Брак с королевой не состоялся, но женился Федор все-таки на полячке. В июле 1680 года состоялась свадьба царя с Агафьей Грушецкой, дочерью обрусевшего польского шляхтича.
Молодая полячка была хозяйкой во дворце только один год, до своей смерти в 1681-м. Но ее эмансипирующее влияние на обычаи и моду при дворе оказалось еще ощутимее, чем известной свободой своих нравов предшественницы, вдовой царицы Натальи Нарышкиной, вынужденно удалившейся тогда в Преображенское.
Грушецкая решительно взялась за преобразование двора болезненного супруга по своему вкусу. По сообщению современника, ее соотечественника, царица настояла на том, чтобы отныне разрешено было «брить бороды, носить сабли сбоку и одеваться в польские кунтуши» {69} .
Сама царица Агафья предпочитала древнерусским одеяниям платья по европейской и польской моде. Ее примеру очень скоро последовали женщины из царской семьи и придворные боярыни. По свидетельству того же поляка, царевна Екатерина Алексеевна «носит платье и шапку в польском вкусе, забросила московские кафтаны, перестала заплетать волосы в одну косу. Царевна Мария… одевается по-польски».
Но снова следует помнить, что распространение подобных новшеств нельзя приписать одной царице. Еще в 1676 году, в самый разгар действия «антииноземного» указа, явившегося как результат охранительных усилий патриарха Иоакима и бояр-консерваторов, переписные книги фиксируют существование в Москве, в Мещанской слободе, множества мастеров, специализирующихся на изготовлении одежды по иноземным образцам. Удовлетворяя растущему спросу, эти мастера делали околыши шапочные «на немецкую руку», «немецкое платье», «шапки… сапоги и башмаки немецкие», чулки «польские» {70} .
В октябре 1681 года выходит царский указ, который многими историками рассматривался и рассматривается до сих пор, как настоящая реформа в придворной одежде. Как бы то ни было, но последствия указа, которым отменялись такие древние формы придворной одежды, как опашни, ферязи и охабни, были очень значительны. Сама реформа проводилась неожиданно жесткими, прямо петровскими методами. В кремлевских воротах стояла стража, насильно раздевавшая тех, кто приходил в старинных костюмах. «И со многих людей в Кремле городе по воротам, и с дворян, и с подьячих охабни и однорядки здирали и клали в караульню до указу».
Наступление на традиционное русское платье скоро распространилось и за пределами дворца. Иноземец Шлейсингер, приехавший в Москву через четыре года после указа о перемене придворного платья, так передавал свои впечатления от повседневной одежды москвичей: «Некоторые еще ходят по старому русскому обычаю… некоторые – почти так же, как и поляки…»
Любопытно выглядит художественное убранство внутренних покоев царского дворца. В личных комнатах Федора на стенах соседствуют «…Образ Воскресения Христова на большом полотне, Распятие Господне, и на полотне ж персона царя Алексея Михайловича… да персона французского короля, да короля польского…» {71} . С одной стороны, здесь представлено смешение двух культурных традиций, соседство старого и нового, еще не решивших друг с другом окончательно спора о первенстве. Но многие приметы говорят за то, что это только временная заминка, и не оставляют никакого сомнения в исходе.
Прежние вековые традиции, национальные обычаи оказались в царствование Федора в таком приниженном положении по сравнению с поднимавшей голову новизной, что это стало пугать даже людей, в принципе сочувствовавших движению к переменам. Друг и ученик С. Полоцкого, сторонник внедрения в России светского образования по западному образцу Сильвестр Медведев, так отзывается о годах царствования Федора Алексеевича: «Презирая искусных мудрых и в старости сущих людей, всякие новые дела в государстве… покусишася вводити, иноземским обычаям подражающе».
В 1682 году было отменено местничество, представлявшее собой древнюю систему служебных отношений между придворными, при которой назначение человека на ту или иную должность не могло произойти даже по личному желанию царя, а исключительно в соответствии со служебным положением предка назначаемого. В самом упрощенном виде местничество можно описать таким образом: например, если назначались воеводами в один полк два человека, князь Воротынский и князь Ромодановский, то нельзя было сделать Ромодановского главным воеводой над Воротынским, если отец Ромодановского был в свое время в подчинении у отца Воротынского, что подтверждалось записями в служебных книгах.
Но существовало множество дополнительных обстоятельств, часто весьма запутывавших эти служебные счеты, поскольку местничество было основано на древней родовой иерархии, при которой все члены семьи находились в строго определенных отношениях друг с другом. Братья, дяди, племянники, двоюродные братья были не просто родственниками, равными людьми, но «считались» старшинством. Древний лествичный счет утверждал такую иерархию, по которой после отца старшим в семье становился следующий по старшинству брат, и так далее, до четвертого брата. Затем вступало в силу правило: «старшего брата сын четвертому дяде в версту» – иными словами, равен ему. Когда исчерпывался круг поколения отца и его братьев, старшинство в роде переходило к старшему сыну старшего брата, затем к старшему сыну второго брата отца…
На этой старинной родовой «лествице» было основано местничество. Со временем система счетов запутывалась. Дворцовым дьякам приходилось раскрывать разрядные записи, в которых отмечалась служба предков за последние иногда сто и более лет, и смотреть, какой же род был все-таки «больше» в служебном отношении. Но московские знатные семьи были многочисленны, дробились на множество боковых ветвей, и дьякам нужно было учитывать в своем приговоре все это многообразие служб.
Но все же местничество, несмотря на сложность практического применения, имело важное символическое значение – прямой осязаемой связи с предками, высоко поднимало значение семьи и рода в жизни человека. Отмена местничества, упростив назначение на должности, убила еще одну древнюю традицию. Вряд ли случайным оказалось хронологическое совпадение уничтожения местничества и уже упоминавшегося сокращения поминальных записей, когда в поминаниях конца XVII века остались имена только ближайших родственников, а все поколения более дальних предков были исключены и из церковных поминаний, а скоро и из семейной памяти.
С отменой местничества были демонстративно сожжены старые разрядные книги, хранившие в себе перечни старинных боярских служб. Вместо них молодой царь распорядился составить первую Родословную книгу, в которую следовало включить сведения об истории происхождения знатных придворных родов. Данные должны были подавать сами дворяне. Книга заполнялась постепенно, но примечательно, что в ней все «благородные» русские фамилии показали своим предком – иноземца. Семейные «корни» оказывались разнообразными, и дальность их распространения за русские пределы была ограничена только фантазией тех, кто подавал записи в родословец. На самом деле, конечно, эти легенды не имели никакого исторического основания, и абсолютное большинство служилого дворянства происходило от национального корня. Но тенденция была очевидной: атмосфера при дворе делала предка-татарина или прадеда-чухонца предпочтительнее пращура русской крови.
Одной из заметных знаковых перемен в жизни высшего класса при Федоре стало и введение дворянских гербов. Оно также было следствием начавшегося подражания Западу, и главным образом Польше. Русское дворянство становилось «шляхетством», как его и будут официально именовать в следующем, XVIII столетии.
Но это подражание имело гораздо более глубокие последствия, чем переодевание из охабней в кунтуши и заведение новомодных гербов на воротах. Начинался непреодолимый разрыв между высшим сословием страны и народом. Дворянство создавало для себя психологическую основу для нового взгляда на народную массу – не как на соотечественников, единоверцев, братьев по крови и по вере, а как на рабов, двуногий скот, существующий лишь для того, чтобы обслуживать «благородного» человека. Переименовавшись в «шляхетство», русское дворянство и русскому народу скоро присвоит новое имя, также заимствованное из польского языка – «быдло».
Семилетнее правление царевны Софьи стало дальнейшим углублением полонизации и вестернизации России. Фаворит и ближайший сподвижник правительницы, князь В.В. Голицын был настоящим русским западником нового типа. Его склонность к иностранной культуре, польской и западноевропейской, носила уже характер не случайного подражания, как у людей прошлого поколения, а сознательного заимствования и освоения.
Дворец «Великого» Голицына с его внутренним убранством был уже не эклектичным собранием ярких иноземных диковинок, а напоминал, скорее, жилище западноевропейского вельможи. Сами иностранные гости князя считали его дом одним из лучших и великолепнейших во всей Европе. Вот как описывает его на основании данных современных источников историк В.О. Ключевский: «…в больших залах простенки между окнами были заставлены большими зеркалами, по стенам висели картины, портреты русских и иноземных государей и немецкие географические карты в золоченых рамах; на потолках нарисована была планетная система; множество часов и термометр художественной работы… У Голицына была обширная и разнообразная библиотека из рукописных и печатных книг на русском, польском и немецком языках…» {72} .