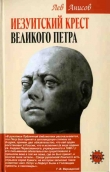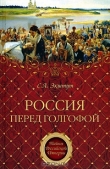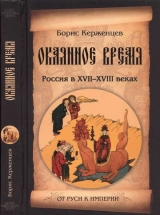
Текст книги "Окаянное время. Россия в XVII—XVIII веках"
Автор книги: Борис Керженцев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Хотя константинопольский патриарх Дионисий и иерусалимский патриарх Нектарий по-прежнему отказывались приехать в Москву, они прислали грамоту, в которой назначали Паисия Лигарида своим полномочным представителем на предстоящем соборе. Кроме того, в ближайшее время в Москву лично обещали приехать патриархи антиохийский и александрийский.
В ожидании их приезда, весной 1666 года, который, по многим пророчествам, должен был ознаменовать конец православия на Руси и начало царства антихриста, в Москве открылся большой церковный собор.
На его рассмотрение были предложены вопросы отношения к обрядовой реформе и судьбе патриарха Никона. Русские архиереи отнеслись к своему бывшему главе снисходительно. За самовольное и не вызванное никакими внешними причинами оставление своего пастырского места, что подвергло жизнь церкви опасности и смуте, его лишали сана патриарха московского. Но Никона по-прежнему именовали «святейшим» господином и в качестве утешения оставляли ему в его личное владение три крупных монастыря. Примечательно, что еще до собора Никону предложили самому определить условия своей отставки, и это он выдвинул требование такого солидного материального обеспечения. Его аппетиты, правда, были еще шире. Эти три монастыря были как бы центрами целого созвездия из 16-ти менее крупных обителей, каждая из которых владела своими вотчинами, приписанными к ним крестьянами, промыслами и прочим достоянием. Таким образом, в свои руки бывший патриарх хотел получить область, сопоставимую по размерам с небольшим княжеством удельного времени. На соборе Никону оставили крупные монастыри, но все прочие «тянувшие» к ним – вернули в распоряжение епархиальных архиереев. Отклонили также требование Никона, снова начавшего терять чувство реальности, самому определять – кто будет следующим патриархом.
Одновременно с этим, собором были признаны нововведения отставленного патриарха в церковных обрядах. Троеперстное крестное знамение и все исправления богослужебных текстов признавались правильными. Несогласным угрожали не только духовным осуждением, но и прямой физической расправой: «Аще же кто… начнет прекословити… мы таких накажем духовно; аще же и духовное наказание начнут прсзирати, и мы таковым приложим и телесная озлобления» {41} .
Перед отцами собора предстали как раз несколько таких «мятежников», отказывавшихся признать никоновские новины. Это были известные и уважаемые в русской церкви люди – протопоп Аввакум, игумен Сергий (Салтыков), старец Ефрем Потемкин, протопоп Серапион Смоленский, священник Никита Добрынин, диакон Феодор и другие.
Поп Никита и диакон Феодор привезли с собой письменные опровержения реформ. Они с наивной верой в торжество здравого смысла утруждали слух своих судей подробным сличением прежнего и нового текста, указывали на вопиющие ошибки редакторов и на противоречия друг другу внутри самих «исправленных» книг разных изданий. Архиереи, накануне судилища поклявшиеся ни в чем не противоречить воле царя и непременно добиться осуждения защитников старины, даже не слушали их. Они отметали любые доказательства, затыкали рты и требовали одного – слепого преклонения перед царским и архиерейским словом. Но такая авторитарная позиция в корне расходилась с русской традицией соборности. Горько сказал диакон Феодор в глаза этим продажным князьям церкви: «Добро угождати Христу… а не лица зрети тленного царя и похоти его утешать!»
Между заседаниями собора непокорных пробовали уговаривать. Когда не действовали слова – били, морили голодом. Аввакума еще до открытия собора девять недель держали на цепи в Пафнутьевом монастыре в Боровске, где игумен едва не каждый день приходил к нему с одними и теми же словами – «Приобщися нам…»
Однако беззаконные действия судей принесли свои плоды. Большинство из тех, кого привезли на собор в качестве обвиняемых, – покорились и признали новые книги и троеперстие. Непреклонными оставались трос: суздальский поп Никита, диакон Феодор и Аввакум. Их отвели в Успенский собор, где лишили священного сана и предали анафеме. В ответ защитники древлеправославия прокляли своих проклинателей.
В ноябре приехали наконец восточные патриархи, Макарий антиохийский и Паисий александрийский. Еще ранее агенты Лигарида дали им понять, что от них требуется исполнять желания царя и своим авторитетом поддержать решения русского собора по осуждению старого русского церковного обряда. У напутствованных таким образом патриархов не было, по-видимому, ни большого желания, ни возможности, ввиду незнания русского языка, вникать в истинное существо дела. Но все же они, хотя и не по своей воле, а по инициативе некоторых участников собора, едва не оказались втянуты в серьезный конфликт с царем. Кое-кто из русского епископата, в частности, Иларион Рязанский и Павел Коломенский, затеяли нечто вроде оппозиции царскому стремлению слишком глубоко вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви. Не имея ничего против отставки Никона, они тем не менее разделяли его стремление защитить и максимально увеличить архиерейские права и полномочия. Приезд восточных патриархов был удачной возможностью с их помощью попытаться приостановить напор светской власти на прерогативы священства. Встречаясь с Макарием и Паисием, Иларион и Павел жаловались им на «великую нужду и всякие затруднения» в собственных епархиях от вмешательства в их дела царских людей. «Много тяжкого переносим от властей, но страшимся еще худшего», – вздыхали епископы, призывая вселенских судей уговорить царя пойти на уступки.
До Алексея Михайловича дошли слухи о приватных переговорах русских епископов с приезжими иерархами. Не желая никаких неожиданностей, царь дал понять высоким гостям, что любая самостоятельность, не предусмотренная «сценарием», не найдет у него понимания. На двор, где остановились патриархи, приехал однажды архимандрит афонского Иверского монастыря Дионисий. Этот грек давно жил в Москве и принимал активное участие в правке книг и подготовке всех соборных заседаний. Он напрямки заявил престарелым первосвятителям: «Отцы святии! Заезжия вы люди здесь. Лще так станете судить… и вам чести большия и милостыни довольной и даров не будет от великого государя… но сошлют вас в монастырь, где яко же и Максима Грека нашего святогорца, и во свою землю не отпустят вас, аще в зазор станет дело. Как им надобно, так и пущайте» {42} .
Вселенские патриархи не стали спорить, тем более что жаловаться на царскую щедрость им не приходилось. С самого момента их пересечения русской границы подношения и дары не переставая пополняли патриарший сундуки. За время пребывания в России сами святые отцы и множество сопровождавших их лиц изрядно обогатились серебряной и золотой посудой, мехами, денежными пожалованиями из казны. По подсчетам С.Л. Зеньковского, на долю каждого из патриархов пришлось не менее 200 000 рублей по курсу 1900 года. И это не считая драгоценных подарков от частных лиц, вельмож, архиереев, настоятелей монастырей. Впрочем, не менее щедро были оплачены и услуги Паисия Лигарида, и его доверенных людей.
Первым делом участников вновь открывшихся соборных заседаний стал пересмотр решения русских епископов о судьбе Никона. Не вполне понятны причины, по которым царь счел необходимым вернуться к рассмотрению этого вопроса. Так или иначе, по участь бывшего патриарха теперь переменилась круто и безжалостно. Он был расстрижен из сана, лишен всего имущества и простым монахом отправлен в далекий северный Ферапонтов монастырь.
Для характеристики Никона нельзя не упомянуть о его поведении на суде. Обвинители, вновь упрекая его в самовольном оставлении патриаршего служения, сослались на указание греческой Кормчей книги, предусматривавшей в этом случае наказание в виде отстранения архиерея: «Кто покинет престол волею, без навета и тому впредь не быть на престоле». Однако Никон невозмутимо возразил: «Те-де правила не апостольские и не вселенских соборов». Когда ему напомнили, что это правила, принятые в греческой церкви, он в ответ и вовсе заявил нечто от него совершенно неожиданное: «Тех-де правил в русской Кормчей книге нет. А греческие-де правила не прямые. Те-де правила патриархи от себя учинили, а не из правил. После вселенских соборов все-де враки! А печатали те правила еретики…» {43}
Так отец русской церковной реформы по новогреческому образцу во всеуслышание порочил основные источники собственных преобразований и их создателей-греков.
Теперь, после устранения Никона, собор приступил к рассмотрению его нововведений. Подробности реформы, ее причины и содержание были представлены для патриархов в сочинении афонского грека Дионисия. Это был весьма предвзятый взгляд на старый церковный устав и всю русскую церковную традицию вообще.
Главной мыслью сочинения Дионисия явилось то, что отличия русского обряда от греческого были следствием местных московских измышлений и вольного толкования богослужебных текстов, по сути – ересью! Что началась эта ересь на Руси со времени разрыва с греческой церковью в XV веке после Флорентийской унии.
Таким образом, вся история русского церковного обряда, который в действительности являлся только бережно сохраненным наследием древнехристианской церкви и самой греческой церкви раннего времени, была подана в корне неверно и тенденциозно.
В результате на соборе возобладала позиция слепого осуждения и невиданного унижения всей дореформенной русской церковной истории. Стараниями приезжих греческих иерархов Русь, но словам С.А. Зеньковского, «оказывалась хранительницей не православия, а грубых богослужебных ошибок. Миссия России охранять православие была объявлена несостоятельной претензией… Православное русское царство, предвестник грядущего царства Святого Духа на земле, превращалось в… простое государство, хотя с новыми имперскими претензиями, но без особого освященного Богом пути в истории» {44} .
На заседании 13 мая 1667 года соборно было утверждено принять все произведенные при патриархе Никоне перемены церковного обряда. Проклятию подверглись не только двуперстие и старые книги, но и те из православных людей, кто осмелится придерживаться их в будущем. Ослушников предписывалось «казнить разным томлением и различными муками» без милости.
Попытки защитников старины сослаться на авторитет древнерусской традиции и решения Стоглавого собора были решительно отвергнуты, причем снова с заведомым искажением действительных фактов. Не утруждая себя доказательствами, вселенские судьи демонстрировали откровенное презрение к русской церкви и всему государству, включая его правителей. С оскорбительным неуважением они отзывались об участниках знаменитого собора, среди которых был и митрополит Макарий, и царь Иван Четвертый: «Зане той Макарий митрополит, и иже с ним мудрствоваша невежеством своим безрассудно». Отцов Стоглавого собора 1551 года греческие патриархи упрекали за то, что они действовали якобы вопреки указаниям древних греческих и словенских книг, были тем самым распространителями «прелести» и страшных ересей. Но это была откровенная ложь [13]13
Все решения Стоглавого собора были основаны на строгом следовании правилам вселенской церкви. Это подтверждается объективными исследованиями деятельности Стоглава. Так, представитель новообрядческой церкви, доктор богословия архимандрит Макарий (Веретенников) пишет: «Материалы Стоглава содержат ссылки на цитаты из канонических правил Вселенских и Поместных Соборов и святых Отец, из Священного Писания и богослужебных текстов, творений святителей Григория Богослова, Василия Великого, митрополита Ираклийского Никиты, преподобных Исаака Сирина, Симеона Дивногорца, приводятся тексты постановлений императоров Константина и Мануила Комнина, равноапостольного князя Владимира, поучения Русских Митрополитов, святителей Петра, Киприана, Фотия, преподобного Иосифа Волоцкого и др. Поэтому соборные главы приобретают более нарративный, назидательный характер…» – Архимандрит Макарий (Веретенников). «Стоглавый собор 1551 года» //Альфа и Омега, № 1(8), 1996.
[Закрыть], порочившая русское православие, под которой тем не менее поставили свои подписи все русские архиереи и сам царь Алексей.
Поругание святой русской старины не кем-нибудь, а самим государем и епископами церкви во главе с вселенскими патриархами, «столпами веры», в одних рождало возмущение и протест, в других – отчаяние. Но никто не мог себе представить, что в это время творилось за кулисами соборных заседаний и вскоре после них.
К смущению московского правительства и лично царя, стало выясняться, что главные судьи – патриархи антиохийский и александрийский – не имели никакого канонического права для участия в соборе и, тем более, для вынесения решений о судьбе русской церкви. К этому времени они сами были отстранены от своих кафедр константинопольским патриархом по обвинению в нарушении церковного устава и поведении, недостойном пастырей. Кроме того, стало известно, что главный организатор всей предсоборной подготовки и вдохновитель ключевых решений, газский митрополит Паисий Лигарид, действовавший как экзарх константинопольского патриарха, в действительности был давно не только отстранен от своей митрополии, но предан анафеме, как тайный католик и иезуит. Выяснилось, что его мнимые полномочия представлять вселенского константинопольского патриарха основаны на обыкновенной фальшивке – поддельной грамоте, состряпанной его сообщником диаконом Мелетием, который и ранее неоднократно оказывал своему патрону Лигариду подобные услуги.
Обнародование подобных известий могло иметь слишком далеко идущие и непредсказуемые последствия. Причем не столько для греческих гостей, сколько для исполнения решений московского собора 1666—1667 годов, судьбы обрядовой реформы в целом и самих реформаторов во главе с царем, допустивших разгром древнего церковного устава в угоду и под руководством иноземных авантюристов.
Царь Алексей дал указания срочно исправить дело [14]14
Не исключено, хотя и маловероятно, что Алексей Михайлович заранее знал о темных местах в биографии своих греческих помощников. Тогда единственным объяснением выбора именно этих людей в качестве обвинителей древнего русского церковного устава может служить то, что другие восточно-православные иерархи не соглашались на участие в царской затее. Позиция константинопольского патриарха Дионисия и иерусалимского патриарха Нектария, отказавшихся стать судьями московского собора 1666—1667 годов, может служить некоторым подтверждением этой версии. По в таком случае роль царя Алексея в разгроме древлеправославия на Руси оказывается еще более мрачной и циничной.
[Закрыть]. Дьяки Посольского приказа исполнили повеление, но московской казне покрывательство грехов заезжих «архиереев» стоило дорого, а царские дипломаты использовали для этого все свое искусство и связи в турецкой администрации. На протяжении нескольких лет с помощью взяток и уговоров пытались вернуть отстраненным патриархам их кафедры. Но этому противился константинопольский патриарх Парфений. Тогда Алексей Михайлович лично обратился к султану с просьбой оказать ему «братскую» услугу – отстранить строптивого константинопольского первосвятителя и вернуть Паисию и Макарию их епархии. Турки были неприятно удивлены странной просьбой православного государя, тем более что без острой необходимости предпочитали не вмешиваться во внутреннюю жизнь христианских общин, но все-таки отказывать не стали. Патриарх Парфений был смещен, а Паисий и Макарий получили обратно символы пастырской власти. Так, задним числом, было восстановлено подобие каноничности их статуса вселенских судей московского собора.
Нельзя не обратить внимания на то, что в момент реформы в Россию, как нарочно, съехались и стали во главе нововведений люди самых низких моральных качеств и испорченных нравов. В первую очередь это было вызвано повсеместным упадком духовности среди священства православного Востока. Но большинством современников этот наплыв авантюристов и торжество явных еретиков объяснялись причинами мистического свойства. Из уст в уста передавались впоследствии слова бывшего духовного отца Никона, старца Елеазара Анзерского, что он как-то во время церковной службы увидел вдруг черного змея, обвившегося вокруг плеч и шеи Никона и прислонившего свою голову к его уху, словно нашептывая что-то. А в короткое время после этого началась как раз сказочная карьера безвестного монаха, превратившегося в патриарха-реформатора.
Москвичей не могло не смущать, например, что главным помощником Никона в правке богослужебных книг был «старец» Арсений Грек. Он превосходил своей темной биографией даже такого мошенника, каким являлся «митрополит» Паисий Лигарид. Правда, их объединяло вместе то, что и Арсения и Лигарида привез в Москву и свел с Никоном и царем тот самый патриарх Паисий иерусалимский, который и был вдохновителем трагической реформы русского церковного устава.
Арсений Грек родился в православной семье в Турции, учился в Венеции и Риме, где перешел в униатство. После возвращения домой перешел опять в православие, но потом, при неясных обстоятельствах, принял ислам. Затем снова стал православным и в сане архимандрита жил в Киеве и Польше без определенных занятий, пока не встретил Паисия иерусалимского и вместе с ним не приехал в Москву. Здесь он пользовался почетом как ученый богослов, пока не стало известно о его многочисленных переменах веры. Подобное ренегатство, обычное на Востоке, в духовной жизни дореформенной Москвы было недопустимо. Арсения отправили для покаяния в грехах и духовного исправления на Соловецкие острова под строгий надзор монахов знаменитого монастыря. Там, когда казалось, что его жизнь так и должна закончиться на острове, затерянном среди волн Белого моря, судьба неожиданно улыбнулась узнику. На Соловки за мощами митрополита Филиппа (Колычева) приехал Никон. Познакомившись с Арсением и почувствовав, что превосходно образованный и ловкий грек будет ему полезен в предстоящих преобразованиях, Никон взял его обратно в Москву и поставил во главе своей книжной справы, нисколько не смущаясь тем, что человек, ответственный за «исправление» древних православных текстов, сам много раз изменял православию.
В то время, когда в стране начинался безжалостный разгром освященной веками церковной благочестивой старины – преследование тех, кто смел придерживаться древлеправославных обрядов, повсеместное уничтожение древних икон, на которых было изображено двоеперстие, сжигание старинных богослужебных книг – из Москвы приходили все более и более возмутительные известия о поведении греческих священнослужителей из ближайшего царского окружения.
Наконец стало известно о невероятном, трудно вообразимом кощунстве – акте содомии, произведенном в алтаре кафедрального кремлевского Успенского собора. Этот акт был совершен царским советником по вопросам богословия, афонским архимандритом Дионисием, одним из главных теоретиков осуждения древлеправославного обряда. В челобитной на имя царя указывалось, что Дионисий не только осквернил священное место, но дерзновенно нарядил при этом совращенного им иподьяка в святительские ризы и омофор – то есть в одеяние епископа.
Поступок Дионисия выходил за рамки обыкновенных, даже самых тяжких прегрешений и преступлений. Это было уже нечто большее – надругательство не только над отдельным человеком, но над всей православной церковью, настоящий сатанизм. Потрясенные москвичи так и восприняли произошедшее, как символическое деяние: «Как выедет он, архимарит, во свою землю, скажет – вместо детища – я, де, глупых русаков и владыку блудил».
От царя, как защитника веры, ждали хотя бы здесь справедливой немедленной реакции. Протопоп Аввакум писал царю, умоляя его очистить храм от осквернения: «Пес убо, аще вскочит в церковь – ино священие есть, а то такая скверна, ея же ради – Содома и Гомора, пять градов погибе! И се на таком святом месте… Дело то соборное и исправить зело нужно. И аще архиереи исправити не радят, попе ты, христолюбивый государь, ту церковь от таковыя скверны потчися очистить…» {45}
Но никакого освящения храма не было произведено. Алексей Михайлович не только оставил дело без всяких последствий, но еще больше приблизил Дионисия.
Во время крестного хода у стен оскверненного Успенского собора, накануне Пасхи, в Великую Суботу, новообрядческое русское духовенство двинулось по старинке «по солонь» – по солнцу. Архимандрит Дионисий, участвовавший в богослужении, демонстративно повел греческих священников в противоположном направлении, согласно недавно утвержденным правилам. Начинался конфликт, который разрешил своим вмешательством царь Алексей. Он приказал всем замолчать и уверенно пошел рядом с Дионисием. Русские епископы послушно двинулись следом.
* * *
Первая глава Соборного Уложения 1649 года «О богохульниках и церковных мятежниках» предписывала казнить смертью любого, кто осмелится возносить хулу на «Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа… или на честный крест». Смертная казнь или другие жестокие наказания грозили тем, кто станет мешать совершению Литургии, или «учинит мятеж» в церкви, или начнет бить кого-нибудь, или ранит, или обесчестит словом – «чтобы от того в церкви Божий церковному пению смятения не было»…
Многим в России казалось, что царь Алексей с приближенными исполнителями своей воли подпадает под карательное действие собственного законодательства, утвержденного еще до начала церковной реформы. Под руководством царя переделывались священные тексты и обряды, по которым спасались многие подвижники веры; его слуги врывались в церкви во время богослужений, бесчестили и били священников, служивших по старым книгам, пытали в застенках и ломали пальцы тем, кто крестился двумя перстами, то есть точно так, как крестились на протяжении семи веков христианства на Руси. И все это без всяких канонических обоснований, единственно с глухой и неясной ссылкой на авторитет приезжих греков. Но что за люди были эти греки и какие они на самом деле были христиане – видели все по их богохульным поступкам, неумеренной алчности и непомерной гордыне.
В условиях, когда высшая русская церковная иерархия беспрекословно подчинилась царской воле [15]15
Диакон Фсодор передаст, как во время уговоров принять никоновские нововведения, епископы признавались ему: «И мы, диаконе, знаем, яко старое благочестие церковное все право и свято и книги непорочны, да нам бы царя оправить, того ради мы за новыя книги стоим, утешая его… Царя не смеем прогневати». – Цит. по: Богданов А. Мятежное православие. М., 2008. С. 128.
[Закрыть], из народной среды, из самых разных слоев всего «люда» Московского государства вышли непримиримые защитники древлеправославного благочестия – приходские попы, монахи, служилые дворяне и представители древних аристократических родов, простецы-миряне, купцы, горожане, стрельцы и казаки. Их объединяло прежнее традиционное для Руси сознание надсословного единства, христианского братства. Ими всеми руководило православное правосознание, требовавшее от каждого христианина при необходимости встать на защиту веры.
Из всех русских епископов только Павел коломенский открыто воспротивился нововведениям. Никон собственноручно избил его и сослал в дальний монастырь, где престарелый епископ был замучен слугами патриарха до смерти. Заключением в тюрьму, пытками и унижениями пытались запугать противников и погасить сопротивление реформе. Но любые меры физического воздействия и устрашения были бессильны перед самоотверженным подвигом мучеников за веру.
И все же протопоп Аввакум выделяется среди прочих страдальцев за древлеправославие исключительной стойкостью и непреклонностью. Случалось, что и некоторые самые преданные старой вере люди не выдерживали преследований, из понятной человеческой слабости или в качестве уловки, чтобы обмануть бдительность судей, хотя бы временно принимали нововведения. И тогда Аввакум оказывался едва ли не в совершенном одиночестве перед всей мощью государственно-церковной коалиции, и на нем одном держалось дело сохранения святорусского благочестия. Но ни разу этот человек-скала, обладавший боговдохновенной нравственной силой и твердостью, не дрогнул ни перед какими испытаниями, выполнив свое призвание до конца.
На московском соборе 1666—1667 годов, приведенный из темницы и стоя один перед судом великолепно одетых и гордых архиереев, Аввакум добродушно сказал вселенским патриархам, Макарию и Паисию: «Вселенстие учитилие! И впредь приезжайте к нам учитца: у нас Божию благодатию… до Никона отступника в нашей России у благочестивых князей и царей все было православие чисто и непорочно, и церковь немятежиа…» Тут русские епископы, с оглядкой на царя, принялись бранить проповедника. Аввакум говорит об этом: «А наши, что волченки, вскоча, завыли и блевать стали на отцев своих, говоря: “глупы-де были и несмыслены наши руские святые, не ученые-де люди были, – чему им верить! Они-де грамоте не умели!”. О, Боже святый! Како претерпе святых своих толикая досаждения… Побранил их, колко мог… так на меня и пущи закричали: возми, возми его! Всех нас обезчестил! Да толкать и бить меня стали; и патриархи сами на меня набросились: человек с сорок, чаю, было, – велико антихристово войско собралося!…» {46}
Несгибаемая воля, глубокая убежденность в правоте старой веры, начитанность в Свящсшюм Писании и сочинениях отцов церкви в соединении с удивительной памятью, позволявшей Аввакуму и спустя более 10 лет, проведенных без книг в тюрьме, цитировать очень точно фрагменты из разных богословских текстов, – эти способности делали богатыря протопопа смертельно опасным противником для инициаторов перемен в жизни русской церкви.
И враги и поклонники Аввакума из нестарообрядческой среды, хотя и но разным причинам, но непременно обращали внимание на его «русофильство». Протопоп предстает в таких описаниях первым русским националистом, а все дело защиты старой веры сводится к отстаиванию узконациональных идеалов и «доморощенных», как с неприязнью выражаются некоторые исследователи, начал культурной и религиозной жизни.
Аввакум действительно был преданным сыном русской земли, глубоко влюбленным в культуру и характер своего народа. Он гордился русским языком, почитал подвиги русских святых и славу доблестных русских князей и воевод. Но в основе его восторженной любви к родине лежало религиозное чувство. Счастливое осознание того, что именно она Божьим соизволением является хранительницей истинной и непорочной христианской веры, того «пресветлого православия», служение которому объединяло всех людей Московского государства, от смерда до царя, на протяжении веков. И это осознание столь важной духовной миссии своей страны было вызвано объективным взглядом на современность и знанием церковной истории.
27 августа 1667 года, по приговору царя и московского собора, самых стойких противников реформы вывели на площадь. Иноку Епифанию и попу Лазарю должны были вырезать языки. Протопопа Аввакума пощадили по настойчивому заступничеству царицы Марии Ильиничны и увезли из Москвы заранее. Суеверный царь Алексей, очевидно, побаивался грозного протопопа, в котором чуял огромную духовную силу. Он не решился причинить ему вред и послал стрелецкого голову Юрия Лутохина тайно просить Аввакума, чтобы он молился о нем, «многогрешном царе», и о царских детях…
Осужденным клещами захватили языки и отрезали «до вилок», оставив небольшие обрубки. Епифаний ослабел от казни и был почти без сознания. Лазарь вел себя твердо. Собравшись с силами, он выплюнул изо рта обильно сочившуюся кровь, отер губы и правой окровавленной рукой благословил двоеперстно собравшийся народ.
По дороге в ссылку в подмосковном селе Братошине Епифаний и Лазарь встретились с Аввакумом. Протопоп плакал, увидя истерзанных друзей, и «перецеловав их кровавыя уста, благодарив Бога, и яко сподобихся видети мученики в наша лета».
Заточенные в земляной тюрьме невероятно далекого Пустозерска, с вырезанными языками, узники должны были, по мысли преследователей, быть погребенными заживо, исчезнуть бесследно из памяти людей. Но этого не случилось. Из-за частокола городка, расположенного за Северным полярным кругом, раздавались проповеди и поучения, расходившиеся во множестве списков по всей стране, вдохновлявшие на борьбу за православную веру.
Правительством и церковными иерархами «книжная справа» и перемена прежнего устава подавалась всегда как исключительно обрядовая реформа, т.е. изменение некоторых внешних форм без касания до коренных основ православного вероучения.
Противники нововведений смотрели на происходящее совершенно иначе. Они воспринимали реформу как введение именно «новой веры», а не коррекцию обрядов старой. Еще епископ Павел коломенский заявил в лицо Никону: «Мы новой веры не примем!» Соловецкие старцы писали в челобитной царю: «Проповедают нам ныне… новую незнамую веру по своему плоцкому мудрованию, а не по апостольскому и святых отец преданию…»
Это убеждение коренилось в традиционном для православия отношении к церковным канонам, как святым законоположениям, раз и навсегда утвержденным и незыблемым. Ведь этими канонами много веков назад были утверждены все основы христианского учения, выраженные в первую очередь в Символе Веры. Если он изменяется, значит, меняется и сама вера.
Такое ревнивое отношение к каждой букве святых текстов не имело ничего общего с «дикостью» или «необразованностью», как позже характеризовали его светские историки. Сами отцы церкви, учителя первых семи вселенских соборов подавали пример подобной строгости в подходе к содержанию богослужебных книг, а борьба с ересями в ранней церкви со всей очевидностью показывает важность даже незначительных отклонений в толковании того или иного слова для будущего всего вероучения! [16]16
Имется в виду борьба с арианством в IV веке и спор о словах «омоусиос» (единосущный) и «омиусиос» (подобосущный), которые, несмотря на столь незначительную разницу в написании, содержали принципиально противоположный догматический смысл.
[Закрыть]
Нововведениям воспротивилось большинство православного населения царства. Но самым ярким и важным по своим последствиям выступлением против «новой веры» стало восстание Соловецкого монастыря.
Старцы обители не приняли новых книг с самого начала церковной реформы. Они обращались к царю с челобитными, в которых доказывали спасительность и чистоту древлеправославного устава, и молили остановить Никона и его последователей. В Москве за проклятиями в адрес старого обряда, в трудах по осуждению Никона и хлопотах с обелением самозваных греческих патриархов поначалу недооценили значения этого протеста. Наконец, была получена уже не челобитная, а настоящий ультиматум, в котором за обычными верноподданническими фразами скрывалась непримиримая оппозиция церковной политике царя Алексея.
Все насельники монастыря, иноки и бельцы, общим решением постановили скорее умереть, чем принять еретические новины. Они писали царю: «…Не вели, государь, у нас тем новым учителем… истинную нашу православную християнскую веру, самим Господом нашим Исусом Христом и святыми его Апостолы преданную, и седми вселенскими соборы, и твоими государевыми прародители утверженную, изменити и порушить, чтобы нам Господа Бога и Спаса нашего Иcyca Христа, Царя царствующим и Господа господствующим не прогневить и во веки в безконечиое мучение осужденным не быть, и тою повою верою прародителей твоих государевых и святых отец не посрамить, а иноземцом и хулником нашея христианския православныя веры впредь дерзновения не подать… Аще ли твой, великаго государя… гнев на нас грешных излиетца, и православную нашу християнскую непорочную веру тем новые веры проповедником отнять у нас попустити изволит, и чюдотворцев наших и прочих святых отец предание изменить… лучше нам временною смертию умереть, нежели вечно погибнуть. Или аще, государь, огню и мукам нас те новые учители предадут, или на уды разескут: но убо изменить апостольскаго пореченнаго и отеческаго предания не будем во веки. Великий государь царь, смилуйся пожалуй!»
Стало ясно, что важный форпост, могущественный монастырь, бывший центром и хозяином почти всего русского севера, владелец бескрайних земельных владений, денежной казны, собственного флота, старцы которого обладали непререкаемым духовным авторитетом по всей стране, – объявляет войну церковной реформе, а вместе с тем и центральному правительству, фактически признавая его неправославным! Такого еще не случалось в отечественной истории.
Не решаясь действовать крутыми мерами, царь предпочел выгадать время. Весной 1668 года к Соловкам отправили воинский отряд во главе с воеводой Волоховым. Ему было приказано окружить монастырь, но активных действий не предпринимать. В начале лета, по некоторым данным 22 июня, царские солдаты начали осаду обители. Ужесточаясь год от года, она продолжалась около 8 лет.