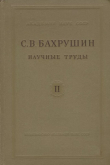Текст книги "Окаянное время. Россия в XVII—XVIII веках"
Автор книги: Борис Керженцев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
ГЛАВА 3
Преобразования начала восемнадцатого столетия, разрушив все традиционные основы русского общества, имели катастрофические последствия и для судьбы православной церкви. Вмешательство Петра Первого в корне изменило внутреннюю церковную организацию, принципы ее взаимоотношений с государственной властью, проникло в богослужебные тексты, отразилось на составе черного и белого духовенства, изменило социальное положение служителей. Перемены во всех областях носили столь значительный характер, что привели фактически к возникновению на месте прежней православной церкви совершенно новой структуры, получившей даже новое название, и ее полному разрыву со всей старой церковной традицией.
В первую очередь это выразилось в полной утрате всяких признаков самостоятельности и безоговорочном подчинении духовной иерархии светской императорской власти. Определенная зависимость церкви от государственной власти существовала в России издавна, особенно усилившись, как уже упоминалось, с XV века, со времени Флорентийской унии, когда после разрыва с Византией и выхода из-под юрисдикции впавшего в ересь константинопольского вселенского патриарха русские епископы, сохранив каноническую чистоту православного учения, объективно оказались вынуждены встать под опеку московских великих князей. Исследователи нередко указывают на это обстоятельство, как на доказательство «извечного» подчинения церкви государству, не видя особенной разницы в ее взаимоотношениях с правительством до и после реформ Петра. В данной точке зрения заключено серьезное заблуждение, вызванное недостаточным пониманием той трансформации, которой подверглась в результате реформ сама светская власть.
Московский великий князь, а потом и царь периода XV, XVI и XVII веков был в глазах своего народа и в собственном представлении прежде всего хранителем и защитником православия, гарантом его неприкосновенности от всевозможных внешних или внутренних покушений. В этой вероохранительной роли русский государь естественным образом выступал и как попечитель о нуждах и заботах самой церкви. Духовные иерархи не противились этой опеке, но наоборот – воспринимали ее как должное, и даже приветствовали ее, потому что она никогда не посягала на канонические основы вероучения, но предоставляла практическую помощь в решении насущных проблем.
Прежде церковь входила в союз с государственной властью, смыслом существования которой была борьба с грехом, а общественным идеалом – монастырь. Московский великий князь и царь своим образом жизни и привычками напоминал скорее не светского правителя, а настоятеля монашеской обители. Теперь, с возникновением нового государства, характер власти принципиально переменился. Дух христианской аскезы сменился погоней за роскошью и сластолюбием, удовлетворением мирских страстей.
Религия превратилась из основы и смысла жизни в технический инструмент, стала способом идеологического влияния на «массы». Свое возросшее могущество правительство обращало теперь не на защиту христианской веры, а на обеспечение собственных нужд, а также потребностей многочисленных временщиков и фаворитов, кормящихся у трона. И делало это за счет эксплуатации порабощенного народа. Прежде в союзе с государством церковь служила интересам православия, а теперь такой союз был направлен исключительно на обслуживание самого режима.
Еще преподобный Иосиф Волоцкий, предвидя возможные отступления монарха с пути благочестия, которые не раз случались в мировой христианской истории, предложил, в строгом соответствии с православными канонами и писаниями святых отцов, способ защиты церкви от возможных покушений на ее духовную независимость со стороны государства. Он учил, что подчинение правителю необходимо, но при условии его православности и только в том, что относится к компетенции светской власти. Преподобный писал в книге «Просветитель»: «Если же некий царь царствует над людьми, но над ним самим царствуют скверные страсти и грехи: сребролюбие и гнев, лукавство и неправда, гордость и ярость, злее же всего – неверие и хула, – такой царь не Божий слуга, но дьяволов, и не царь, но мучитель. Такого царя, за его лукавство, Господь наш Исус Христос называет не царем, а лисицей: “Пойдите, – говорит Он, – скажите этой лисице”. (Лк. 13: 32.). И пророк говорит: “Царь надменный погибнет, потому что пути его темпы”. (Ср.: Иез. 28: 17 – 19; Дан. 5: 20.,). И три отрока не только не покорились повелению царя Навуходоносора, но и назвали его врагом беззаконным, ненавистным отступником и царем злейшим на всей земле (Дан. 3:32.). И ты не слушай царя или князя, склоняющего тебя к нечестию или лукавству, даже если он будет мучить тебя или угрожать смертью. Этому учат нас пророки, апостолы и все мученики, убиенные нечестивыми царями, но не покорившиеся их повелению» {127} .
Когда светская власть в России в начале восемнадцатого столетия действительно продемонстрировала признаки отступничества от благочестия, и в ее поведении и облике проявились явные, с точки зрения канонического православия, черты «нечестия и лукавства», иерархи русской церкви не только не повторили подвига пророков, убитых нечестивыми царями, но ни единым словом или поступком не выразили несогласия с действиями правительства.
Причина этого заключается в том ослабленном состоянии, в каком церковь вступила в новый век, ее моральные и человеческие потери были очень велики. Реформа патриарха Никона и царя Алексея привела к исходу из «господствующей» церкви, как се стали называть, множества православных христиан, наиболее ревностно относившихся к вере и не принявших сомнительных нововведений. Оставшиеся в ограде «официального» православия, по общим наблюдениям современников и признаниям самих архиереев, представляли собой в большинстве случаев людей равнодушных, духовно пассивных. Причем и в этой среде в определенные моменты появлялось достаточное число тех, кто переходил «в раскол», хотя и по причинам, не всегда прямо связанным с религиозными вопросами.
Но определяющим фактором во всем дальнейшем фактическом порабощении церкви секуляризованным государством стала позиция духовных иерархов в ходе никоновских преобразований. Ее трагизм заключался не просто в готовности без критики и рассуждений принять новый обряд. В.О. Ключевский писал о настоящем характере действий епископата: «Русская иерархия XVII века предала полному осуждению русскую церковную старину» {128} . Введение в русский церковный устав греческих новин, соборное проклятие всей прежней церковной традиции, поставление ни во что национального духовного опыта, насчитывавшего почти семь столетий христанской жизни, умаление авторитета русских святых и духовных учителей лишили реформированную церковь всякой опоры в прошлом, обрубили все связи с ним [37]37
Ранее приводились слова русских епископов на соборе 1666—1667 годов: «Глупы-де наши святые были, грамоты не умели, чего их слушать» и т.п.
[Закрыть].
Подчинившись власти в деле церковной реформы, иерархия отныне была вынуждена всюду и во всем следовать за этой властью, держаться за руку власти, уже не слишком разбирая, хороша она или дурна, православна или порочна и еретична. Кроме правительства и его карательного аппарата не было больше у «господствующей» церкви никакой опоры ни в уважении народа, ни в многовековой истории русского православия, от которой она отреклась.
Старообрядцы смотрели на священников и епископов-«никонияи», как на еретиков из-за измены их древлеправославию, не делая разницы между ними и «папистами» или «люторами». Но не менее жестко священнослужители официальной церкви были разделены и с собственными прихожанами. Сильно способствовало воспитанию неприязненных чувств к официальной церкви то, что она не только всеми силами встала на защиту социальной несправедливости и крепостного права, но и сама активно использовала рабский труд. Черное духовенство, епископы и монастыри были крупными крепостниками, в их совместном владении находилось около двух миллионов крепостных «душ». Крестьяне убежденно говорили: «Монастырская неволя пуще господской». Монахи нередко использовали их вместо лошадей, которых берегли, – на людях и воду возили, и пахали…
Из дома для молитвы приходские храмы стали превращаться в официальную трибуну, с которой по воскресным дням, вместо проповеди, читали все новые репрессивные указы правительства – о том, что крестьянам запрещено владеть собственностью, что их самих можно продавать и разлучать с близкими, ссылать в Сибирь на каторгу по первому неудовольствию помещика и т.д. Крестьян учили покорности и смирению. И все это делалось с лукаво искаженными ссылками на тексты Священного Писания. Именем Бога лживо и кощунственно оправдывалось рабство и насилие.
Священнослужители были обязаны доносить о всяких признаках недовольства среди прихожан, о враждебных высказываниях в адрес правительства. Вопреки канонам, священников обязали нарушать тайну исповеди и сообщать об услышанных на ней противоправительственных умышлениях или преступлениях против власти. По замечанию историка С. Князькова, «священник стал выступать как подведомственный светской власти чиновник: он действует в таких случаях как один из полицейских органов государства, вместе с фискалами, сыщиками и дозорщиками Преображенского приказа и тайной канцелярии… в этой новой приказной обязанности священника мало-помалу затемнялся духовный характер его пастырской деятельности, и между ним и прихожанами создавалась более или менее холодная и крепкая стенка взаимного отчуждения» {129} .
Не только неприглядным, но и тяжелым было положение низших слоев духовенства, как белого, так и черного. Петр Первый регламентировал численность приходских священников, сильно уменьшив ее. Указ 1722 года гласил, что на 800 дворов довольно иметь не более трех попов «и при толиких попах больше двух дьяконов не было б, а причетникам быть по препорции попов, т.е. при каждом попе один дьячок и один пономарь».
Оказавшихся «липшими», вне штата, священников, а также их младших сыновей, детей дьяконов и причетников, которым не находилось места при отцах, бродячих попов и многих других, записывали в крепостные крестьяне или забирали в матросы и солдаты, отправляли на каторжные петровские стройки.
Оставшиеся попы попали в полную зависимость как от своего непосредственного начальства – епископов и благочинных, так и от местных помещиков, на земле которых находились храмы. Общее пренебрежение личностью, огрубение и варваризация нравов, произошедшие с начала петровских реформ, вполне коснулись и духовенства. Епископы не ставили приходских священников ни во что, в случае недовольства бранили «поносными словами» прямо в церкви, сажали на цепь или в колодки. Дворяне тем более не церемонились с ними – неугодного попа могли выпороть, затравить собаками, разрушить дом.
Серьезно упал общий уровень культуры и простой грамотности черного и белого духовенства. В монастыри устремилась масса случайных людей, искавших там не молитвенного уединения, а спасения от вездесущего государства, от войны и разрухи, от голода наконец. Чрезвычайно распространилось пьянство. Ростовский владыка прямо писал Петру, что в монастырях его епархии «чернецы спились и заворовались». В настоятели приходов попадали часто за взятки, данные епископам или их приближенным. Никто не проверял пригодности того или иного кандидата к исполнению обязанностей священника, брали тех, кто больше заплатил. В результате церковные службы велись с ошибками, подчас грубыми, искажались священные тексты и обряды, что вносило смущение в ряды верующих и отталкивало многих от официальной церкви.
Со временем наиболее явные следы одичания исчезли или смягчились, но остались приниженное положение священников перед епархиальным начальством, их малая грамотность и, что самое главное, отгороженность от прихожан, которые по-прежнему смотрели на попов, как на помощников полицейского пристава. Сами священники, в свою очередь, всячески стремились не преодолеть этот разрыв, а наоборот, улучшить и облагородить свое положение, сделать его более привилегированным.
В пору подготовки нового Уложения при Екатерине Второй со стороны духовенства поступили предложения и просьбы «утвердить иерархию духовных чинов наподобие иерархии военной, в которой архиепископ приравнивался к генерал-аншефу, епископ – к генерал-поручику, настоятель монастыря – к генерал-майору, священник – к поручику, дьякон и монах – к прапорщику… Поскольку любой офицерский чин давал потомственное дворянство, духовенство претендовало на дворянство для монахов и священнослужителей» {130} .
Можно предположить, что эта инициатива была попыткой со стороны церкви компенсировать потери, понесенные в результате секуляризации 1764 года, когда из церковной собственности были изъяты населенные крепостными крестьянами земли. Поскольку дворянское звание давало вожделенное право на владение крепостными «душами», русское духовенство стремилось получить его хотя бы таким необычным для себя способом, как через присвоение военных чинов.
Поведение и образ жизни высших иерархов церкви служил к соблазну верующих не меньше, чем состояние и привычки низшего духовенства. Петру очень быстро удалось втянуть руководство церкви в свой ближний круг, сделать их как бы сообщниками своего правления и всех его безобразий. Правда, для этого ему сначала пришлось провести некоторые кадровые замены.
После смерти патриарха Адриана в октябре 1700 года Петр назначил местоблюстителем патриаршего престола малоросского выходца Стефана Яворского. Этот человек был, конечно, весьма далек от традиционного русского благочестия. Он прошел обучение в католических школах Польши, для чего принял унию. Потом он вернулся в православие, но, подобно всем своим соотечественникам, учившимся в иезуитских школах, навсегда остался внутренним поклонником западного богословия и религиозной традиции. Культура латинского запада была ему значительно ближе культуры и духовности православного востока, и прежде всего, конечно, ортодоксальной религиозности России, где, волею судьбы и Петра, ему пришлось возглавить православную церковь.
Яворский временами тяготился своей должностью, но его положение облегчалось тем, что Петр позаботился о максимальном уменьшении его полномочий как местоблюстителя патриаршего престола. Из его ведения были изъяты все административные функции по управлению хозяйственной жизнью церкви и переданы Монастырскому приказу под руководством светских чиновников. Местоблюститель превратился во многом в символическую фигуру, не имевшую никакого влияния на дела церкви. Даже о назначении епископов и архимандритов Яворский нередко узнавал от других лиц. Все церковные дела Петр крепко взял в свои руки и решал их лично или через доверенных людей. В 1702 году Шереметев, минуя местоблюстителя патриаршего престола, прямо обращается к Петру с вопросом о том, кого назначить архимандритом псковского Печерского монастыря. В 1707 году Петр, игнорируя Яворского, поручает И. Мусину-Пушкину подыскать кандидата на место холмогорского владыки вместо умершего Афанасия. Подобных примеров было немало.
В то время пока уязвленный и обиженный Яворский сидел в Москве и находил утешение то в литературных сочинениях, то в пространных жалобах Петру, среди иерархов появилось несколько ярких личностей, символизировавших собой новое лицо церкви.
Будущий преемник Яворского, Феодосии Яновский, постоянный собутыльник императора, участник «всешутейшего собора». Князь Долгоруков писал о нем: «Низость и порочность поведения помогли ему получить чин архиепископа [38]38
Это ошибка. Во главе новгородской епархии стоял митрополит.
[Закрыть]новогородского и президента Синода. Он обирал церкви в своей епархии, похитил бриллианты, украшавшие оклады икон и архиерейское облачение» {131} . Бывший покровитель Яновского, новгородский митрополит Иов, не сдерживая эмоций писал ему: «Спроси меня о себе, кто ты? Я тебе скажу: ты груб, невоспитан, грубиян, ты дикий кабан, похож на свирепого зверя, подражаешь верблюду гневливому…» По общему свидетельству знавших его, Яновский был человеком крайне низких моральных качеств. Но именно такой и мог чувствовать себя комфортно рядом с Петром.
Если Яворского считали тайным католиком, то Яновского именовали лютеранином, зная о его явных протестантских пристрастиях. «Люди старого закала певали в лицо Феодосию стих… “враг креста Христова”, и говорили, что этот стих всего приличнее будет петь при посвящении его в архиереи» {132} .
В таком положении оказалась русская церковь, что вскоре после реформ в новогреческом стиле в ее руководство попали иерархи, отличавшиеся друг от друга тем, что один из них симпатизировал католическому учению и богословию, а другой – протестантскому, и оба почти совершенно не знали учения православного.
Подобные люди заняли все ступени церковной иерархии. Среди епископов и митрополитов, как и среди простого священства, «укоренилась сатанинская злоба безмерного хмельного упивания». Вид пьяного владыки или прилюдно курящего табачную трубку, подобно холмогорскому епископу Афанасию, раньше просто немыслимый, теперь стал привычным для православного архиерея.
Не последнее место среди высокопоставленных церковных пьяниц занимал духовник Петра, Тимофей Надаржинский. Это постоянный участник всех оргий и попоек, которые происходили при дворе, в походах и поездках заграницу. В Париже ему пришлось вступить в поединок с известным французским пьяницей-аббатом, секретарем кардинала. Петр, услыхав про способности аббата к питью, загорелся идеей устроить хмельное соревнование. Он сказал: «Надобно его спустить с Надаржинским» – и приказал пригласить француза на ужин. Духовный отец императора не подвел: «Было выпито очень много, и аббат свалился под стол, в то время как Надаржинский, весь красный и едва держась на ногах, но сияющий радостью, налил себе еще стаканчик. Петр бросился на шею Надаржинскому и закричал: “Друг мой, ты поддержал честь России!”» {133} Эти и подобные подвиги не были оставлены без вознаграждения. Петр пожаловал Надаржипскому несколько богатых поместий и множество крепостных «душ».
Изменению нравов в русской церковной среде в немалой степени способствовала перемена в составе духовенства. Еще с первой половины XVII века в Россию приезжает много священников и монахов из Малороссии и западнорусских земель в составе Речи Посполитой. Об особенностях образования, мировоззрения и богословских пристрастиях этих людей, большинство из которых или обучались в иезуитских школах, или испытывали на себе не менее сильное протестантское влияние, уже говорилось ранее. Со второй половины века, после реформы царя Алексея и Никона, этот наплыв усилился, особенно из Малороссии.
В условиях, когда само русское правительство вставало во все более враждебные отношения к русской старой церковной, а потом и национальной традиции, что в царствование Петра выразилось уже в открытой политике истребления русского традиционализма, эти зарубежные выходцы оказывались необходимыми и естественными союзниками власти.
С поощрения правительства они становятся учителями и богословами, занимают архиерейские должности, повсюду вытесняя великороссов. Некоторые монастыри почти целиком наполнялись украинскими монахами, вопреки пословице приносившими с собой и свой устав, что заставляло русских иноков в знак протеста уходить прочь. К концу XVII века даже в таком важном монастыре, как московский Новодевичий, большинство монахинь были малороссиянками.
Негативные последствия такого наплыва состояли в том, что под его воздействием разрушались основы русской духовной традиции. Вновь пришедшие приносили с собой свою церковную культуру, свои обычаи. Русская Богослужебная практика, древняя история русской церкви была им неизвестна и чужда, многие из выходцев даже не владели русским языком. Тем более равнодушны они были к проблемам недавней церковной реформы.
Если русские епископы все же понимали корни раскола и некоторые про себя сочувствовали старообрядческой оппозиции, старались не слишком преследовать ее сторонников, то архиереи-малороссы не разбирались и не имели желания разбираться в церковной смуте чужой для себя страны. Они искренне смотрели на старообрядцев, как на государственных мятежников и еретиков, и были активными помощниками правительства не только в репрессиях и преследованиях староверов, но искореняли, где это было возможно, любые следы древлеправославной традиции, вводя на се месте устав и обычаи киевской церкви, проникнутой сильным иноверческим влиянием протестантизма, католичества и униатства. Под запретом или подозрением оказалось все, что относилось к русской православной культуре – старинные книги, обряды, одеяния священников. Более того, серьезные перемены были внесены и в церковное пение, и в иконопись. Агрессивно внедрялись заимствованные из западной практики особенности: партесное многоголосное церковное пение, а также новые способы иконописания, напоминавшие светскую живопись, противоречившие канонам и совершенно чуждые исконной православной традиции.
Петр был настоящим революционером и не останавливался на полумерах ни в чем. Взявшись однажды за дело государственного переворота, он последовательно осуществлял его во всех направлениях и сферах социальной, политической и духовной жизни. Преобразование церковной структуры было для него одним из первостепенных.
Раньше цари, рассматривая свою власть как данную Богом для защиты веры и заботы о душевном спасении православно верующих, стремились всячески возвысить национальную церковь, укрепить ее авторитет внутри страны и вовне. Для этого добились ее автокефалии и утверждения за русским митрополитом сана патриарха, что привело к усилению влияния церкви и укреплению религиозных настроений. Петра такое положение дел не устраивало по нескольким причинам. Русская церковь даже после реформ середины XVII века представляла для него опасность, поскольку и в измененном и значительно ослабленном виде была олицетворением старых общественных отношений и приоритетов, символизировала собой торжество теоцентрического мировоззрения.
Кроме того, наличие сплоченной церковной организации во главе с патриархом, с самостоятельным внутренним устройством, независимыми источниками дохода, окруженной торжественным церемониалом, – вызывало у Петра тревогу если не за собственную власть, то за ее покой.
Свои опасения, заставившие его провести очередную реформу церкви и упразднить сан патриарха, Петр прямо и открыто изложил в тексте указа о создании Синода: «…простой народ не ведает, как разнствует власть духовная от самодержавной, но, удивляемый великой честью и славою высочайшего пастыря, помышляет, что таковой правитель есть второй государь, самодержцу равносильнейший или больший, и что духовный чин есть другое и лучшее государство. И если народ сам собою привык так думать, то что же будет, когда разговоры властолюбивых духовных подложат как бы хвороста в огонь? Простые сердца так развращаются этим мнением, что не столько смотрят на самодержца, сколько на верховного пастыря. И когда случится между ними распря, все сочувствуют больше духовному правителю, чем мирскому, за него дерзают бороться и бунтовать, и льстят себя тем, что борются за самого Бога и рук не оскверняют, но освящают, хотя бы шли и на пролитие крови» {134} .
Это очень любопытный текст. Исследователями он нередко представляется как доказательство страхов Петра перед покушением на свою власть со стороны «духовного чина». Но содержание документа не может не вызывать вопросов. В русской истории ни разу не возникала ситуация, так красочно обрисованная в указе – никогда не случалось народу «идти на пролитие крови» во главе с патриархом против светского правительства. Русская теократия дореформенной эпохи была основана на крепкой царской власти и духовном авторитете патриарха. Ни один «высочайший пастырь» и в мыслях не держал ополчиться на царя при помощи силы – это было практически невозможно и не имело бы опоры ни в историческом опыте страны, ни в сознании народа.
В начале восемнадцатого столетия кое-что изменилось. Может быть, Петр и вправду отчасти опасался, что при определенных обстоятельствах и появлении в ней сильной личности церковь сможет возглавить антиправительственное выступление и повести за собой народ, доведенный, как никогда раньше, до отчаяния разорительной политикой и недовольный самим духом преобразований в антирелигиозном секулярном духе. Но все-таки текст указа скорее рисует почти фантастическую картину, учитывая настоящее положение церкви, чем исходит из реальной возможности. Эта фантазия понадобилась Петру как лишнее обоснование произведенной реформы по уничтожению патриаршества и последних остатков авторитета и независимости церкви.
Не страх перед мифическим патриархом-узурпатором, а желание самому стать «духовным пастырем» или, по крайней мере, присвоить себе его функции и полномочия руководили Петром в проведении синодской реформы. Он говорил: «Богу изволившу исправлять мне гражданство и духовенство, я им обое – государь и патриарх». Но Петр вкладывал в эти слова свой смысл. Он хотел не просто возглавить церковь, а в корне переделать ее изнутри, вывести из центра общественной жизни и поставить на службу создаваемому секулярному государству. С.П. Мельгунов метко охарактеризовал эту затею Петра как «переписку Божьего царства на государево имя» {135} .
Человеком, не просто довершившим разгром церковной старины, но создавшим законодательную и богословскую легитимную базу для этого разгрома, был еще один выходец из Малороссии, Феофан Прокопович. Он оставил глубокий след в отечественной истории, став основателем фактически новой церковной структуры в России.
В это время в Европе, пережившей ряд религиозных смут, кровопролитных войн и революций, повсеместно происходит возрождение сильной монархической власти или попытки к ее возрождению. Они имели разный успех, завершившись созданием абсолютизма, как во Франции, или потерпев поражение, как в Англии и Швеции. Но во всех случаях главной особенностью этих попыток было новое идеологическое обоснование монархической власти по сравнению с предыдущим периодом. Общее для европейских стран падение религиозности и вырождение христианского мировоззрения привело к созданию новых общественно-политических учений, призванных доказать право монархов на власть, поскольку прежние теократические объяснения теряли свою актуальность. И хотя Карл I незадолго до своей казни и посвятил в рыцари одного из самых ортодоксальных теоретиков «божественного права королей» – Роберта Филмера, производившего королевскую власть от патриархов ветхозаветных времен, врученную им непосредственно Богом, уже сын казненного, Карл II, а также правители других государств континента были вынуждены опираться на более современные теории.
В их основе лежала идея общественного договора с правителем, которому народом добровольно некогда была вручена абсолютная власть для сохранения порядка и защиты интересов граждан. Важно, что такое демократическое обоснование приводит тем не менее большинство авторов к утверждению необходимости почти деспотической власти правителя.
Феофан Прокопович, получивший превосходное образование в римской Униатской коллегии, знал в совершенстве все основные европейские общественно-политические теории и, выполняя волю Петра, взялся за применение их в России. Результатом его компилятивных усилий стало появление труда «Правда воли монаршей», в котором он доказывал право монарха на абсолютную власть и его абсолютную неподсудность любым земным юридическим нормам и установлениям, в том числе и тем, что созданы им самим. Одержимый рвением угодить Петру, Прокопович превзошел даже Гоббса, оставлявшего подданным право сопротивления монарху хотя бы при необходимости собственного самосохранения. Он не делает никаких оговорок, не предполагает никаких ситуаций, когда воля и власть правителя могла бы встретить законное противодействие.
Персона монарха заслоняет собой государство, и не просто олицетворяет его, но целиком и полностью вбирает в себя. Государь в представлении Прокоповича выше и человеческих законов, и церковных канонов. Правда, формальным руководством для монарха все же выступает «всенародная польза», но ее критерии никак не определены и оставлены на усмотрение самого правителя. Феофан утверждает: «Может монарх государь законно повелевати народу не только все, что к знатной пользе отечества своего потребно, но и все, что ему ни понравится, только бы народу не вредно и воле Божией не противно было».
Наряду со всеми остальными подданными абсолютная власть монарха распространяется и на духовенство, и на церковную организацию в целом. Она превращается в простое объединение лиц духовного чина, лишается своего мистического значения.
Но сам этот правитель, поставивший себя на место церкви, подчинивший себе общество, ставший его «верховным пастырем» и судьей, принципиально отличается от монарха прежнего времени. Государь не просто узурпирует абсолютную власть, но меняет смысл и назначение своей власти – она больше не служит целям общего душевного спасения, а направлена на достижение задекларированного общего материального блага. По замечанию А.В. Карташева, такой монарх нового типа служит не Царству Божию, а «высшую цель своего служения имеет в царстве здешней, земной культуры» {136} .
В действительности это служение «всенародной пользе» и одновременная ориентированность на секулярные земные ценности привела к развитию грубой тирании и личного деспотизма. Судьба церкви в этих обстоятельствах была чрезвычайно трагичной. Благодаря реформам царя Алексея и последующим преобразованиям Петра, она оказалась на службе даже не у «государства», а в полной зависимости от случайных лиц, сумевших занять престол в результате придворных свар, заговоров и интриг, была вынуждена обслуживать их частные интересы.
Возникшая в 1721 году на месте патриаршей православной церкви «духовная коллегиум» имела, как и всякое министерство, свой утвержденный штат, состоящий из президента, вице-президентов, советников и асессоров. Президентом был назначен Стефан Яворский, все эти годы не без наивности надеявшийся за свою лояльность Петру получить сан патриарха. Словно в предупреждение всяких ненужных сравнений чинов новой коллегии с прежней церковной иерархией, в ее регламенте говорилось, что на президенте нет «великой и народ удивляющей славы, несть лишней светлости, несть высокого о нем мнения» и ему нечего «помышлять о себе высоко». Почти сразу после своего создания коллегия была переименована в святейший Синод, но внутренняя чиновничье-министерская суть нового ведомства от этого не изменилась.