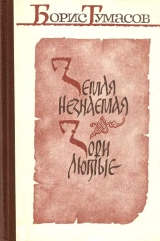
Текст книги "Земля незнаемая"
Автор книги: Борис Тумасов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 42 страниц)
– Эй, почто бранитесь? Сторож рад хозяйскому голосу.
– Монах бродячий, батюшко-болярин, прётся. Никако не сдержу.
– Допусти! – Версень посмотрел из-под взлохматившихся бровей на приблизившегося монаха.
– Тобе чего, с какой надобности в такую рань? – спросил Версень, не спускаясь с крыльца.
Монах поклонился, почти достав клобуком боярские валенки.
– Батюшко-болярин, спаси Бог. Плетусь я издалече, от самого Белого озера. Побывал в скиту у заволжских старцев, а ноне бреду к отцу Вассиану.
– Ну и добре, – насмешливо проронил Версень и тут же спросил: – Ко мне-то почто пёрся?
– Батюшко-болярин, когда из Белоозера уходил, видел меня боярин Твердя и дал письмо к тебе.
Версень подался вперёд.
– Где оно? – Рука сама потянулась к монаху.
Тот, задрав полу тулупа и приподняв рясу, недолго рылся в портах, достал измятый пергамент. Дрогнули брови у Версеня, взял письмо и, не сказав монаху ни слова, заспешил в хоромы. По пути в горницу крикнул спавшему у двери холопу:
– Огня вздуй!
Холоп подхватился, высек искру, раздул трут и, едва пламя разгорелось, зажёг свечу. Версень поднёс письмо к огню, прочитал вслух по складам:
– «..А боярину Ивану сыну Микиты Версень с поклоном пишет боярин Родион сын Зиновея… Житьё наше в Белоозере горькое, вельми трудное. Пока хоромы срубили, довелось горе мыкать в чёрной избе, с челядью. И от дороги дальней, морозов лютых да от смрада избяного тяжко занемогли мы с боярыней Степанидой. И поныне от хворобы никак не оправимся. Како будет дале, не ведаю. Таем телом, аки воск в жире.
Белоозеро – городок мал и бревенчатый, в зимнюю пору снег засыпает по самы трубы, и зверьё дикое к крепостным стенам подходит. В тихую ночь слыхать, как волки голодные воют. По Москве мы с боярыней Степанидой скучаем и слёзы льём. Сколь жить нам здеся, кто знает, но по всему видать, смерть тут принять доведётся. Увидишь коли ты, боярин Иван Микитич, инока Вассиана, поклонись от меня и боярыни Степаниды. Кланяемся мы тебе поклоном низким.
Писано в месяце берёзозоле[168]168
Берёзозол – март.
[Закрыть], в день пятый Родионом, сыном Зиновея, боярином Твердей».
Отложив пергамент на одноногий столик, Версень стиснул ладонями виски, долго сидел задумавшись. Потом поднялся с трудом, вышел во двор. Монаха уже не было. Сторож сказал:
– Не дождался. Боярин махнул рукой.
– Коли придёт, допусти ко мне.
Постоял немного на холоде. Ветер теребил непокрытые седые волосы. Сторож снова подал голос:
– Изморозишься, болярин.
Версень ни слова не проронил, медленно переставляя ноги, побрёл в терем.
* * *
Кружным морским путём, каким плавали немецкие торговые гости, а потом через Великий Новгород добирался в Москву посол императора Священной Римской империи[169]169
Основана королём Оттоном I в 962 году. Эта империя включала Германию, часть Италии, а также несколько других государств. Просуществовала до 1806 года.
[Закрыть] Сницен-Пармер.
Теснит Оттоманская Порта империю. Хозяйничают янычары султана на Балканах. Турецкие знамёна развеваются в Чехии. Грозят турки Европе. У императора Максимилиана нужда в союзниках, с кем против Оттоманской Порты воевать. Папа римский благословил поход против турок, но Священный союз создать Максимилиану никак не удаётся. Король Польский и великий князь Литовский Сигизмунд завяз в войне с московитами. Император не питает любви к Сигизмунду. Ко всему, Сигизмундов брат Владислав сидит королём в Венгрии и Богемии. Максимилиан считает Венгрию землёй империи. Габсбурги не верили Ягеллонам. Короли польские испокон веков зарятся на земли Священной Римской империи. Император надеялся на Россию. Московская Русь, враз поднявшаяся из небытия, в каком она оказалась по вине князей-усобников и татар, вдруг совсем неожиданно поднялась во всём своём величии и громко заявила о себе миру.
Крымский хан и турецкий султан признали это. Но великий князь Василий не послал свои полки против Оттоманской Порты, как бы того хотелось Максимилиану, а сказал, что он-де хочет владеть вотчинами своими, какие испокон веков Киевской Русью именовались. Сказал да и повёл войну за Смоленск и другие города.
Максимилиан этим доволен и не доволен. Если возьмут московиты Смоленск, Оршу, Киев, то ослабнет королевство Польское. Для империи это на руку. Но плохо, когда и Русь усилится да потребует галицкие земли. А на них у Максимилиана свои расчёты. Коли уговорить бы великого князя Московского повернуть полки на турок…
Императору Священной Римской империи и его советникам есть о чём поразмыслить. Максимилиан потому и посольство отправил в Москву. Пускай Сницен-Пармер своими глазами всё увидит и расскажет императору, каков этот русский медведь, что разъярился, поднялся на задние лапы.
Наряжая посла в дальнюю дорогу, Максимилиан напутствовал: «Приглядись и, если надобно будет, подпиши грамоту с московским князем на условии: нам Венгрию, ему Киев и не боле».
Далёк путь послу Священной Римской империи, немало месяцев прошло, пока добрался он в Москву…
* * *
Государь пробудился от грохота. Будто стена рухнула. Открыл глаза, голову поднял и недовольно поморщился. Это истопник Антипка дрова рассыпал.
– Эк, дубина, руки отсохли, чурок не удержишь!
Антип засуетился, подобрал дрова, сложил у печи стопкой. Опустившись на колени, сунул в огонь несколько поленьев. Пламя ярко разгорелось, осветив бородатое, красное, как кирпич, лицо истопника.
– Боле не клади, жарко, – снова сказал Василий. Вспомнив, что велел утром явиться Михаиле Плещееву, спросил:
– Михайло пришёл аль нет?
– В передней, – глядя на огонь, ответил Антип.
– Покличь!
Истопник встал с колен, вышел, и тут же в опочивальню вошёл Плещеев. Остановился у двери в ожидании.
– Подь ко мне, Михайло, – подозвал его великий князь. – Чай, не запамятовал, как мы с тобой чуть лбы о Смоленск не расшибли? Как тебе, а мне такое не по душе. К весне сызнова отправимся Смоленск искать.
Василий помедлил, глянул на Михаилу. Тот согласно кивнул, поддакнул:
– Оно, государь, и обидно. Чай, за свою землю драться приходится. И на тебе, за наше жито нас же и бито.
– Вот, вот! Однако наступит час, мы ли, либо кто иной за нами, а русские земли все воротим. Тебя же я звал нынче затем, как в Казань шлю. Письмо повезёшь Мухаммеду. А изустно скажи: государь-де велел к концу зимы слать в Москву конный тумен. На Литву с нашими полками вместе пойдёт.
Плещеев поклонился.
– Егда отъезжать, государь?
– Немедля, время не ждёт.
* * *
С Пушкарного двора одна за другой выезжали волокуши с пушками. Тут же на крепких санях-розвальнях умотаны бечёвками бочки с пороховым зельем, ядра в плетёных корзинах.
Игнаша с Сергуней самолично свою пушку дальнего боя на волокуше закрепили, чтоб не сползла ненароком, Степану наказали:
– Мотри, тебе перепоручаем. Коли доведётся, сам из неё пали. Да зелья, не бойсь, набивай вдвойне, выдюжит.
Степан отмахнулся:
– Знаю!
Сытые кони потянули дружно, и заскрипел снег под полозьями. Наскоро попрощавшись с друзьями, Степанка умостился на ходу. Засунув руки в рукава тулупа, задышал в поднятый воротник. Поёжился: «Надобно сенца где-либо по пути прихватить, и мягче будет, и теплей».
У Китай-города догнали остальной обоз, пристроились вслед. Ездовые щёлкали кнутами, покрикивали.
Следом за обозом увязалась орава шустрых мальчишек, цеплялись на волокуши. Пушкари посмеивались, затрагивали встречных девиц:
– Эй, красавицы, мы пушкари, громы мечем, с нами ехать не желаете?
Миновали крайние дома Кузнецкой слободы, монастырь за заставой. Позади осталась Москва. Она медленно отдалялась, растворяясь в обступивших её лесах.
* * *
Промозглое утро, и в нетопленом каменном дворце казанского хана сыро и зябко. Закутавшись в стёганый халат, Мухаммед-Эмин сидит на белой войлочной кошме, поджав ноги, и взгляд его блуждает по стене, на которой развешано оружие: сабли и луки, пищали огненного боя и кольчуги. Хан думает и в то же время напевает вполголоса, и песня у него длинная и монотонная. Мухаммед-Эмин поёт о юрте в степи и жарком костре, о полевых цветах в шёлке травы и быстроногом скакуне. Хан не любит дворец, но он и не расстанется с ним. Во дворце жил его отец, из рода Ахматов, во дворце суждено быть и ему, Мухаммед-Эмину, ибо дворец и Казанское ханство неразделимы, а хан любит власть и с ней добром не расстанется…
Мухаммед-Эмин поёт раскачиваясь, и теперь его песня о том, что надо исполнить приказ великого князя Московского и слать на его войну отборный тумен. Песня грустная и непонятная для многих. Даже темник Омар и тот не дальше как вчера обозвал хана Мухаммед-Эмина бабой. Хану донесли о том. И ещё говорил темник, что Мухаммед-Эмин служит не Казани, а Москве.
За те слова темника сегодня кинули в яму, а тумен поведёт темник Абдула.
Мухаммед-Эмин хмурится, и злая усмешка кривит рот. «Ха, – думает он, – Омар не видит дальше своего короткого носа. Разве можно сейчас отказать московскому князю, когда он в такой силе, а среди татарских ханов нет единства: Гирей на Ахматов, хан Ногайской Орды Мамай змеёй извивается. А когда татары враждуют между собой, урусы живут спокойно. Даже когда Русь воюет с Литвой, у московского князя хватает полков отбивать набеги Гиреевых сыновей…»
Но вот песня хана о матери, Нур-Салтанше. Мухаммед-Эмин не видел её с той поры, как умер отец и мать увезли в Крым в жёны Менгли-Гирею. Мухаммед-Эмин сразу же невзлюбил отчима за то, что тот вздумал считать казанцев своей ордой, а его, Мухаммед-Эмина, своим данником.
Два лета назад Нур-Салтанша приезжала в Казань, а дорогой побывала у московского князя. Великий князь чествовал ханшу Крыма, вёл с ней переговоры и в Грановитой палате при важных боярах, и наедине. Нур-Салтанша просила за сына Абдыл-Летифа, и Василий отвечал ей: «За разбойный набег Бурнаш-Гирея положил я опалу на сына твоего. Однако в уважение к тебе, ханша, прощу, но в Крым с тобой не отпускаю, нет у меня веры орде. Пусть же Абдыл в залог у нас останется. Придёт час, я ему в удел Каширу либо Юрьев дам».
У Мухаммед-Эмина к брату нет жалости. Пожалуй, так лучше, что тогда, при жизни отца, тот отдал его московскому князю Ивану в знак покорности Москве. Останься Абдыл в Казани, и кто ведает, кому бы сидеть сегодня ханом в этом дворце.
Узкие глазки Мухаммед-Эмина расширились. Он вспомнил, как мать говорила, что Менгли-Гирей стар и хвор, а когда умрёт, сыновья будут грызться за власть, как голодные собаки за кость.
Мухаммед-Эмин даже петь перестал. Пусть это случится скорей, пусть Гирей там, в Бахчисарае, перережут друг другу глотки.. Он хлопнул в ладоши. Неслышно появился старый, высохший, как гриб в засуху, евнух, согнулся в поклоне. Хан поднял на него глаза. Этому евнуху он доверял всё – и гарем, и сокровенные мысли, и даже свою жизнь. Сказал коротко, но резко:
– Вырвать темнику Омару язык, а голову отрубить.
Хан снова запел.
* * *
Редкие деревеньки, заметь снежных сугробов. Вьюжит. За неделю в дороге Степан до костей промёрз. Сотник, из детей боярских, тот, который обучал Степана грамоте, простудился, кашлял беспрерывно, хрипел. Степанка думал, сейчас бы сотнику попариться в баньке да мёду тёплого испить, куда б хворь подевалась, но, на беду, деревеньки попадались редко, да и в них останавливались только на ночёвку. Едва до избы доберутся, на полати залезут, кости отогреть не успеют, как уже пора трогаться.
Притомились кони, исхудали, а ещё и полпути не проехали. Дорога под горочку повела. Соскочил Степан с волокуши, пробежался рядом, размял ноги, чуть согрелся и снова умостился на соломе. На минуту веки смежил, и полати чудятся. Будто сидит он на них, свесив ноги. Рядом, протяни руку, и вот она, балка закопчённая, нити паутины с бахромой сажи…
Впереди вдруг зашумели, и пушкари побежали в голову обоза. Волокуши останавливали одну за другой. Сотник из саней подал голос:
– Эй, что стряслось?
Степанка поднялся во весь рост, пригляделся. Издали увидел присыпанные снегом головешки, обуглившиеся брёвна. Бородатый десятник сказал:
– На Москву ехали, передыхали тут.
– А и вправду, – припомнил Степанка. – Теперь в поле ночь коротать.
Пушкари столпились, недоумевали:
– Отчего пожар случился и куда народ подевался?
– Надобно дров засветло запасти.
– Истинно так. Давай, ребята. Подошёл сотник, заторопил:
– Ин довольно стоять, выпрягай коней, своди в круг, жги костры.
Ночь надвинулась быстро. Стемнело. Присев у костра на корточки, Степанка протянул к огню руки. Липу и груди тепло, а спина зябнет. Искры роем вздымались к звёздам. Бородатый десятник всмотрелся в темень, проговорил:
– Никак человек.
Степанка оглянулся, разглядел, стоит кто-то. Позвал:
– Ходи к огню, чего таишься?
Неизвестный мужик подошёл к костру, остановился. Пушкари раздвинулись, уступили место. Мужик сел, долго глядел на огонь, потом заговорил негромко:
– Село наше боярину Якушкину принадлежало, а вона, за тем леском, вотчина боярина Волкова. Прошлым летом моровая нас постигла, многих по сёлам и деревенькам унесла, а бояре зачали разбоем промышлять: Якушкин с холопами волковские деревеньки грабит, а тот якушкинские.
Слушают пушкари, не перебивают, а мужик продолжает:
– От Крещения на треть дён наскочил на село боярин Волков с конными холопами, мужиков да баб с детишками увёл на свои земли, а избы пожёг…
– Истые ордынцы, – промолвил пушкарь, сидевший рядом со Степанкой. Бородатый десятник поддакнул.
– Тати ратая зорят без совести, а весна настанет, кому поле пахать?
Задумался Степанка, вспомнилось житьё у Версеня. Крепкие кулаки у тиуна Демьяна. Закрыл глаза. В дремотном забытье привиделась Степану деревня, из которой ушёл шесть лет назад. Привиделся и боярин Версень, а из-за спины тиун Демьян рыло кажет, хихикает. Тут, на глазах у Степанки, боярин из человека в волка обратился, зубами щёлкает…
Пробудился Степан. Холодно, и костёр перегорает. Мороз крепчает, звёзды на небе яркие, крупные. Пушкари расходились, переговаривались. Шумели обозные, понукая коней. Степан прогнал сон, спросил:
– Аль ехать сбираются? Почто в полночь? Сотник ответил, кашляя:
– Мужик сказывал, деревня недалече, там отогреемся. Встал Степанка, поясом тулуп подвязал потуже, всё теплей будет, и отправился к волокуше.
* * *
К охоте готовились особливо. Егеря выискали тетеревиное стадо. В Воронцовом селе истопники топили княжеские хоромы. Дворовые девки сняли с бревенчатых стен паутину, смахнули пыль, до желтизны выскоблили дощатый пол. Сам дворецкий Пётр Плещеев старостью тряхнул, раньше времени в Воронцово явился с обозом разной снеди.
Государь не один приехал. С ним в лёгких золочёных санках молодая княжна Глинская. Разрумянилась, соболиная шапочка-боярка чудом на копне волос держится. Василий, едва с коня соскочил, сразу же к саням, самолично меховую полость с ног княжны откинул, помог из саней выбраться.
Из палат налегке, не успев шубу накинуть, выбежал дворецкий. Попервах не признал княжну. Оно и немудрено. Не девица, отрок стоит в коротком, затянутом в талии тулупчике, портах, вправленных в сапожки из красного сафьяна. Под пушистыми ресницами глаза без стыда, с хитринкой. Дворецкий оторопел, не ждал. Эко государь озадачил! При живой жене с литвинкой разъезжает. Судов-пересудов теперь не оберёшься.
Василий заминку дворецкого уловил, покосился, у того спина в поклоне переломилась, да не государю, а княжне поклон отвесил, засуетился, на хоромы обе руки простёр:
– Подь, княгинюшка, отогрейся, чать, ножкам холодно. И заюлил, задом дверь толкнул. Василий прервал его:
– Ну, Петра, будет ли завтра охота?
– О чём молвишь, государь? Как ей не быть, коли княжна того хочет!
– Мотри угоди, – Василий погрозил пальцем под самым носом Плещеева.
Отправились в лес на рассвете. Егеря протоптывали тропинку, негромко переговаривались. Княжна Елена в высоких тёплых валенках шла след в след за великим князем. Тот иногда обернётся, встретится с ней глазами, молча улыбнётся.
Третье лето, как поселилась княжна Елена в кремлёвских хоромах. Бояре пошушукались, позлословили и языки прикусили. Упаси Бог, прознает государь!
А Василию нет стыда, любит молодую княжну. Что дите малое, капризное тешит. Вот и нынче на охоту привёз.
Соломония единожды, ещё в первый год, за честь свою попыталась вступиться. Всего только и сказала, надобно отослать Елену к Михаиле Глинскому. Благо, дал ему государь вотчины на Москве…
Тихо в лесу. Спит всё. Деревья в снеговых шапках застыли, не шелохнутся. Ветви, что мучным налётом, инеем повиты. Хрустнет ли ветка под ногой, вспорхнёт ли испуганная птица, далеко слышно.
Не выходя на поляну, егеря остановились. Старший над ними, княжий любимец Тимоша, шепнул:
– Там, государь, вона за теми кустами рябины тетерева токуют.
Подкрались с заветренной стороны. Не чуя опасности, большие птицы дремали на дереве, лишь царственно важный белый петух ходил по поляне, клевал ягоды.
– О, свят Бог, какой красавец, – восхищённо выдохнула Елена.
– Стадо своё бережёт, – тихо рассмеялся Василий и поднял лук.
Одна за другой засвистели стрелы, и, нарушив тишину, ломая ветки, тяжело падали на снег испуганные тетерева.
Вскорости подоспел дворецкий с челядью, раскатали ковёр, еду из корзин достали, костёр разожгли, тетеревов ощипали, на вертела насадили.
Василий рад. День удачный, и княжна довольна, вон как сияет. И вспомнился постный лик Соломонии, в который раз подумал: «Смоленск у Литвы заберём, и с митрополитом совет буду держать, как Соломонию в монастырь отправить».
О Смоленске вспомнил, и в душе ворохнулось тревожное, что не покидает государя больше трёх недель. Послал к братьям, велел им в Москву ехать. Юрий с Дмитрием ответ прислали, собираются, а Семён отмолчался. Уж не воспротивится ль? Не ко времени его строптивость.
Отогнал Василий неприятные мысли, зачерпнул пригоршней снег, лизнул. Искоса любовался княжной. Егерь Тимошка ломал ветки алой, подмороженной рябины, угощал.
Тетеревов ели, запивая горячим сбитнем. Василий подшучивал над Еленой:
– А что, княгинюшка, чать, туг еда повкусней, чем в великокняжеских палатах? Вишь, как егеря искусны мясо на угольях печь.
К полудню разыскал великого князя гонец с радостной вестью: Семён братьев опередил, первым в Москву въехал.
* * *
В малой верхней горнице сидели вчетвером. Когда вот так полюбовно, друг другу обид не высказывая, разговор вели, сами того не упомнят. Братья держали совет. Великий князь сутулится в резном красного дерева кресле, с братьев глаз не спускает, сам себе не верит. Братья с миром прибыли, без строптивости.
На душе у Василия радостно, на одного брата посмотрит, на другого. Почему-то начинает думать, что Юрий и он, Василий, больше от отца взяли в обличье, Дмитрий же материнское перенял, только характером не тот, мягок, а Семён – не поймёшь, говорят, в прабабку Софью Витовтовну…
Сидят братья на кедровых скамьях, по правую руку от великого князя Юрий с Семёном, по левую Дмитрий. Наконец Василий речь повёл не спеша, каждое слово взвешивает:
– Час настал, братья, сообща на литвинов ударить. Не буду рассказывать, сами ведаете, как дважды подступали к Смоленску московские полки и неудача постигла нас. Доколь судьбу испытывать? Аль выжидать, покуда польско-литовское шляхетство на Москву двинется? Чать, Смоленск в их руках, а крепость эта необычная, и не только тем, что она искони русская, а и щитом должна служить у сердца нашего, преградой на пути к Москве. Так объединимся, братья, и ударим крепким кулаком.
Сказал и отрезал, сжал до боли в ладонях подлокотники кресла. Первым ответил Юрий:
– Я, брате Василий, с тобой согласен.
– И я тако же, – подхватил Дмитрий.
Василий перевёл взгляд на Семёна. Что ответит он? Тот очей не опустил, думал недолго:
– О чём сказывать? Я – как и вы, братья. Чать, одной матери дети, но не таю, был наш грех, Василий, перед тобой и когда за уделы таили зло, и когда Сигизмунд пытался нас поссорить. Каемся, и ты нас, брате Василий, прости. А на дружину мою расчёт имей полный.
Василий широко улыбнулся, облегчённо вздохнув, сказал:
– Иного ответа не ждал от вас, братья, ибо одно общее дело у нас – Русь крепить. А обиду я на вас не таю, с кем грех не случается. Ну а поелику мы с вами об одном урядились, то давайте и о другом уговор держать. На Смоленск с московскими полками пойдёт твоя, брат Юрий, дружина и твоя, Семён. А тебе, Дмитрий, стоять с полками в Серпухове для острастки крымцев. Ино они воспользуются нашей оплошностью и кинутся грабить наши земли.
Василий постучал ногтем по креслу, снова проговорил:
– Ко всему, на Литву с нами пойдёт тумен казанских татар. К хану Мухаммед-Эмину послал я Михаилу Плещеева. К нонешнему походу наш огневой наряд пополнился изрядно. Урок прошлого учли мы.
Василий поднялся.
– Был тут у нас посол императора Максимилиана Сницен-Пармер, соловьём заливался. Сулил Сигизмунда вместе бить, да я к нему веры не имею, хоть и грамотку императорскую принял, а Максимилиану свою дал. Признает император за государством Российским Смоленск с Киевом, а мы ответно за ним Венгрию.
Василий положил руку на плечо брату Юрию:
– И ещё о чём хочу сказать. Брат наш меньшой, Андрейка, в лета входит, доколь подле меня ему вертеться, да и в обиде будет. Надумал я ему в удел Старицу с сёлами отдать. Пусть там на княжении умнеет.
– Ты, брате, Ондрею за отца, как порешил, так тому и быть, – высказался за всех Юрий.
Василий развёл руками:
– А теперь отправимся, братья, в трапезную, за снедью прокоротаем вечер, помянем родителей наших. Чать, отцовское заканчивать предстоит. Он на Смоленск замахнулся, да смерть не дала ему руку опустить…
По узкому коридору шли гуськом. Холоп зажигал в подставцах восковые свечи. В печи, у самой трапезной, весело горели дрова. На противоположной стене плясали огненные блики. Василий поманил челядинца, топтавшегося у двери:
– Зови великую княгиню и княжну Елену тоже.








