В кварталах дальних и печальных
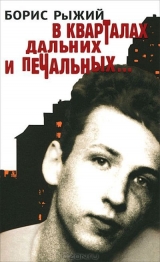
Текст книги "В кварталах дальних и печальных"
Автор книги: Борис Рыжий
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Надиктуй мне стихи о любви,
хоть немного душой покриви,
мое сердце холодное, злое
неожиданной строчкой взорви.
Расскажи мне простые слова,
чтобы кругом пошла голова.
В мокром парке башками седыми,
улыбаясь, качает братва.
Удивляются: сколь тебе лет?
Ты, братишка, в натуре поэт.
Это все приключилось с тобою,
и цены твоей повести нет.
Улыбаюсь, уделав стакан
за удачу, и прячу в карман,
пожимаю рабочие руки,
уплываю, качаясь в туман.
Расставляю все точки на «ё».
Мне в аду полыхать за враньё,
но в раю уготовано место
вам – за веру в призванье моё.
1999
Роме Тягунову
Я работал на драге в поселке Кытлым,
о чем позже скажу в изумительной прозе,
корешился с ушедшим в народ мафиози,
любовался с буфетчицей небом ночным.
Там тельняшку такую себе я купил,
оборзел, прокурил самокрутками пальцы.
А еще я ходил по субботам на танцы
и со всеми на равных стройбатовцев бил.
Да, наверное, все это – дым без огня
и актерство: слоняться, дышать перегаром.
Но кого ты обманешь! А значит, недаром
в приисковом поселке любили меня.
1999
А иногда отец мне говорил,
что видит про утиную охоту
сны с продолженьем: лодка и двустволка.
И озеро, где каждый островок
ему знаком. Он говорил: не видел
я озера такого наяву
прозрачного, какая там охота!
представь себе… А впрочем, что ты знаешь
про наши про охотничьи дела!
Скучая, я вставал из-за стола
и шел читать какого-нибудь Кафку,
жалеть себя и сочинять стихи
под Бродского, о том, что человек,
конечно, одиночество в квадрате,
нет, в кубе. Или нехотя звонил
замужней дуре, любящей стихи
под Бродского, а заодно меня —
какой-то экзотической любовью.
Прощай, любовь! Прошло десятилетье.
Ты подурнела, я похорошел,
и снов моих ты больше не хозяйка.
Я за отца досматриваю сны:
прозрачным этим озером блуждаю
на лодочке дюралевой с двустволкой,
любовно огибаю камыши,
чучела расставляю, маскируюсь
и жду, и не промахиваюсь, точно
стреляю, что сомнительно для сна.
Что, повторюсь, сомнительно для сна,
но это только сон и не иначе,
я понимаю это до конца.
И всякий раз, не повстречав отца,
я просыпаюсь, оттого что плачу.
1999
Прежде чем на тракторе разбиться,
застрелиться, утонуть в реке,
приходил лесник опохмелиться,
приносил мне вишни в кулаке.
С рюмкой спирта мама выходила,
менее красива, чем во сне.
Снова уходила, вишню мыла
и на блюдце приносила мне.
Потому что все меня любили,
дерева молчали до утра.
«Девочке медведя подарили», —
перед сном читала мне сестра.
Мальчику полнеба подарили,
сумрак елей, золото берез.
На заре гагару подстрелили.
И лесник три вишенки принес.
Было много утреннего света,
с крыши в руки падала вода,
это было осенью, а лето
я не вспоминаю никогда.
1999
Ордена и аксельбанты
в красном бархате лежат,
и бухие музыканты
в трубы мятые трубят.
В трубы мятые трубили,
отставного хоронили
адмирала на заре,
все рыдали во дворе.
И на похороны эти
любовался сам не свой
местный даун, дурень Петя,
восхищенный и немой.
Он поднес ладонь к виску.
Он кривил улыбкой губы.
Он смотрел на эти трубы,
слушал эту музыку.
А когда он умер тоже,
не играло ни хрена,
тишина, помилуй, Боже,
плохо, если тишина.
Кабы был постарше я,
забашлял бы девкам в морге,
прикупил бы в Военторге
я военного шмотья.
Заплатил бы, попросил бы,
занял бы, уговорил
бы, с музоном бы решил бы,
Петю, бля, похоронил.
1999
Окраина стройки советской,
фабричные красные трубы.
Играли в душе моей детской
Ерёменко медные трубы.
Ерёменко медные трубы
в душе моей детской звучали.
Навеки влюбленные, в клубе
мы с Ирою К. танцевали.
Мы с Ирою К. танцевали,
целуясь то в щеки, то в губы.
Но сердце мое разрывали
Ерёменко медные трубы.
И был я так молод, когда-то
надменно, то нежно, то грубо,
то жалобно, то виновато…
Ерёменко медные трубы!
1999
Словно в бунинских лучших стихах, ты, рыдая, роняла
из волос – что там? – шпильки, хотела уйти навсегда.
И пластинка играла, играла, играла, играла,
и заело пластинку, и мне показалось тогда,
что и время, возможно, должно соскочить со спирали
и, наверно, размолвка должна продолжаться века.
Но запела пластинка, и губы мои задрожали,
словно в лучших стихах Огарева: прости дурака.
1999
Включили новое кино,
и началась иная пьянка,
но все равно, но все равно
то там, то здесь звучит «Таганка».
Что Ариосто или Дант!
Я человек того покроя —
я твой навеки арестант
и все такое, все такое.
1999
Где обрывается память, начинается старая фильма,
играет старая музыка какую-то дребедень.
Дождь прошел в парке отдыха, и не передать, как сильно
благоухает сирень в этот весенний день.
Сесть на трамвай 10-й, выйти, пройти под аркой
сталинской: все как было, было давным-давно.
Здесь меня брали за руку, тут поднимали на руки,
в открытом кинотеатре показывали кино.
Про те же самые чувства показывало искусство,
про этот самый парк отдыха, про мальчика на руках.
И бесконечность прошлого, высвеченного тускло,
очень мешает грядущему обрести размах.
От ностальгии или сдуру и спьяну можно
подняться превыше сосен, до самого неба на
колесе обозренья, но понять невозможно:
то ли войны еще не было, то ли была война.
Всё в черно-белом цвете, ходят с мамами дети,
плохой репродуктор что-то победоносно поет.
Как долго я жил на свете, как переносил все эти
сердцебиенья, слезы, и даже наоборот.
1999
Когда в подъездах закрывают двери
и светофоры смотрят в небеса,
я перед сном гуляю в этом сквере,
с завидной регулярностью, по мере
возможности, по полтора часа.
Семь лет подряд хожу в одном и том же
пальто, почти не ведая стыда,
не просто подвернувшийся прохожий —
писатель, не прозаик, а хороший
поэт, и это важно, господа.
В одних и тех же брюках и ботинках,
один и тот же выдыхая дым,
как портаки на западных пластинках,
я изучил все корни на тропинках.
Сквер будет назван именем моим.
Пускай тогда, когда затылком стукну
по днищу гроба, в подземелье рухну,
заплаканные свердловчане пусть
нарядят механическую куклу
в мое шмотье, придав движеньям грусть.
И пусть себе по скверу шкандыбает,
пусть курит «Приму» или «Беломор»,
но раз в полгода куклу убирают,
и с Лузиным Серегой запивает
толковый опустившийся актер.
Такие удивительные мысли
ко мне приходят с некоторых пор.
А право, было б шороху в отчизне,
когда б подобны почести – при жизни,
хотя, возможно, это перебор.
1999
Путь до Магадана недалекий,
поезд за полгода довезет…
Горняцкая песня
В обширном здании вокзала
с полуночи и до утра
гармошка тихая играла:
«та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра».
За бесконечную разлуку,
за невозможное прости,
за искалеченную руку,
за черт те что в конце пути —
нечетные играли пальцы,
седую голову трясло.
Круглоголовые китайцы
тащили мимо барахло.
Не поимеешь, выходило,
здесь ни монеты, ни слезы.
Тургруппа чинно проходила,
несли узбеки арбуз ы… [69]69
Вариант строфы:
Тургруппы чинно проходили,
несли узбеки арбуз ы…
Не поимеешь, выходило,
здесь ни монеты, ни слезы.
[Закрыть]
Зачем же, дурень и бездельник,
играешь неизвестно что?
Живи без курева и денег
в одетом наголо пальто.
Надрывы музыки и слезы
не выноси на первый план —
на юг уходят паровозы.
«Уходит поезд в Магадан!»
1999
В кварталах дальних и печальных, что утром серы и пусты, где выглядят смешно и жалко сирень и прочие цветы, есть дом шестнадцатиэтажный, у дома тополь или клен стоит, ненужный и усталый, в пустое небо устремлен, стоит под тополем скамейка и, лбом уткнувшийся в ладонь, на ней уснул и видит море писатель Дима Рябоконь [70]70
Рябоконь Дмитрий Станиславович – поэт, автор нескольких поэтических сборников (род. в 1963 году в г. Березовский Свердловской области), живет в Екатеринбурге.
[Закрыть].
Он развязал и выпил водки, он на хер из дому ушел, он захотел уехать к морю, но до вокзала не дошел. Он захотел уехать к морю, оно страдания предел. Проматерился, проревелся и на скамейке захрапел.
Но море сине-голубое, оно само к нему пришло и, утреннее и родное, заулыбалося светло. И Дима тоже улыбался. И, хоть недвижимый лежал, худой, и лысый, и беззубый, он прямо к морю побежал. Бежит и видит человека на золотом на берегу. А это я никак до моря доехать тоже не могу – уснул, качаясь на качели, вокруг какие-то кусты. В кварталах дальних и печальных, что утром серы и пусты.
1999
Город Верхний Уфалей Челябинской области расположен на реке Уфалей на границе Свердловской области.
[Закрыть]
Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей
и обеими руками обнимал моих друзей —
Водяного с Черепахой, щуря детские глаза.
Над ушами и носами пролетали небеса.
Можно лечь на синий воздух и почти что полететь,
на бескрайние просторы влажным взором посмотреть:
лес налево, луг направо, лесовозы, трактора.
Вот бродяги-работяги поправляются с утра.
Вот с корзинами маячат бабки, дети – грибники.
Моют хмурые ребята мотоциклы у реки.
Можно лечь на теплый ветер и подумать-полежать:
может, правда нам отсюда никуда не уезжать?
А иначе даром, что ли, желторотый дуралей —
я на крыше паровоза ехал в город Уфалей!
И на каждом на вагоне, волей вольною пьяна,
«Приму» ехала курила вся свердловская шпана.
1999
Нужно двинуть поездом на север,
на ракете в космос сквозануть,
чтобы человек тебе поверил,
обогрел и денег дал чуть-чуть.
А когда родился обормотом
и умеешь складывать слова,
нужно серебристым самолетом
долететь до города Москва.
1999
Уж убран с поля начисто турнепс
и вывезены свекла и капуста.
На фоне развернувшихся небес
шел первый снег, и сердцу было грустно.
Я шел за снегом, размышляя о
бог знает чем, березы шли за мною.
С голубизной мешалось серебро,
мешалось серебро с голубизною.
1999
Только справа соседа закроют, откинется слева [72]72
закроют – посадят, откинется – выйдет на свободу (жарг.).
[Закрыть]:
если кто обижает, скажи, мы соседи, сопляк.
А потом загремит дядя Саша, и вновь дядя Сева
в драной майке на лестнице: так, мол, Бориска, и так,
если кто обижает, скажи. Так бы жили и жили,
но однажды столкнулись – какой-то там тесть или зять
из деревни, короче, они мужика замочили.
Их поймали и не некому стало меня защищать.
Я зачем тебе это сказал, а к тому разговору,
что вчера на башке на моей ты нашла серебро —
жизнь проходит, прикинь! Дай мне денег, я двину к собору,
эти свечи поставлю, отвечу добром на добро.
1999
У памяти на самой кромке
и на единственной ноге
стоит в ворованной дубленке
Василий Кончев – Гончев, «гэ»!
Он потерял протез по пьянке,
а с ним ботинок дорогой.
Пьет пиво из литровой банки,
как будто в пиве есть покой.
А я протягиваю руку:
уже хорош, давай сюда!
Я верю, мы живем по кругу,
не умираем никогда.
И остается, остается
мне ждать, дыханье затая:
вот он допьет и улыбнется.
И повторится жизнь моя.
1999
До пупа сорвав обноски,
с нар сползают фраера,
на спине Иосиф Бродский
напортачену бугра —
начинаются разборки
за понятья, за наколки.
Разрываю сальный ворот:
душу мне не береди.
Профиль Слуцкого наколот
на седеющей груди!
1999
Ты столь паршива, моя кошка,
что гимн слагать тебе не буду.
Давай, гляди в свое окошко,
пока я мою здесь посуду.
Тебя я притащил по пьянке,
была ты маленьким котенком.
И за ушами были ранки.
И я их смазывал зеленкой.
Единственное, что тревожит —
когда войду в пределы мрака,
тебе настанет крышка тоже.
И в этом что-то есть однако.
И вот от этого мне страшно.
И вот поэтому мне больно.
А остальное все – не важно.
Шестнадцать строчек. Ты довольна?
1999
Не забывай, не забывай
игру в очко на задней парте.
Последний ряд в кинотеатре.
Ночной светящийся трамвай.
Волненье девичьей груди.
Но только близко, близко, близко
(не называй меня Бориской!)
не подходи, не подходи.
Всплывет ненужная деталь:
– Прочти-ка Одена [73]73
Оден Уистен Хью (1907–1973) – англо-американский поэт, певец одиночества и жизненных разочарований.
[Закрыть], Бориска…
Обыкновенная садистка.
И сразу прошлого не жаль.
1999
Прошел запой, а мир не изменился,
пришла муз ыка, кончились слова.
Один мотив с другим мотивом слился.
(Весьма амбициозная строфа.)
…а может быть, совсем не надо слов
для вот таких – каких таких? – ослов…
Под сине-голубыми облаками
стою и тупо развожу руками,
весь музыкою полон до краев.
1999
У современного героя
я на часок тебя займу,
в чужих стихах тебя сокрою
поближе к сердцу моему.
Вот: бравый маленький поручик,
на тройке ухарской лечу.
Ты, зябко кутаясь в тулупчик,
прижалась к моему плечу.
И эдаким усталым фатом,
закуривая на ветру,
я говорю: живи в двадцатом.
Я в девятнадцатом умру.
Но больно мне представить это:
невеста, в белом, на руках
у инженера-дармоеда,
а я от неба в двух шагах.
Артериальной теплой кровью
я захлебнусь под Машуком,
и медальон, что мне с любовью,
где ты ребенком… В горле ком.
1999
Всякий раз, гуляя по Свердловску,
я в один сворачиваю сквер,
там стоят торговые киоски
и висит тряпье из КНР.
За горою джинсового хлама
вижу я знакомые глаза.
Здравствуй, одноклассница Татьяна!
Где свиданья чистая слеза?
Азеров измучила прохлада.
В лужи осыпается листва.
Мне от сказки ничего не надо,
кроме золотого волшебства.
Надо, чтобы нас накрыла снова,
унесла зеленая волна
в море жизни, океан былого,
старых фильмов, музыки и сна.
1999
На фоне граненых стаканов
рубаху рвануть что есть сил…
Наколка – Георгий Ив анов —
на Вашем плече, Михаил.
Вам грустно, а мне одиноко.
Нам кажут плохое кино.
Ах, Мишенька, с профилем Блока
на сердце живу я давно.
Аптека, фонарь, незнакомка —
не вытравить этот пейзаж
Гомером, двухтомником Бонка…
Пойдемте, наш выход, на пляж.
1999
Подались хулиганы в поэты,
под сиренью сидят до утра,
сочиняют свои триолеты.
Лохмандеи пошли в мусора —
ловят шлюх по ночным переулкам,
в нулевых этажах ОВД
в зубы бьют уважаемым уркам,
и т. д., и т. п., и т. д.
Но отыщется нужное слово,
но забродит осадок на дне,
время вспять повернется, и снова
мы поставим вас к школьной стене.
1999
Так я понял: ты дочь моя, а не мать,
только надо крепче тебя обнять
и взглянуть через голову за окно,
где сто лет назад, где давным-давно
сопляком шмонался я по двору
и тайком прикуривал на ветру,
окружен шпаной, но всегда один —
твой единственный, твой любимый сын.
Только надо крепче тебя обнять
и потом ладоней не отнимать
сквозь туман и дождь, через сны и сны.
Пред тобой одной я не знал вины.
И когда ты плакала по ночам,
я, ладони в мыслях к твоим плечам
прижимая, смог наконец понять,
понял я: ты дочь моя, а не мать.
И настанет время потом, потом —
не на черно-белом, а на цветном
фото, не на фото, а наяву
точно так же я тебя обниму.
И исчезнут морщины у глаз, у рта,
ты ребенком станешь – о, навсегда! —
с алой лентой, вьющейся на ветру.
…Когда ты уйдешь, когда я умру.
1999
Я зеркало протру рукой
и за спиной увижу осень.
И беспокоен мой покой,
и счастье счастья не приносит.
На землю падает листва,
но долго кружится вначале.
И без толку искать слова
для торжества такой печали.
Для пьяницы-говоруна
на флейте отзвучало лето,
теперь играет тишина
для протрезвевшего поэта.
Я ближе к зеркалу шагну
и всю печаль собой закрою.
Но в эту самую мину —
ту грянет ветер за спиною.
Все зеркало заполнит сад,
лицо поэта растворится.
И листья заново взлетят,
и станут падать и кружиться.
1999
Нагой, но в кепке восьмигранной, переступая через нас,
со знаком качества на члене, идет купаться дядя Стас.
У водоема скинул кепку, махнул седеющей рукой:
айда купаться, недотепы, и – оп о сваю головой.
Он был водителем «камаза». Жена, обмякшая от слез
И вот: хоронят дядю Стаса под вой сигналов, скрип колес.
Такие случаи бывали, что мы в натуре, сопляки, стояли
и охуевали, чесали лысые башки. Такие вещи нас касались,
такие песни про тюрьму на двух аккордах обрывались,
что не расскажешь никому.
А если и кому расскажешь, так не поверят ни за что,
и, выйдя в полночь, стопку вмажешь в чужом пальте,
в чужом пальто. И, очарованный луною, окурок выплюнешь
на снег и прочь отчалишь.
Будь собою, чужой, ненужный человек.
*
Участковый был тихий и пьяный, сорока или более
лет. В управлении слыл он смутьяном – не давали ему
пистолет. За дурные привычки, замашки двор его поголовно
любил. Он ходил без ментовской фуражки, в кедах на босу
ногу ходил. А еще был похож на поэта, то ли Пушкина,
то ли кого. Со шпаною сидел до рассвета. Что еще я о нем?
Ничего мне не вспомнить о нем, если честно. А напрячься,
и вспомнится вдруг только тусклая возле подъезда
лампочка с мотыльками вокруг.
*
Хожу по прошлому, брожу, как археолог. Наклейку,
марку нахожу, стекла осколок. …Тебя нетронутой, живой,
вполне реальной, весь полон музыкою той вполне печальной.
И пролетают облака, и скоро вечер, и тянется моя рука
твоей навстречу. Но растворяются во мгле дворы и зданья.
И ты бледнеешь в темноте – мое созданье, то, кем я
жил и кем я жив в эпохе дальней.
И все печальнее мотив, и все печальней.
1999
Вы, Нина, думаете, Вы
нужны мне, что Вы, я, увы
люблю прелестницу Ирину,
а Вы, увы, не таковы.
Ты полагаешь, Гриня, ты
мой друг единственный? Мечты.
Леонтьев, Дормозов и Лузин —
вот, Гриня, все мои кенты.
Леонтьев – гений и поэт,
и Дормозов, базару нет,
поэт, а Лузин – абсолютный
на РТИ авторитет.
1999
В феврале на Гран-канале
в ночь тринадцатого дня
на венцьанском карнавале
вы станцуете для меня.
Я в России, я в тревоге
за столом пишу слова:
не-устали-ль-ваши-ноги —
не-кружится-ль-голова?
Предвкушаю ваши слезы
в робких ямочках у рта:
вы в России, где морозы,
ночь, не видно ни черта.
Вы на Родине, в печали.
Это, деточка, фигня —
вы на этом карнавале
потанцуйте для меня.
1999
Герасима Петровича рука не дрогнула. Воспоминанье
номер один: из лужи вытащил щенка – он был живой,
а дома помер. И все. И я его похоронил. И всё. Но для чего,
не понимаю, зачем ребятам говорил, что скоро всех собакой
покусаю, что пес взрослеет, воет по ночам, а по утрам ругаются соседи?
Потом я долго жил на этом свете и огорчался или огорчал, и стал большой.
До сей поры, однако, не постоянно, граждане, а вдруг,
сжав кулаки в карманах брюк, боюсь вопроса: где твоя собака?
1992, 1999
Первый снег, очень белый и липкий,
и откуда-то издалека:
наши лица, на лицах улыбки,
мы построили снеговика.
Может только, наверно, искусство
о таких безмятежностях врать,
там какое-то странное чувство
начинало веселью мешать.
Там какое-то странное чувство
улыбаться мешало, а вот:
чувство смерти, чтоб ей было пусто.
Хули лыбишься, старая ждет!
1999
Тонкой дымя папироской,
где-то без малого час
Яков Петрович Полонский
пишет стихи про Кавказ.
Господи, только не сразу
финку мне всаживай в грудь.
Дай дотянуть до «Кавказу» [75]75
Цикл стихов Я. Полонского «Закавказье» (1846–1851), посвященных жизни и быту кавказцев.
[Закрыть].
Дай сочинить что-нибудь.
Раз, и дурное забыто.
Два, и уже не стучат
в гулком ущелье копыта,
кони по небу летят.
Доброе – как на ладони.
Свет на висках седока.
Тонкие черные кони
в синие прут облака.
1999
Тушь, губная помада
на столе у окна,
что забыла когда-то,
исчезая, одна.
Ты забыла, забыла
на окне у стола,
ты меня разлюбила,
ты навеки ушла.
Но с похмелья сознанье
я теряю когда,
в голубое сиянье
ты приходишь сюда.
И прохладна ладошка
у меня на губах,
и деревья к окошку
подступают в слезах.
И с тоскою во взоре
ты глядишь на меня,
шепчешь: «Боренька, Боря!»
И целуешь меня.
1999
Померкли очи голубые,
Погасли черные глаза —
Стареют школьницы былые,
Беседки, парки, небеса.
Исчезли фартучки, манжеты,
А с ними весь ажурный мир.
И той скамейки в парке нету,
Где было вырезано «Б. Р.».
Я сиживал на той скамейке,
Когда уроки пропускал.
Я для одной за три копейки
Любовь и солнце покупал.
Я говорил ей небылицы:
Умрем, и все начнется вновь.
И вновь на свете повторится
Скамейка, счастье и любовь.
Исчезло все, что было мило,
Что только-только началось, —
Любовь и солнце – мимо, мимо
Скамейки в парке пронеслось.
Осталась глупая досада —
И тихо злит меня опять
Не то, что говорить не надо,
А то, что нечего сказать.
Былая школьница, по плану —
У нас развод, да будет так.
Прости былому хулигану —
что там? – поэзию и мрак.
Я не настолько верю в слово,
Чтобы, как в юности, тогда,
Сказать, что все начнется снова.
Ведь не начнется никогда.
1999
Эвтерпа, поцелуй и позабудь,
где Мельпомена, музы жизни где,
Явись ко мне, и в эту ночь побудь
со мною, пусть слова твои, во мне
преобразившись, с новою тоской
прольются на какой-нибудь листок
бумаги. О, глаза на мир раскрой
тому, кто в нем и глух и одинок.
1999
В наркологической больнице
с решеткой черной на окне
к стеклу прильнули наши лица,
в окне Россия, как во сне.
Тюремной песенкой отпета,
последним уркой прощена
в предсмертный час, за то что, это,
своим любимым не верна.
Россия – то, что за пределом
тюрьмы, больницы, ЛТП.
Лежит Россия снегом белым
и не тоскует по тебе.
Рук не ломает и не плачет
с полуночи и до утра.
Все это ничего не значит.
Отбой, ребята, спать пора!
1999








