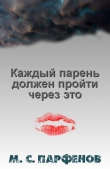Стихотворения и поэмы

Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Борис Ручьев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
ЛЕСНИК
из поэмы «Аленушка»
Ой, стоят леса сыр-дремучие,
выше лету стоят вороньего,
ниже лету стоят орлиного.
Как медведь пойдет – елка сломится,
старый волк пойдет – хрустнет косточка,
а пойдет лиса-землянишница —
тишина кругом высока, густа.
....В тех сырых лесах дремучих
льется речка тыщу лет,
и стоит над самой кручей
Черноборский сельсовет.
А отсюда с давних пор
шла дорога в Черный бор.
Дальше в лес – помене ветра,
дальше в бор – поболе дров.
На тридцатом километре
жил да был лесник Крылов.
Николай Ильич Крылов —
черноборский зверолов.
До сих пор Крылову снится,
как в дивизии служил,
возле Волги за Царицын
чудом жизнь не положил.
Отгремели все сраженья,
и пришел он в край родной
весь в военном снаряженье,
в шапке с красною звездой.
Год за годом мирно прожил,
полушубки черной кожи
из конторы получал,
но военную одежу
не снимал Крылов с плеча.
Где протрется – залатает,
латку к латке ниткой шьет,
но одежа фронтовая
износилась в свой черед...
И остались у солдата
от походной справы той
ремень вечный, рубцеватый,
шапка с красною звездой.
Шапка пулями пробита,
шапка ливнями промыта,
шапка возраста не знает:
был у смушки сизый цвет —
смушка по лесу летает,
а на шапке смушки нет.
На спине Крылова нес
конь каурый, уши врозь.
Конь печатает подковы
на песке в неровный ряд.
Слева бродит шум сосновый,
справа елки говорят.
Едет, в качке приседая,
упираясь в стремена,
из-под шапки чуб спадает,
а на чубе – седина.
Седина летит, как иней,
прямо в синий левый глаз.
Был и правый тоже синий,
да от пули глаз погас.
Сжата кожаная куртка
в перекрестные ремни.
...Дремлет старый конь-каурка,
спотыкается о пни.
Так с винтовкой в годы мира
едет воин по лесам,
сам себе за командира,
сам товарищ комиссар.
По чаще, по лесосекам
проезжает, лес храня
от лихого человека,
от злодейского огня.
Озирает по порядку
все тропинки и кусты...
Словно спят бойцы с устатку
от походной маеты.
В жажде спят, забыв про фляги,
не прикрыв ничем голов...
И хранит заснувший лагерь
Николай Ильич Крылов.
1936
КАНУН
поэма
«1 день остался до пуска домны».
Газета «Магнитогорский рабочий»,
30 сентября 1931 года
Бог, как выдумка, выжил из моды.
Я и сам – гражданин без креста —
позабыл, что считаем мы годы
с рождества Иисуса Христа.
Ныне, веруя истою верой
в труд и правду, в закон и еду,
как строитель, особою мерой
исчисление жизни веду.
Не за день или час – за минуту
горизонт раздавался слегка,
мы чуток вырастали как будто,
за два года пройдя сквозь века:
Земляной, Деревянный, Бетонный...
И уже замирает душа,
как загрохал над первою домной
завершающий век Монтажа.
Он зиял перед нами разрезом
тайных стоков для огненных рек,
крыл железом, мостил их железом
и клепал их в железо навек.
В кожушке броневого закала
пятым, праздничным веком Литья
на глазах по часам вырастала
Домна-матушка, юность моя,
не кренясь от сварного убора,
тягой в добрые тысячи тонн...
Знать, под стать ей земная опора —
нашей вечной закваски бетон!
И теперь в ожидании строгом
красной даты, немыслимой встарь,
рождеством чугуна, а не бога
жил единственный наш календарь.
Жил, как молния, точный и срочный,
озаряя весь мир и судьбу,
даже днем электрической строчкой
пламенея у домны во лбу.
Не прося ни единой поправки,
мы считали от каждой зари:
– Сколько зорек осталось до плавки?
Вот сто пять... Сто четыре... Сто три...
Будто жизнь свою с домной сверяя,
шли мы фронтом бетонных работ.
Вот взошла на фундамент вторая,
третью ставим, четвертая ждет.
Лета словно бы не было вовсе,
время катится в гору, как вспять.
До вершинной зари – двадцать восемь...
Двадцать семь... Двадцать шесть... Двадцать пять...
А кругом уже хмарились дали,
ветер пуговки рвал на груди,
и на нас то снежком опадали,
то лились окладные дожди.
И вдруг он приспел, календарный канун...
Во фрунт наша домна стоит на кону,
стоит, будто в песне тот крейсер «Варяг»,
готовая к таинству битвы.
Все вымпелы вьются, все звезды горят,
все стенки бронею обиты.
Как насмерть, засел боевой экипаж —
«Механомонтаж» да «Энергомонтаж».
А что там творится – в середке, в нутре, —
нельзя ни единым глазком подсмотреть.
Хоть мы не спецы, но прямая родня —
пехота всего Домностроя,
согласная ждать здесь победного дня,
вкруг домны оградою стоя.
Любой ради домны хоть в пекло готов...
И нынче в последнем аврале
от мусора собственных черных трудов
площадку к параду прибрали...
Нынче сам не приметив ни разу
ни огня и ни дыма в печи,
затаил я в душе, как заразу,
непокой за неладный почин.
Я, причастный к ударному штабу,
в сей момент, как последний вахлак,
чуть не плача, толкую прорабу,
дескать, что-то маленько не так...
Видно, где-то замешкалось чудо,
все в тумане секретов и тайн...
И молчит наша домна покуда,
как пустой и холодный титан.
Вздел очки мой прораб. Глянул сверху.
Будто столб, отшатнулся на шаг.
– Кто ты есть, – говорит, – на поверку,
друг мой ситный, дурак или враг?
Оглядись, – говорит, – да осмысли:
въявь подходит святое число!
Может, пять, может, десять комиссий
пишут гербовый акт набело.
Сам видал, сам считал, сам проверил:
за весь день то гурьбой, то поврозь
больше ста только шляп да портфелей
на командный помост поднялось.
И еще, – говорит, – нам на счастье,
здесь, как туз меж козырных гостей,
первый в мире по доменной части
вроде б кум наш, колдун, чудодей!
Дорогой от макушки до пяток,
самый тот доброхот, в чей доход
двести долларов, как бы в додаток,
каждый день наш Госбанк отдает...
Все он знал, наш наставник бетонный,
что к чему, кто причем, что почем:
– Если сами не справимся с домной,
так наладим валютным ключом...
Словно б кончился он так, как надо,
календарный обратный отсчет.
И написаны над эстакадой
охрой лозунги: «Полный вперед!»
...И за полночь, шибко умаявшись сам,
прораб нам велел разойтись по домам
да глотки просил поберечь до утра
от ветра, воды и махорки,
чтоб завтра исполнить такое «ура»,
чтоб стекла звенели в Нью-Йорке...
Все свершилось. Исполнились сроки.
В тучах – первая ночь октября.
В первый раз нам не светит высокий
луч погасшего календаря.
В глубоком сердечном запале,
не чуя ни рук и ни ног,
под утро мы словно б заспали
торжественный первый гудок.
Позорно проспали под кровом
внезапный небесный аврал,
когда бело-ярым покровом
зазимок всю землю сковал.
Совсем не дождавшись сигнала,
безделье считая за грех,
рабсила сама пошагала
в заветный наш доменный цех.
Без нас тут вся страсть отгорела,
остудное солнце встает.
...Лебедок застывшие стрелы,
конструкций да труб переплет.
И стынет маячною башней,
в броне вороненой до плеч,
готова хоть в бой рукопашный
огнем не крещенная печь.
Дите богатырской породы,
с какой стороны ни гляди,
стотонные трубопроводы
как руки скрестив на груди.
И словно по прихоти вражьей,
штыком осадив нас назад,
стоял перед нею на страже
наш русский курносый солдат.
Стоял с петушиной осанкой,
проходу не дав никому,
как будто перед арестанткой,
доверенной только ему.
– А кто виноват? – мужики говорят.
– Кто главный тут в праве и силе?
– Пошто ни одну из монтажных бригад
на главный свой фронт не пустили?!
Пошто все фронты перекрыты подряд
и наши доходы под снегом горят?!
Нам стужа не студит каленые лбы...
И, чистым снежком приодеты,
сегодня молчат цеховые штабы,
рабочей судьбы комитеты.
Один комитет... Другой комитет...
Куда ни пойдешь, а хозяев там нет.
В то утро без трубного зова,
тревогу душой ощутив,
как будто он мобилизован,
собрался партийный актив.
Сошелся, по-штатски неслышный,
на высший совет фронтовой
под самой просторною крышей,
в шатровый дворец цирковой.
И что там, к добру или худу,
говорено и решено,
того беспартийному люду
пока еще знать не дано.
Словом, вышел для нашего брата
нынче полный, бессрочный простой.
И стоит, словно туча, крылатый,
замороженный наш Домнострой...
Только вдруг у крылечка столовой,
издалече приметный на взгляд,
увидали мы новый, тесовый,
с трехметровым значеньем плакат.
А на нем, как живой, без движенья,
дюжий парень с разинутым ртом
стал навстречу нам ростом саженьим,
будто в лоб мой нацелясь перстом.
Будто требуя спросом законным,
строгой совестью точный ответ:
«Стой, строитель! А техникой домны
ты уже овладел или нет?»
Кто-то вычитал скороговоркой:
дескать, вечером, в шесть в аккурат,
мистер Шпрот, консультант из Нью-Йорка,
для рабочих читает доклад...
День короткий, а времени мало —
надо в баню и надо в кино.
Только сердце всегда уступало,
если домны касалось оно.
В бездорожье, почти что не рада
на ночь глядя терпеть маету,
все же срочно решила бригада
навести на себя красоту.
Отскреблась от бетона и глины,
каждый сам прифрантился, как мог.
Апельсиновый блеск гуталина
не зажег моих драных сапог.
Первой вьюгой бесилась погода,
снежный путь становя на дыбы.
И застряла бригада у входа,
вся, как в мыле, от жаркой ходьбы.
Лучше было сидеть бы нам дома...
Только вижу: по списку, с листа
вызываются члены цехкома,
за столом занимают места.
И шепнул я: «За мною, ребятки!»
Сам пробился. Повел и повел...
Прямо с ходу, по залу, к раздатке,
на свободное место, за стол.
Сел у края, совсем задыхаясь.
Отдышался. Гляжу. А правей —
вся в шелку, проморенном духами,
чистокровная дама червей.
Глаз сиинцовый, а бровь – ровно с нитку,
медным жиром горят волоса,
и лежит на плечах вперекидку,
скаля зубы в лицо мне, лиса.
И сейчас же, как яблочко красный,
услыхал я, как будто в упрек:
– Молодой человек, как ужасно
пахнет ваксой от ваших сапог!..
Но, звеня в колокольчик по чину,
председатель собранья встает
и выводит к трибуне мужчину,
дескать, вот вам и сам мистер Шпрот —
главный спец по литейным заводам,
как спаситель, явившийся к нам,
с русским, самым рабочим народом
хочет сам толковать по душам.
Как ударили все мы в ладоши,
в сотни битых, с мозолями, рук:
ты хоть мистер, но, видно, хороший,
раз ты с нами – так, стало быть, друг.
Как один, поднялись для привета,
оказали великую честь...
На! Учи, помогай нам, советуй!
Разгляди нас, какие мы есть!
Трижды руки сцепив и раскинув,
мистер кланялся, счастлив и рад.
Трижды перстнем звенел по графину
и кричал нам: – Руссия! Ол райт!..
И когда отошло успокоясь,
сердце с сердцем забилося в лад,
глянул мистер в то сердце людское,
руки вскинул и начал доклад.
То – назад, оседая на пятках,
то – на цыпках подавшись вперед,
говорил никому не понятно,
но сильно говорил мистер Шпрот.
Будто вновь со столба по соседству
в ту трубу заработал опять
первый радиоголос из детства:
звук железный, а слов не понять...
Но, поставив последний крючочек
в свой с червонным обрезом блокнот,
встала сбоку мадам переводчик,
как машина, начав перевод:
«Мистер Шпрот потрясен и растроган,
лично видя, как трудно живет
богатырь, но покинутый богом,
черный труженик – русский народ...»
Тут я даже чихнул втихомолку:
«Верно, мистер! А бог-то при чем?
Видно, ты, брат, не нашего толку,
не по-нашему жизни учен!»
Ну, а речи ведут по порядку:
мистер – дама, и всяк в свой черед.
Мистер нам загадает загадку,
дама ключик к разгадке дает.
Даже малость вокруг посветлело,
вширь и ввысь подраздался барак.
И по технике самого дела
мистер Шпрот нам докладывал так:
домна-уникум нравом упряма,
столь ей надобно средств и ума,
так что даже Америка-мама
чуть не плачет с той дочкой сама.
Так ведь это царица прогресса,
всё у ней на особый манер:
каждый мастер – по классу профессор,
а любой горновой – инженер.
Что ж ты хочешь, касатка Россия,
с нищетою бросаясь в бои,
или технику лбами осилят
голорукие слуги твои?
Кто из слуг твоих встанет у горнов
на премудрых и страшных печах?
Кто из слуг твоих схватит за горло
катастрофу, аварию, крах!
И, вздохнув умилительно сладко,
аж в словах зажурчала слеза,
мистер нас оглядел и заплакал,
рукавом утирая глаза.
Плакал мистер не меньше минуты
от щедрот христианской любви,
что раздеты, Россия, разуты,
не накормлены люди твои!..
Мы отчаянно сдвинули брови,
зуд смешинок во рту заглушив,
дескать, плачь, дорогой, на здоровье,
да про нас языком не греши...
Знать, порвались сердечные струнки:
на носочках взметнувшись рывком,
грохнул Шпрот по фанерной трибунке
костоломным своим кулаком.
То ли вправду посланником бога
грозный мистер поблазнился ей,
словно ноту, торжественно-строго,
огласила нам дама червей:
– Мистер Шпрот возмущен беспардонным
своеволием русских коллег,
что монтируют первую домну,
словно варвары, в холод и снег.
И отныне до самого лета
консультант-металлург мистер Шпрот
налагает сезонное вето
на объекты монтажных работ...
«Вето»! Ишь ты, каков острослов!
Тоже шпилька для наших голов.
Мы глазели с открытыми ртами,
в суть, как в муть, проникая не вдруг.
И стоял, подбочась, перед нами
будто впрямь господин наших рук,
сытый, сбитый из жира да сдобы,
на фанеру осев животом,
этот Шпрот, побуревший от злобы,
сразу ставший заморским китом.
То простой, то чуток простоватый,
весь наш брат, переполнивший зал,
здесь по кровным рабочим утратам
иностранный язык постигал.
Словно корь, нам далась та наука,
грудь сдавила и кровь разожгла,
и, не выжав из глоток ни звука,
раскалила весь свет добела...
Скинул шапку седой, но вальяжный,
вольный слесарь и вольный казак,
батя всей нашей рати монтажной
трубно крякнул и трубно сказал:
– А что, господин, ты хоть сам сознаешь,
что нам твое вето есть чистый грабеж!
Вроде б так пособлять некрасиво,
обе шкуры сымая зараз:
золотую – натурой с России,
а последнюю, драную – с нас!
Самолично, без дамской поддачи,
разумея не хуже, чем свой,
понял русский язык наш докладчик
и рванулся с трибуны долой.
Посверкав, словно молнией, взглядом,
в царской шубе в полста килограмм,
мистер под руку с дамой парадом,
как сквозь строй наш, потопал к дверям.
И тогда от единого вдоха
как пробрал нас да пронял взахлест
не смешок, а безудержный хохот —
до упаду, до хрипа, до слез.
Все смешинки, что в горле молчали,
все догадки, что в думках росли,
так взрывались, что лампы качали,
деревянные стены трясли.
Кто-то звал приступить к перекуру,
кто-то: «С богом!» – кричал на весь зал,
кто-то даже «товарищем» сдуру
чай пить с сахаром мистера звал.
Где-то пела гармонь с перебором,
в тесноте обрываясь с ремня,
а один старичок из конторы
как чумной налетел на меня.
А потом, извините, как баба,
головенку в ладонях зажал,
голося: – Мирового масштаба!
Чрезвычайно опасный скандал!..
Так что, ежели, чинность нарушив,
мы судили про все прямиком,
ты прости беспартийные души,
юность нашу, товарищ Цехком.
Сам винюсь в неустойке немалой:
позабыв, что я твой активист,
как пустил я вдогонку трехпалый,
деревенский мальчишечий свист.
Похмельная, будто в том наша вина,
тверёзая полночь настала.
Губам не до смеха, глазам не до сна,
все явное явственней стало.
Выходит, что мы лишь на то мастера:
горбы подставлять да горланить «ура»,
свистать благодетелям вслед...
Стихия! Которой отныне – конец,
поскольку тот богом ниспосланный спец
на жизнь налагает запрет...
Та горькая суть, лишь истаяв дотла,
до самого мозга сей ночью дошла.
И словно б во тьме, обступившей барак,
порой возгораясь на миг,
зловещего мира блуждающий зрак
в мужичьих виденьях возник.
Всю ночь растянув на неведомый срок,
впотьмах не давая покоя,
Америка тайной грядущих тревог
мерцала над нашей судьбою.
И только прожектор в ночи засветив,
решает загадки партийный актив.
Как будто сомлев от угара,
шагнув за барачный порог,
с дружком задушевным на пару
пошли мы в тот самый сполох.
Поземка бросалась по-рысьи
в глаза нам горстями земли.
И самые жгучие мысли
бессонные головы жгли
загвоздкой той головоломной:
по чьей же недоброй вине
горит без огня наша домна,
а мы, как слепцы,– в стороне?
А нам, как заклятым, не спится.
Весь мир обернулся вверх дном...
Пробьемся до штаба партийцев,
а точку опоры найдем.
И пусть они станут отныне
(назло всем купцам и дельцам)
партийным сердцам как родные,
открытые наши сердца.
И пусть в них тревожно и юно,
как истинный праздник, живет
партийное чувство кануна
заветных и главных работ.
1965-1972
ЗАВИСТЬ
Памяти деда моего Ивана Егоровича
1
Злого да веселого, где ж тебя встретишь,
при каком навадке иль в ночном бору,
на спокойном озере путающим сети,
где ж тебя встретишь, отпетый друг,
если на могиле камни прорастают
травами бесплодными густо, без числа,
если жизнь хваленая твоя, непростая
была да отгрохала, быльем поросла,-
где ж тебя встретишь? Обойду дозором
сосняка исхоженного целый квартал,
рыбные озера, синие озера,
усталью измучаюсь – и нет ни черта.
Только на могиле, как слеза, безвестной
все равно почувствую: в золотой пыли
лебеда качается лебединой песней,
рослая крапива завистью палит,
тихой и невидимой, невидимой и ярой,
и сейчас проснувшейся память освежить
завистью, которой открывалась старость —
открывалась старость и кончалась жизнь.
2
Это детство идет навстречу,
и встаешь в нем крутою судьбой
ты – станичник, рыбака вечный,
матерщинник и зверобой.
О Карпатах поются песни,
о казачьих гнедых конях,
по озерам, по густолесью
за тобою ведут меня.
И десятую часть столетья
я знавал в жару и в мороз,
как охотился лютый ветер
за папахой твоих волос;
как ты пахнешь смолою бора,
кровью волка и косача,
всеми водами и простором
оренбургского казачья;
как незыблемо в вечер росный
у костра догоревших лет —
голубым дымком папиросы
подымался покой бесед.
Ты кипел, горячился, хвастал,
вороша густоту седин,
славу бешеного ненастья,
славу двух военных годин,
что гремели под Ляоляном,
под чужою стеной Карпат
и шагали в седом тумане
по кладбищам и по гробам.
............
Только ты не ругал, а хвастал
на становьях любых дорог
годы бешеного ненастья,
потому – другого не мог.
Чем похвастаешь, кроме вздоха,
если жизнь волокла тебя
по задворкам чужой эпохи
без уюта и без рубля;
если, в обе руки контужен,
в годы мира устав от битв,
голодал и страдал не хуже
от бедняцкой своей судьбы.
Не похвастаешь – не увидишь
гордость маленькую свою,
и покажется жизнь обидой,
зря не сбитой в любом бою.
Жизнь покажется горем сразу,
непригодной, как старый скит...
И кипели твои рассказы
не от радости, от тоски,
чтоб седины стали любимей
хоть насильно да хоть на час,
чтобы я и твоей судьбине
позавидовал невзначай.
Я не верил глазам и речи,
не завидуя, не хваля...
...Это детство идет навстречу,
ветром волосы шевеля.
3
Снова ты зовешь меня украдкой
от девчат, вечерок и огней
дотемна шататься по навадкам,
а с рассвета крючить окуней.
Дробовик бывалый, бью не в воздух.
От прицела взгляд, похолодев,
вместе с уткой падает на звезды
в небо, потемневшее в воде.
Озеро с кровавыми кругами,
да роса в холодных зеленях.
Ты же, не хваля и не ругая,
как завистник, смотришь на меня.
Смотришь так, молчанье сберегая,
если я удачливей тебя
по чутью подъязка подсекаю
с легкостью, доступной голубям.
Смотришь так с улыбкою несладкой,
если необъезженный скакун
гордо пронесет мою посадку,
крепкую на яростном скаку.
Смотришь, если песни бродят кровью
в плясовой, неугомонный час,
если чуб спадает по надбровью
вороненым крылышком грача.
Так без окончанья и начала,
как свою веселую сестру,
по закону молодость встречал я
на любом разнузданном ветру.
Как завистник, без тоски и вздоха,
силы собирая и храня,
ты во всем, от удали до крохи,
перещеголять хотел меня.
Забывал заброшенные дали,
Ляолян, Карпаты и года,
и мои удачи подмывали
добиваться собственных удач.
Так до перебоя, без ограды,
потеряв подсчеты месяцам,
жизни наши проходили рядом,
споря до поклонного конца.
4
Теченье времен из-под ног убегало.
От детства и дружбы озерных огней
прошли мимо деда, станиц и рыбалок
счастливые кольца дороги моей.
По родине плыли ветра и метели.
Снежинки слезинками липли к окну.
А он умирал на горячей постели,
косоворотку едва расстегнув.
В зимовке запевки рыбацкие пели,
охотники ждали счастливого дня,
а он умирал на последней постели,
в минуту предсмертную вспомнив меня.
Ему показалось: и солнце и зори
удачей улова плывут по земле,
ему показалось: в вечерних озерах
раскинуты сети на тысячи лет.
Ему показалось... И глянул на дверцы,
сухой и колючий, как зрелый репей,
поднялся, держась не руками, а сердцем.
Шагнул, покачнулся и захрипел.
Холодные губы не ждали ответа,
веля провожатым, молчавшим над ним,
при встрече со мной о кончине поведать,
порадовать сердце поклоном земным.
За щучьей ухой да за чашками водки
поминки отплакали старики...
...А я неустанною прежней походкой
немного подольше пройдусь у реки.
Пройдусь до рассвета по старым навадкам
и песен от удали не запою.
Я только и сделаю, что по порядку
обдумаю светлую зависть твою.
............
...Ты не заметил за годы разлуки,
за годы навадков, костров, окуней,
как выросла зависть бесценной порукой
двадцатилетней удачи моей,
идущей навстречу и солнцу над нами
в закате, в работе, в дыханье страны,
и старость, кончая последними днями,
ее принимает поклоном земным.
Ее принимает – весеннюю завязь
эпохи, растущей во все этажи,
в которой и зависть, великая зависть
поется как песня, и сила, и жизнь.
5
Незачем шататься без причала.
Ночь ушла, меня не покорив.
По могилам проходя, встречаю
зачинанье утренней зари.
И при расставанье молчаливом
под конец минуты проходной
до зеленых листиков крапивы
кланяюсь я зависти родной.
февраль-март 1933