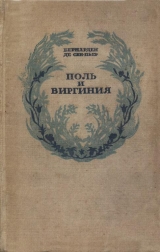
Текст книги "Поль и Виргиния. Индийская хижина"
Автор книги: Бернарден Жак-Анри де Сен-Пьер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 9 страниц)
Таким размышлениям предавался я в окрестностях Дели. Это дало мне столько смелости, что с наступлением ночи я вошел в город. Я проник в него через ворота Лагора. Сперва я миновал длинную пустынную улицу, вдоль которой слева и справа шли дома, окаймленные террасами и поддерживаемые сводами, под которыми находились лавки торговцев. На некотором расстоянии друг от друга я встречал большие караван-сараи, крепко запертые, и большие базары и рынки, на которых царил глубочайший покой. Приближаясь к центру города, я пересек восхитительный квартал омров, наполненный дворцами и садами, расположенными вдоль Гемны. Здесь все оглашалось звуками инструментов и песнями баядерок, плясавших на берегу реки при свете факелов. Я приблизился к воротам одного сада, чтобы насладиться столь сладостным зрелищем, но меня оттолкнули рабы, прогонявшие оттуда бедняков ударами палок. Удаляясь от квартала знати, я прошел мимо нескольких пагод моей религии, где большое число несчастных, распростершись на земле, предавалось слезам. Я поспешил убежать при виде этих памятников суеверия и ужаса. Далее пронзительные голоса мулл, которые возвещали с высоты небес ночные часы, дали мне понять, что я нахожусь у подножия какого-то минарета. Поблизости находились фактории европейцев с их беседками, и сторожа беспрестанно кричали: «Кабердар!» – «Берегись!» Затем я прошел мимо большого здания, в котором я узнал тюрьму по звукам цепей и по стонам, исходившим оттуда. Вскоре я услышал крики боли в большой больнице, откуда вывозили повозки, нагруженные трупами. По дороге я встретил воров, бежавших вдоль улиц, сторожевые патрули, гнавшиеся за ними, толпы нищих, который, несмотря на удары тростником, выпрашивали, стоя у дверей дворцов, остатки пиршества, и повсюду женщин, открыто торговавших собой, дабы иметь чем жить. Наконец, после долгого пути, я вышел: той же улицей на громадную площадь, окружавшую крепость, где живет Великий Могол. Она была покрыта палатками раджей, или набобов, его свиты и их отрядами, различающимися друг от друга факелами, знаменами и длинными палками с хвостами тибетских коров на концах. Широкий ров, наполненный водой и уставленный орудиями, окружал и площадь и крепость. Я рассматривал при свете сторожевых огней башни замка, подымавшиеся до облаков, и длинные стены, терявшиеся за горизонтом. Мне очень хотелось проникнуть туда, но большие «кари», или бичи, развешенные на столбах, отняли у меня желание вступить даже на площадь. Я оставался на одном из ее концов, возле негров-рабов, позволивших мне отдохнуть около огня, вокруг которого они сидели.
Отсюда я с восхищением рассматривал императорский дворец и говорил себе: вот здесь живет счастливейший из людей! К повиновению ему побуждают столько религий! Ради его славы приезжают столько посланников! Ради его сокровищниц истощается столько провинций! Ради его страстей странствуют столько караванов, и ради его безопасности столько людей бодрствуют в тишине! В то время как я рассуждал так, громкие крики радости раздались по всей площади, и я увидел, как прошло восемь верблюдов, украшенных флагами. Я узнал, что они несли головы мятежников, которые генерал Могола посылал ему из провинции Декан, где один из его сыновей, назначенный им губернатором, воевал против него в течение трех лет.
Немного времени спустя прискакал во весь опор курьер верхом на дромадере. Он прибыл, чтобы оповестить о потере одного пограничного города Индии вследствие измены одного из градоправителей, сдавшего его персидскому царю. Едва этот курьер удалился, как другой, посланный губернатором Бенгалии, принес известие, что европейцы, которым император для блага промышленности даровал фактории в устьях Ганга, выстроили там крепость и завладели судоходством по реке. Спустя несколько минут после прибытия этих двух курьеров из дворца вышел офицер во главе отряда гвардии. Могол приказал ему отправиться в квартал омров и привести оттуда трех вельмож, заковав их в цепи, ибо они обвинялись в единомыслии с врагами государства. По его приказанию был арестован накануне мулла, который в своих проповедях восхвалял царя персидского и открыто говорил, что индийский император неверный, ибо, вопреки законам Магомета, он пьет вино. Наконец, уверяли, что он приказал задушить и бросить в Гемну одну из своих жен и двух офицеров своей гвардии, уличенных в том, что они участвовали в восстании, поднятом его сыном. В то время как я размышлял об этих печальных событиях, высокий огненный столб поднялся внезапно над кухнями гарема; столбы дыма смешались с облаками, и красный свет осветил башни крепости, ее рвы, площадь, минареты мечетей, простираясь до самого горизонта. Тотчас же большие медные литавры и «карны», или гобои, с ужасающим шумом забили тревогу. Эскадроны кавалерии рассыпались по городу, выбивая двери в соседних с дворцами домах и принуждая жителей сильными ударами бичей бежать на пожар. Тогда сам я убедился, сколь соседство сильных мира сего опасно для малых людей. Великие мира сего подобны огню, который пожирает даже тех, кто бросают в него фимиам, если они слишком близко подходят к нему. Я хотел скрыться, но все улицы, ведущие от площади, были загромождены. Было бы невозможно уйти, если бы, по божьей милости, та часть, где находился я, не оказалась занятой гаремом. Так как евнухи увозили оттуда жен на слонах, это облегчило мне бегство, ибо, если повсюду стража ударами кнутов принуждала людей идти на помощь дворцу, слоны ударами хоботов заставляли их удаляться оттуда. Так, преследуемый то одними, то другими, я выбрался из этого ужасного хаоса и при свете пожара достиг противоположной окраины предместья, где под кровлями лачуг, вдали от вельмож, простой народ отдыхал в мире от трудов своих. Там я впервые вздохнул свободно. Я сказал себе: вот я видел город, я видел обитель властителей народа. О, скольких властителей сами они лишь рабы! Даже в часы отдыха они повинуются страстям, тщеславию, суеверию, жадности. Они должны даже во время сна остерегаться толпы презренных существ, которые окружают их: воров, нищих, царедворцев, поджигателей, вплоть до солдат своих, вельмож и священников. Каков же город днем, если он так беспокоен ночью! Несчастия людей растут вместе с наслаждениями. Какой же жалости достоин император, который окружен всеми ими! Он должен опасаться внутренних и внешних войн и даже того, что является его утешением и защитой, – своих генералов, своей гвардии, своих мулл, своих жен и детей. Рвы его крепости не смогут удержать призраков суеверия, и слоны его, столь хорошо обученные, не смогут отогнать от него черные заботы. А я, – я не боюсь ничего этого! Никакой тиран не имеет власти ни над телом моим, ни над моей душой. Я могу служить богу, как мне велит совесть, и мне нечего бояться никого из людей, если только я не буду мучить сам себя. Поистине, парий менее несчастен, чем император! Тут обильные слезы выступили у меня на глазах, и, упав на колени, я возблагодарил небо, которое, дабы научить меня переносить несчастия, показало мне горести еще более нестерпимые, нежели мои.
С тех пор я посещал лишь предместья Дели. Оттуда я видел, как звезды освещали жилища людей и смешивались с их огнями, словно небо и город образовывали одно владение. Когда луна освещала картину, я наблюдал иные краски, нежели днем. Я любовался башнями, домами, деревьями, одновременно посребренными и темными, которые далеко отражались в водах Гемны. Я бродил свободно по большим, уединенным и молчаливым кварталам, и мне казалось тогда, что весь город принадлежит мне. А между тем человечество отказало бы мне в горсти риса: таким ненавистным делала меня религия! И вот, лишенный возможности найти друзей среди живых, я стал искать их среди мертвых. Я уходил на кладбища, дабы питаться на могилах яствами, пожертвованными из благочестия родственниками. В этих местах я любил размышлять. Я говорил себе: здесь город покоя, здесь исчезли могущество и гордость; невинность и добродетель здесь в безопасности. Здесь умерли все страхи жизни; здесь – постоялый двор, где возница навсегда распряг лошадей, где отдохнет и парий. Эти размышления сделали для меня смерть желанною, и я стал презирать землю. Я наблюдал восток, откуда все время появлялось множество звезд, и хотя судьбы их были мне неизвестны, я чувствовал, что они связаны с судьбами людскими и что природа, которая подчинила их нуждам столько невидимых им предметов, связала с ними, по крайней мере, эти вот существа, что видны им. Так душа моя поднималась по небосклону вместе со светилами, и, когда утренняя заря соединяла с их вечным и нежным мерцанием свою розовую окраску, я чувствовал себя у врат неба. Однако, едва только лучи ее золотили верхушки пагоды, я исчезал, как тень. Я уходил далеко от людей отдыхать в поля, к подножию дерева, где засыпал под пение птиц».
«Чувствительный и несчастный человек, – сказал англичанин, – ваш рассказ очень трогателен. Поверьте мне: большинство городов заслуживает, чтобы их видели лишь ночью. В сущности, есть в природе ночные красоты, которые отнюдь не наименее трогательны; один знаменитый поэт моей родины не воспевал иных красот. Но скажите мне, как же достигли вы того, что стали счастливы при свете дня?»
«Было уже многое в том, что я мог быть счастливым ночью, – ответил индус. – Природа похожа на красивую женщину, которая в течение дня являет черни лишь красоту своего лица, а ночью открывает тайные прелести свои возлюбленному. Но если у уединения есть свои радости, то есть у него и недостатки. Оно представляется несчастному тихой пристанью, откуда он в спокойствии наблюдает, как движутся страсти других людей. Но в то время как он радуется своей неподвижности, время увлекает его самого. Оно равно увлекает и того, кто борется с его бегом, и того, кто отдается ему, – мудрого так же, как и глупого, и оба приходят к концу дней своих, один – пресытившись, другой – не насладившись ими. Я не хотел ни быть умнее природы, ни искать счастия вне законов, которые она предписала людям. Особенно жаждал я друга, которому мог бы поведать свои радости и печали. Я долго искал его среди равных мне. Но я видел лишь завистников. Однако мне удалось найти друга чувствительного, преданного, благородного и недоступного предрассудкам. По правде сказать, я нашел его не среди людей, а среди животных. То была собака, которую вы видите тут. Ее бросили безжалостно на углу улицы, где она чуть было не сдохла с голоду.
Она возбудила во мне сострадание. Я приручил ее; она привязалась ко мне, и в ней обрел я неразлучного товарища. Но этого было недостаточно; мне нужен был друг более несчастный, чем собака, который знал бы все бедствия человеческого общества и помог бы мне сносить их, который желал бы лишь благ природы и с которым я мог бы наслаждаться ими. Только переплетаясь друг с другом, два слабых деревца противостоят буре. Провидение исполнило мое желание, даровав мне добрую жену. У источника своих несчастий нашел я источник счастия своего. Однажды ночью, когда я находился на браминском кладбище, я увидел при свете луны молодую браминку, наполовину скрытую желтым своим покрывалом. При виде женщины, в которой текла кровь моих мучителей, я было в ужасе удалился, но затем приблизился к ней, движимый состраданием при виде того, чем она была занята. Она клала пищу на холм, покрывавший пепел ее матери, сожженной недавно заживо вместе с телом ее отца, по обычаю ее касты; она возжигала над ним фимиам, чтобы вызвать ее тень. Слезы выступили у меня на глазах при виде существа еще более несчастного, чем я. Я сказал себе: увы, узы бесчестия связали меня, тебя же – узы почета. По крайней мере, я живу спокойно на дне моей пропасти, а ты – в вечном трепете на краю своей. Та же судьба, которая отняла у тебя мать, грозит унести однажды и тебя. Тебе дана всего одна жизнь, а должна ты умереть двумя смертями. Если собственная твоя смерть не сведет тебя в могилу, то смерть супруга твоего сведет тебя туда живой. Я плакал; плакала и она. Наши глаза, орошенные слезами, встретились и заговорили друг с другом, как глаза несчастных. Она отвернулась, закуталась в свое покрывало и удалилась. На следующую ночь я пришел к тому же месту. На этот раз она положила больше пищи на могилу матери. Она решила, что я нуждаюсь в ней. И так как брамины часто отравляют погребальные яства, дабы помешать париям съедать их, она принесла только плоды, дабы успокоить меня, что они съедобны. Я был растроган этим выражением человеколюбия и, чтобы засвидетельствовать ей уважение, которое я питал к ее дочерним приношениям, вместо того чтобы взять ее фрукты, присоединил к ним цветы. То были маки, выражавшие участие, которое я принимал в ее скорби. На следующую ночь я с радостью увидел, что она приняла мои знаки почтения. Маки были политы, и она положила новую корзину с фруктами на некотором расстоянии от могилы. Жалость и благодарность сделали меня смелым. Не смея говорить с ней как парий из страха скомпрометировать ее, я решил как мужчина открыть ей все те чувства, которые она вызвала в моей душе. По обычаю индусов, чтобы быть понятым, я избрал язык цветов. Я прибавил к макам ноготки. На другую ночь я нашел мои маки и ноготки окропленными водой. На следующую ночь я стал более смелым и присоединил к макам и ноготкам цветок фульсапата, – который служит сапожникам для окраски кожи в черный цвет, – в знак выражения любви смиренной и несчастней. На другой день, лишь только рассвело, я побежал к могиле, но увидел, что фульсапат засох потому что он не был полит. На следующую ночь, дрожа, положил я тюльпан, чьи красные лепестки и черная сердцевина олицетворяли огонь, что сжигал меня. На другой день я нашел тюльпан в том же достоянии, что фульсапат. Я был подавлен печалью. Однако через день я принес туда бутон розы с шипами как символ моих надежд, смешанных с опасениями. Но каково же было мое отчаяние, когда при первых же лучах дня я увидел свой розовый бутон на далеком расстоянии от могилы! Я думал, что лишусь разума. Что бы ни случилось со мной, я решил заговорить с ней. На следующую ночь, лишь только она появилась, я бросился к ее ногам, но оставался безмолвным, протягивая ей мою розу. Она заговорила и сказала мне: «Несчастный, ты говоришь мне о любви, а скоро меня не будет. По примеру моей матери, я должна сопровождать на костер моего мужа, который только что умер. Он был стар, я вышла за него замуж ребенком. Прощай, удались и забудь меня. Через три дня я буду лишь кучкой пепла».
Произнеся эти слова, она вздохнула, а я, удрученный горем, сказал ей: «Несчастная браминка, природа расторгла узы, наложенные на вас обществом. Попробуйте же порвать узы суеверия. Вы сможете сделать это, если возьмете меря в мужья». – «Что? – воскликнула она плача. – Мне избегнуть смерти, чтобы жить с тобой в позоре? Ах, если ты меня любишь, дай мне умереть!» – «Не дай мне бог, – закричал я, – избавить вас от ваших несчастий для того, чтобы навлечь на вас мои. Дорогая браминка, бежим вместе в леса! Лучше довериться тиграм, нежели людям. Небо, на которое я возлагаю надежду, не оставит нас. Бежим: любовь, ночь, твое несчастие, твоя невинность – все покровительствует нам. Спешим же, несчастная вдова: уже готовится костер тебе, и мертвый твой супруг зовет тебя. Бедная, погибшая лиана, обопрись на меня, я буду твоей пальмой!» Тогда она бросила, рыдая, взгляд на могилу матери, потом на небо и, уронив одну руку в мою, приняла другой от меня розу. Тотчас же я взял ее под руку, и мы тронулись в путь. Я кинул ее покрывало в Ганг, чтобы заставить ее родных думать, будто она утопилась. Мы шли в течение нескольких ночей вдоль реки, прячась днем на рисовых плантациях. Наконец мы прибыли в эту область, которую некогда обезлюдила война. Я проник в глубину леса, где выстроил эту хижину и насадил маленький сад. Мы живем здесь очень счастливо. Я чту свою жену, как солнце, и люблю ее, как луну. Нас презирает свет, но мы чтим друг друга, и когда она внимает моим похвалам или я – ее, они кажутся рам более сладкими, чем восторги всего мира». При этих словах, он поглядел на своего ребенка в колыбели и на жену, которая проливала слезы радости. Ученый в свою очередь, утирая слезы, сказал хозяину: «Поистине, то, что в почете у людей, заслуживает часто презрения, а то, что презирается ими, достойно почитания. Но бог справедлив. Вы в тысячу раз счастливее в вашей безвестности, чем глава джагернаутских браминов во всей своей славе. Он так же, как и его каста, отдан всем превратностям судьбы. На браминов обрушивается бо́льшая часть тех бичей внутренних и внешних войн, которые разоряют вашу прекрасную страну в течение стольких веков. Именно к ним обращаются обычно, чтобы принудить страну к контрибуции, ибо известна власть, какой они пользуются над общественным мнением. Однако наиболее жестоко для них то, что они являются первыми жертвами своей бессердечной религии. Стремясь возбудить страх, они сами проникаются им до потери чувства правды, справедливости, человеколюбия, милосердия. Они связаны цепями суеверия, которыми они хотят держать в плену своих соотечественников. Они принуждены ежеминутно мыться, очищаться и выдерживаться от многих невинных наслаждений. Наконец, – об этом нельзя говорить без содрогания, – они видят, как вследствие их варварского учения сжигают их родственниц, матерей, сестер и дочерей. Так, наказывает природа, законы которой они нарушили. А вы, – вы можете быть искренним, добрым, справедливым, гостеприимным, верующим, избегая унижением своим ударов судьбы и дурных толков».
Окончив эту беседу, парий простился с гостем, чтобы дать ему отдохнуть, и удалился с женой и с колыбелью ребенка в соседнюю небольшую комнату. На другой день, на рассвете, ученый был разбужен пением птиц, свивших себе гнезда в ветвях индийского фигового дерева, и голосами пария и его жены, которые вместе творили утреннюю молитву. Он встал и был очень рассержен, увидев, когда парий и его жена открыли дверь, дабы пожелать ему доброго дня, что в хижине не было другой постели, кроме супружеской, и что они бодрствовали всю ночь, чтобы уступить ее ему. Сказав ему «гелям», они поспешили приготовить для него завтрак. В ожидании ученый прошелся по саду. Оказалось, что сад был, как и хижина, окружен сводами индийских фиговых деревьев, которые так переплелись друг с другом, что образовали изгородь, совершенно непроницаемую для глаза. Он заметил лишь над ее листвой красные склоны уступов, подымавшихся кругом по равнине. Оттуда бежал маленький источник, который орошал этот беспорядочно насаженный сад. В нем вперемешку встречались мангостаны, апельсины, кокосы, бананы, манговые и другие плодовые деревья, отягощенные цветами и плодами. Даже стволы были покрыты ползучими растениями, которые вились вокруг пальм и сахарного тростника. Воздух был насыщен их благоуханием. Хотя большинство деревьев было еще в тени, первые лучи зари уже освещали их верхушки. Там порхали колибри, блистая, как рубины и топазы, меж тем как бенгальские воробьи-многоголоски, спрятавшись под влажной листвой, оглашали из гнезд воздух своим нежным пением.
Ученый гулял под этим прелестным навесом, забыв о науке и честолюбивых мыслях. Вскоре парий пришел просить его к завтраку. «Ваш сад восхитителен, – сказал англичанин. – Я не нахожу в нем других недостатков, кроме того, что он слишком мал. На вашем шесте я прибавил бы к нему лужайку и углубил бы его в лес». – «Сударь, – ответил ему парий, – чем меньше занимаешь места, тем более ты скрыт. Одного листа достаточно для гнезда птицы-мушки». С этими словами они вошли в хижину, где увидели в углу жену пария, кормящую ребенка. Она прислуживала им за завтраком. После молчаливой трапезы ученый стал готовиться к отъезду. Индус сказал ему: «Гость мой, поля еще затоплены ночным дождем, дороги непроходимы; проведите этот день с нами». – «Я не могу, – сказал ученый, – со мной слишком много людей». – «Я вижу, – возразил парий, – вы спешите покинуть страну браминов, чтобы вернуться в страну христиан, религия которых заставляет всех людей быть братьями». Ученый со вздохом поднялся. Тогда парий сделал знак жене, которая, опустив глаза, безмолвно подала ученому корзину с цветами и плодами. Парий же вместо жены сказал англичанину: «Сударь, простите бедность нашу, у нас нет амбры, ни алоэ, чтобы воскурить благовоние перед гостем, по обычаю Индии. У нас есть лишь цветы и плоды. Но я надеюсь, что вы не отнесетесь с презрением к этой маленькой корзине, которую наполнили руки моей жены. В ней нет ни маков, ни ноготков, но есть жасмины и бергамоты, избранные за устойчивость запаха, – символ нашей преданности, которую мы сохраним даже тогда, когда перестанем видеть вас». Ученый взял корзину и сказал: «Я не могу достаточно отблагодарить вас за гостеприимство и выразить все уважение, которое питаю к вам. Примите эти золотые часы, они от Грэхэма, знаменитейшего лондонского часовщика. Их заводят лишь один раз в год». Парий ответил ему: «У нас нет надобности в часах, ибо есть часы, которые всегда идут и никогда не портятся: это – солнце». – «Мои часы отбивают время». – «Для нас то же делает пение птиц», – возразил парий. – «По крайней мере, – сказал ученый, – примите эту нить кораллов, чтобы сделать красное ожерелье для вашей жены и ребенка». – «У моей жены и ребенка, – ответил индус, – не будет никогда недостатка в красных ожерельях, пока в нашем саду не переведется ангольский горох». – «Примите тогда эти пистолеты, – сказал ученый, – чтобы защищаться от воров в вашем уединении». – «Бедность, – сказал парий, – вот крепость, удаляющая от нас воров. Серебра, которым украшено ваше оружие, было бы достаточно, чтобы привлечь их. Во имя бога, покровительствующего нам и от которого ждем мы награды себе, не отнимайте у нас награды за наше гостеприимство». – «Все же, – возразил англичанин, – мне хочется, чтобы у вас сохранилось что-нибудь на память обо мне». – «Хорошо, гость мой, – ответил парий, – раз вы этого желаете, то я осмелюсь предложить вам обмен: дайте мне вашу трубку и примите мою. Когда я буду курить да вашей, я буду вспоминать, что европейский пандит не презрел гостеприимства бедного пария». Тотчас же англичанин протянул ему свою трубку из английской кожи, у которой конец был из желтого янтаря, и получил в обмен трубку пария, ручка которой была из бамбука, а чубук – из глины.
Затем он позвал слуг, промокших после дурно проведенной ночи, и, обняв пария, сел в носилки. Жена пария, плача, осталась у дверей хижины, держа на руках ребенка, а муж проводил ученого до опушки леса, напутствуя его благословениями: «Да вознаградит вас бог за вашу доброту к несчастным! Пусть буду я пред ним жертвой за вас, пусть он благополучно доставит вас в Англию, в эту страну ученых и друзей, которые ищут правды по всему свету, для того чтобы сделать людей счастливее!» Ученый ответил ему: «Я объездил половину немного шара и видел повсюду лишь заблуждение и раздор. Истину и счастие я нашел лишь в вашей хижине». С этими словами они расстались, проливая слезы. Ученый был уже далеко в поле, но все еще видел у подножия дерева доброго пария, который делал ему знаки рукой, чтобы сказать «прости».
Возвратившись в Калькутту, ученый отплыл в Шандернагор, откуда морем отправился в Англию. Прибыв в Лондон, он передал девяносто тюков своих манускриптов председателю Королевского общества, который поместил их в Британский музей, где ученые и писатели по сей день еще переводят их, восхваляют, оспаривают, критикуют и осыпают памфлетами. Что же касается ученого, то он для себя сохранил лишь три ответа пария относительно истины. Он часто курил свою трубку, и когда его спрашивали о том, что наиболее полезного узнал он во время странствований, он отвечал: «Истину нужно искать простым сердцем. Ее находишь лишь в природе. Надо сообщать ее только людям добра». К этому он добавил еще: «Счастие находишь лишь с доброй женой».










