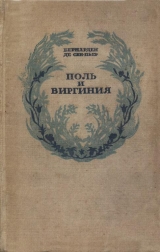
Текст книги "Поль и Виргиния. Индийская хижина"
Автор книги: Бернарден Жак-Анри де Сен-Пьер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Между тем по острову распространился слух, что богатство посетило эти скалы, и вот всевозможные торгаши стали взбираться туда. Они развертывали в бедных этих хижинах драгоценнейшие ткани Индии, великолепные материи Гуделура, платки Палиаката и Мазулипатана, кисеи Дака, гладкие, полосатые, вышитые, прозрачные, как день, ткани Сурата прекрасного голубого цвета, материи всевозможных цветов, даже самые редкие – песочного фона с зелеными разводами. Они показывали замечательные шелковые ткани Китая, ажурные, белого атласа, иные – изумрудно-зеленые, иные – ослепительно алые; розовую тафту, всяческий сатин, мягкую, как сукно, китайскую тафту, белую и желтую нанку – вплоть до холстин Мадагаскара.
Госпожа де-ла-Тур хотела, чтобы дочь ее купила все, что доставляет ей удовольствие; она следила только за ценой и добротностью товаров, боясь, как бы продавцы не обманули ее. Виргиния выбрала все, что, по ее мнению, могло быть приятно матери, Маргарите и ее сыну. «Это вот, – говорила она, – годится на мебель, это – для Марии и Доминга». Наконец мешок с пиастрами был израсходован уже, а она все еще не подумала о нужном себе. Пришлось отделить ей часть подарков, которые она раздала им.
Поль, терзаемый скорбью при виде этих даров богатства, которые предвещали ему отъезд Виргинии, пришел несколько дней спустя ко мне. Он сказал: мне с удрученным видом: «Сестра моя уезжает; она уже готовится к путешествию. Прошу вас, пойдемте к нам. Употребите ваше влияние на ее мать и на мою, чтобы удержать ее». Я последовал настояниям Поля, хотя был совершенно уверен, что доводы ни к чему не приведут.
Если Виргиния казалась мне прелестной в синей бенгальской холстине, с красным платком на голове, то, конечно, она была еще очаровательнее, когда я увидел ее одетою по моде местных дам. На ней была белая кисея с подкладкой из розовой тафты. Ее легкий и стройный стан прекрасно обрисовывался корсетом, а белокурые ее волосы, заплетенные в две косы, восхитительно обрамляли ее девственную голову. Прекрасные голубые глаза были полны грусти; сердце ее, взволнованное сдерживаемой страстью, вызывало на лице оживленную краску, а голосу придавало выражение, полное трогательности. Самый контраст с изящным нарядом, который она, казалось, носила против своей воли, делал ее томность еще более трогательной. Никто не мог видеть или слышать ее без того, чтобы не почувствовать волнение. Печаль Поля еще более усилилась от этого. Маргарита, огорченная состоянием сына, сказала ему, отозвав в сторону: «Сын мой, к чему питать ложные надежды, которые делают лишения еще более горькими? Пришла пора открыть тебе тайну твоей и моей жизни. Девица де-ла-Тур в родстве со стороны матери с богатой и очень знатной особой; ты же – только сын бедной крестьянки, и, что еще хуже, сын незаконный».
Это слово «незаконный» очень удивило Поля. Он никогда не слыхал его; он спросил об его значении у матери, которая ответила ему: «У тебя не было законного отца. Когда я была девушкой, любовь заставила меня сделать ошибку, плодом которой был ты. Моя вина лишила тебя отцовского родства, а мое раскаяние – родства материнского. Несчастный, нет у тебя других родных на свете, кроме меня одной!» И она залилась слезами. Поль, обнимая ее, сказал: «О матушка! Раз нет у меня на свете других родных, кроме вас, то я еще больше буду вас любить. Но какую тайну открыли вы мне! Я теперь понимаю, отчего девица де-ла-Тур уже два месяца избегает меня и отчего она решила уехать. О, конечно, она презирает меня!»
Между тем наступил час ужина. Сели за стол; однако каждый из сотрапезников, взволнованных разными чувствами, ел мало и не говорил. Виргиния встала первой и пошла на то самое место, где мы сейчас находимся. Поль скоро последовал за ней и сел рядом. Они некоторое время хранили глубокое молчание. Была одна из тех чудных ночей, которые столь обычны под тропиками и чью красоту не сможет передать искуснейшая кисть. Луна появилась среди небесного свода, окруженная завесой облаков, которую мало-помалу рассеивали ее лучи. Свет ее легко разливался по горам острова, по их вершинам, сиявшим серебристо-зеленым светом. Ветры затаили дыханье. Слышно было в лесах, в глубине долин, на вершинах скал перекликанье, нежный щебет птиц, которые ласкали друг друга в гнездах, радуясь светлой ночи и тишине воздуха. Все шевелилось в траве, даже насекомые. Звезды сверкали на небе и отражались на глади моря, которое повторяло их дрожащие очертания. Виргиния обежала рассеянным взором широкий и темный горизонт, отделенный от берега острова красными огнями рыбаков. Она заметила у входа в гавань огонек и тень: то был фонарь и корпус корабля, с которым она должна была отплыть в Европу и который готовился распустить паруса, ожидая на якоре конца штиля. При виде этого она почувствовала боль и отвернулась, дабы Поль не заметил, что она плачет.
Госпожа де-ла-Тур, Маргарита и я сидели в нескольких шагах от них, под бананами, и в ночной тишине ясно слышали их разговор, который не забыт мною.
Поль говорил ей: «Сударыня, вы, говорят, уезжаете через три дня. Вы не боитесь подвергнуться опасностям моря, – моря, перед которым вы испытываете такой страх?» – «Я должна повиноваться родным и долгу», – ответила Виргиния. – «Вы покидаете нас, – возразил Поль, – ради дальней родственницы, которой вы никогда не видели». – «Увы, – сказала Виргиния, – я хотела бы остаться здесь на всю жизнь; но моя мать не хочет этого. Мой духовник сказал, что такова воля божия, чтобы я ехала, что жизнь есть испытание… О, это – тяжелое испытание!» – «Как! – возразил Поль. – Так много доводов заставили вас решиться и ни один не удержал вас. Ах! Есть еще один, о котором вы не говорите мне. Богатство очень привлекательно. В том новом свете вы скоро найдете, кого назвать именем брата, как вы уже не называете меня. Вы выберете его, брата этого, среди людей, достойных вас по происхождению и по богатству, а я не могу вам этого дать. Но чтобы стать счастливее, куда направите вы путь? Где найдете вы страну, которая была бы вам дороже той, где вы родились? Где встретите вы общество более приятное, чем то, которое любит вас? Как будете вы жить без ласк матери вашей, к которым вы так привыкли? Что будет с ней, с ней самой, уже пожилой женщиной, когда она не увидит вас возле себя, за столом, в доме, на прогулке, где она опиралась на вас? Жестокая! Я не говорю уже о самом себе; но что будет со мной, когда утром я не увижу вас больше с нами и ночь придет, не соединив нас; когда я буду видеть эти обе пальмы, посаженные при нашем рождении, этих долгих свидетелей нашей взаимной дружбы? Ах! Если новая судьба влечет тебя, и ты стремишься к иным странам, прочь от родины, к иным благам, нежели добываю я, то позволь мне сопровождать тебя на корабле, на котором ты едешь. Я стану ободрять тебя во время бурь, которые так страшат тебя на суше. Я упокою голову твою на моей груди, я согрею сердце твое у моего сердца; и во Франции, куда ты едешь за богатством и знатностью, я буду служить тебе, как раб. Счастливый одним твоим счастием, средь этих палат, где тебе будут служить и обожать тебя, я еще буду настолько богат, настолько благороден, чтобы принести тебе величайшую из жертв, умерев у ног твоих».

Рыданья заглушили его голос, и мы тотчас услышали голос Виргинии, которая так говорила ему, прерывая слова вздохами: «Ради тебя уезжаю я… ради тебя, которого я каждый день вижу согбенного работой, чтобы прокормить две семьи. Если я пользуюсь возможностью разбогатеть, то это для того, чтобы сторицею воздать тебе за добро, которое ты сделал нам. Разве есть богатство, достойное твоей дружбы? К чему говоришь ты мне о своем происхождении? Ах! Если бы мне дано было выбрать себе брата, неужели я избрала бы кого-нибудь, кроме тебя? О Поль! Ты мне гораздо дороже брата! Чего стоило мне оттолкнуть тебя далеко от себя! Я хотела, чтобы ты помог мне уйти от себя самой, пока небо не благословит наш союз. Теперь же… я остаюсь, я еду, я живу, я умираю… Делай со мной, что хочешь. О! Я – несчастная девушка! Я могла противиться твоим ласкам, но не могу перенести твоего горя».
При этих словах Поль схватил ее в свои объятия и, крепко прижимая к себе, вскричал страшным голосом: «Я еду с ней! Ничто не разлучит нас!» Мы все подбежали к нему. Госпожа де-ла-Тур сказала ему: «Сын мой, если вы нас покинете, что будет с нами?»
Он, дрожа, повторил ее слова: «Сын мой… сын мой… Вы, мать… – сказал он ей, – вы, разлучающая брата с сестрой. Мы оба питались вашим молоком, оба выросли у вас на коленях, мы научились у вас любить друг друга, оба мы повторяли это друг другу тысячу раз. И теперь вы разлучаете ее со мной! Вы посылаете ее в Европу, в эту варварскую страну, которая отказала вам в пристанище, к жестоким родственникам, которые вас бросили. Вы скажете мне: у вас нет более никаких прав на нее; она – не сестра вам… Она – все для меня, богатство мое, семья моя, происхождение, все мое благо! У меня нет другого! Одна была у нас кровля, одна колыбель, и одна могила будет у нас. Если она уедет, я должен ехать с ней. Губернатор воспрепятствует мне? Но может ли он помешать мне броситься в море? Я поплыву за ней. Море будет мне не враждебнее, нежели земля. Если я не могу здесь жить близ нее, то пусть я умру у нее на главах, вдали от вас. Жестокая мать! Безжалостная женщина! Пусть этот океан, которому вы предаете ее, никогда не вернет вам ее. Пусть эти волны принесут тело мое и, бросив его вместе с ее телом на камни этих берегов, обрекут вас на вечное горе по вашим обоим погибшим детям».

При этих словах я схватил его за руки, ибо отчаяние лишало его рассудка. Глаза его блестели, пот крупными каплями выступал на пылающем его лице. Его колени дрожали; я чувствовал, что в пламенной его груди сердце бьется с удвоенной силой.
Виргиния, испуганная, сказала ему: «О друг мой, клянусь радостями нашего детства, твоими страданьями и своими, всем, что навсегда связывает двух несчастных, что если я останусь, то буду жить лишь тобой; если уеду, то вернусь, чтобы быть твоей. Будьте свидетелями мне все вы, что взлелеяли мое детство, вы, в чьих руках моя жизнь, вы, что видите мои слезы: я клянусь в том небом, которое слышит меня, морем, которое должна я переплыть, воздухом, которым я дышу и которого никогда не оскверняла ложью».
Как от солнца тает и скатывается ледяная глыба с вершин Апеннин, так растаял необузданный гнев молодого человека при звуке голоса любимого существа. Гордая голова его поникла, слезы ручьем потекли из глаз. Его мать, плача вместе с ним, обнимала его, не в силах произнести ни слова. Госпожа де-ла-Тур, вне себя, сказала мне: «Я не могу больше, сердце мое разрывается. Этому злосчастному путешествию не бывать. Сосед, попытайтесь увести моего сына. Уже восемь дней, как никто из нас не спал».
Я сказал Полю: «Друг мой, сестра ваша останется. Завтра мы поговорим об этом с губернатором; дайте отдохнуть семье, переночуйте сегодня у меня. Уже поздно, уже полночь: Южный Крест виден прямо на горизонте».
Он позволил увести себя, не говоря ни слова, и после тревожной ночи поднялся на рассвете и вернулся в поселок.
Но к чему продолжать повествование? Только одну сторону приятно узнать в жизни человеческой. Подобно шару, на котором вертимся мы, наша быстрая жизнь – только день единый, и не может одна часть этого дня получить света без того, чтобы другая не была отдана темноте.
«Отец мой, – сказал я ему, – заклинаю вес: расскажите мне до конца то, что вы начали столь трогательно. Картины счастия приятны нам, но картины несчастия поучительны. Что сталось с несчастным Полем?»
Первое, что увидел Поль, возвратясь в свой поселок, была негритянка Мария, которая, стоя на утесе, смотрела в открытое море. Он закричал ей издали, едва завидя ее: «Где Виргиния?» Мария повернула голову к молодому своему хозяину и заплакала. Поль, вне себя, повернулся и побежал в гавань. Там он узнал, что Виргиния села на корабль на рассвете, что корабль распустил тотчас же паруса и что его не видно более. Он вернулся в поселок и прошел к себе, ни с кем не говоря.
Хотя эта цепь утесов, сзади нас, кажется почти отвесной, однако эти зеленые площадки, прорезывающие их высоту, являются выступами, с помощью которых, пользуясь несколькими трудными тропинками, можно достигнуть подошвы этого пика, нависшего и неприступного, именуемого Большим Пальцем. У основания этого утеса есть площадка, поросшая большими деревьями, но настолько высоко лежащая и крутая, что она кажется громадным лесом в воздухе, окруженным страшными пропастями. Облака, которые беспрестанно привлекает к себе вершина Большого Пальца, дают там начало многим ручьям, падающим на столь большую глубину в долину, расположенную по ту сторону склона этой горы, что с вышины совершенно не слышно шума их падения. С этого места видна бо́льшая часть острова, его горы, увенчанные пиками, в том числе – Питер-Боотс и Три Груди, и его долины, полные лесов; далее – открытое море и остров Бурбонов, который лежит в сорока милях отсюда, к западу.
С этой-то возвышенности Поль увидел корабль, который увозил: Виргинию. Он увидел его больше чем за десять миль, почти черной точкой среди океана. Он оставался там часть дня, следя за ним: корабль исчез уже, но ему казалось, что он все еще видит его; а когда он скрылся в туманной дали, Поль сел в этом диком месте, где всегда бушуют ветры, которые беспрестанно колеблют вершины пальм и татамаков. Их глухой и протяжный ропот похож на дальний шум органа и наводит глубокую грусть. Там-то и нашел: я Поля, прислонившегося головой к скале и глядевшего в землю. Я был в пути с восхода солнца; мне стоило большого труда уговорить его спуститься и вернуться к своим.
Я привел его, наконец, к жилищу; и первым его действием при виде госпожи де-ла-Тур была горькая жалоба на то, что она его обманула. Госпожа де-ла-Тур сказала нам, что так как в три часа поднялся ветер и корабль был готов сняться с якоря, то губернатор в сопровождении части своих чиновников и миссионера явился за Виргинией в паланкине, и что, несмотря та ее доводы, на ее слезы и на слезы Маргариты, все кричали, что это делается ради общего блага, и увели ее дочь полумертвой.
«Если бы я простился с ней, – сказал Поль, – я был бы теперь спокоен. Я сказал бы ей: «Виргиния, если за то время, что мы росли вместе, у меня вырвалось какое-нибудь слово, которое оскорбило вас, то, прежде чем навсегда покинуть меня, скажите, что прощаете меня». Я сказал бы ей: «Так как мне не суждено более увидеть вас, прощайте, моя дорогая Виргиния, прощайте. Живите вдали от меня довольной и счастливой». И, видя, что его мать и госпожа де-ла-Тур плакали, он сказал: «Ищите теперь кого-нибудь другого вместо меня, чтобы осушить слезы ваши!» Потом он удалился от них со стоном и стал блуждать по поселку. Он обходил все места, которые были наиболее дороги Виргинии. Он говорил ее козам и козлятам, которые, блея, шли за ним: «Чего просите вы у меня? Вы больше не увидите со мной ту, которая кормила вас из своих рук». Он побывал у места отдыха Виргинии и, видя птиц, которые порхали кругом, воскликнул: «Бедные пташки! Вы уже не полетите навстречу той, которая была доброй вашей кормилицей». Видя Фиделя, который, обнюхивая землю, бежал перед ним, он вздохнул и сказал ему: «О! ты никогда больше не отыщешь ее». Наконец он сел на скалу, где накануне говорил с ней, и при виде моря, в котором скрылся из глаз корабль, увезший ее, залился слезами.
Между тем мы шли за ним, шаг за шагом, боясь какого-нибудь пагубного следствия возбужденности его рассудка. Мать и госпожа де-ла-Тур просили его в самых нежных выражениях не увеличивать их горя своим отчаянием. Наконец последней удалось успокоить его, называя именами, наиболее способными поднять его надежды. Она называла его сыном, дорогим своим сыном, зятем своим, тем, кому она предназначает дочь. Она уговорила его вернуться в дом и принять немного пищи. Он сел за стол вместе с нами, рядом с тем местом, которое занимала подруга его детства, и, словно она еще была здесь, он обращался к ней и предлагал ей блюда, которые были, как он знал, наиболее приятны ей; но едва лишь он замечал ошибку, как принимался плакать. В следующие дни он собрал все, что лично ей принадлежало, – последние букеты, которые она носила, кокосовую чашку, из которой она обычно пила, и, словно эти оставшиеся вещи друга были величайшими драгоценностями мира, он целовал их и носил на груди. Амбра не дает аромата слаще тех предметов, к которым прикасалось любимое существо. Наконец, видя, что его горе увеличивает горе матери и госпожи де-ла-Тур и что нужды семьи требуют постоянного труда, он принялся с помощью Доминга поправлять сад.
Вскоре этот молодой человек, безразличный, как креол, ко всему, что делается на свете, попросил меня научить его читать и писать, дабы он мог переписываться с Виргинией. Он захотел затем учиться географии, чтобы составить себе понятие о стране, куда приедет она, и истории, чтобы знать нравы общества, среди которого она будет жить. Равно усовершенствовался он в земледелии и в искусстве хорошо разбивать самый неправильный участок земли, – все это давалось ему любовью. Нет сомнения, что наслаждениям, к которым стремится эта страсть, пылкая и беспокойная, обязаны люди большей частью наук и искусств; а из отсутствия их родилась философия, которая учит утешаться во всем. Так природа, сделав любовь связью всех существ, поставила ее первым двигателем наших обществ и возбудителем наших познаний и наслаждений.
Полю пришлось не особенно по вкусу изучение географии, которая, вместо того чтобы описывать природу каждой страны, дает нам лишь политические деления. История, и в особенности история современная, точно так же мало интересовала его. Он видел в ней лишь общие и периодические бедствия, которых причины он не постигал, войны без повода и цели, темные интриги, безличные народы и бесчеловечных властителей. Он предпочитал чтение романов, которые, занимаясь прежде всего чувствами и стремлениями людей, говорили ему иногда о положениях, сходных с его собственными. Оттого ни одна книга не доставила ему такого удовольствия, как «Телемак» своими картинами сельской жизни и природных страстей сердца человеческого. Он читал матери и госпоже де-ла-Тур те ее места, которые наиболее поразили его; при этом его волновали трогательные воспоминания, голос прерывался и слезы текли из глаз. Ему казалось, что в Виргинии есть достоинство и разумность Антиопы и несчастия и нежность Эвхарисы. С другой стороны, он был подавлен чтением модных наших романов, с их распущенными нравами и суждениями; а когда он узнал, что в этих романах дано истинное изображение европейского общества, он стал опасаться – не без некоторого разумного основания, – как бы Виргиния не испортилась там и не позабыла его.
Действительно, более полутора лет прошло, а госпожа де-ла-Тур не получала известий ни от тетки, ни от дочери; она лишь узнала стороною, что последняя благополучно прибыла во Францию. Наконец она получила с кораблем, который плыл в Индию, посылку и письмо, собственноручно написанное Виргинией. Несмотря на осторожность своей милой и снисходительной дочери, она поняла, что та очень несчастна. Это письмо так хорошо рисовало ее положение и характер, что я запомнил его почти дословно:
«Дорогая и горячо любимая матушка!
Я писала вам уже несколько писем своею рукой; но так как я не получила ответа, то у меня есть основание опасаться, что они не дошли до вас. Больше надеюсь я на это письмо, вследствие предосторожности, которую я приняла, чтобы дать вам знать о себе и получить весть от вас.
Я пролила много слез со времени нашей разлуки, – я, которая почти всегда плакала лишь над чужим горем! Тетушка была очень удивлена, когда, по приезде моем, расспрашивая меня, она узнала, что я не умею ни читать, ни писать. Она спросила меня, чему же выучилась я с тех пор, как живу на свете; а когда я ответила, что я умею хозяйничать и исполнять вашу волю, она мне сказала, что я получила воспитание служанки. Назавтра же она отдала меня в пансион, в большой монастырь, близ Парижа, где у меня всевозможные учителя; они учат меня, между прочим, истории, географии, грамматике, математике и верховой езде; но у меня такие слабые способности ко всем этим наукам, что я делаю мало успехов у этих господ. Я чувствую, что я – жалкое существо, у которого мало ума, и они дают мне это понять.
Но благоволение тетушки не охладевает: она дарит мне новые платья к каждой поре года. Она приставила ко мне двух служанок, которые разодеты, как знатные дамы; она заставила меня носить титул графини; но она лишила зато меня моей фамилии де-ла-Тур, которая была мне так же дорога, как вам, благодаря всему тому, что вы рассказали мне о мучениях, перенесенных моим отцом, чтобы жениться на вас; она заменила имя, которое вы носили в замужестве, именем вашей семьи: однако и оно дорого мне, так как было девическим именем вашим. Видя себя в таком блестящем положении, я умоляла ее оказать вам какую-нибудь помощь. Как передать вам ее ответ? Но ведь вы советовали всегда говорить вам правду. Ну, так вот: она ответила мне, что малое не поможет вам, а в той простой жизни, которую вы ведете, многое лишь стеснит вас. Я пыталась сначала дать вам знать о себе с помощью чужой руки, ибо не умела писать сама. Но так как по приезде сюда у меня не было никого, кому я могла бы довериться, то я старалась день и ночь выучиться читать и писать; бог помог мне успеть в этом в короткий срок. Я поручила первые свои письма дамам, окружающим меня; у меня есть основание думать, что они передавали их тетушке. Теперь же я прибегла к одной из моих пансионских подруг; на ее адрес, здесь прилагаемый, прошу отвечать мне. Тетушка запретила мне всякое сношение с кем-либо вне монастыря, ибо это могло бы, по ее словам, служить препятствием тому высокому положению, которое она готовит мне. Только она одна может видеться со мной у решетки, равно как один старый вельможа из ее друзей, которому, по ее словам, я весьма нравлюсь.
Сказать по правде, мне он совсем не нравится, даже если предположить, что кто-нибудь мог бы понравиться мне.
Я живу среди блеска богатства, но не могу располагать ни единой копейкой. Говорят, что если бы у меня были деньги, то это имело бы неудобные последствия. Даже мои платья, и те принадлежат моим служанкам, которые ссорятся из-за них, прежде чем я их бросаю. Среди богатства я гораздо беднее, нежели была близ вас, ибо я ничего не могу раздавать. Когда я увидела, что великие таланты, в которых наставляли меня, не дают мне возможности делать хотя бы малейшее добро, я прибегла к игле, которою, к счастию, вы научили меня пользоваться. И вот посылаю вам несколько пар чулок моей работы – для вас и для мамы Маргариты, – колпак для Доминга и один из красных моих платков для Марии. Присоединяю к этой посылке косточки и зерна плодов, которыми я завтракала, и семена всевозможных деревьев, которые я собрала в часы досуга в монастырском парке. К ним я прибавила также: семена фиалок, маргариток, лютиков, маков, васильков, скабиоз, которые я набрала в поле. В лугах этой страны цветы, гораздо красивее, чем у нас, но никто на обращает на них внимания. Я уверена, что вам и маме Маргарите этот мешок семян доставит больше удовольствия, чем мешок с пиастрами, который был причиной нашей разлуки и моих слез. Для меня, будет большой радостью, если когда-нибудь вы испытаете удовлетворение, видя, как яблони растут рядом с нашими бананами и сплетаются листвой с нашими кокосами. Вам будет казаться, что вы в Нормандии, которую вы так любите.
Вы хотели, чтобы я сообщала вам о своих радостях и несчастиях. У меня нет больше радостей вдали от вас; что до печалей, то я смягчаю их, думая, что занимаю место, на которое вы поставили меня по воле божьей. Но наибольшее горе, которое испытываю я здесь, состоит в том, что никто не говорит мне о вас и что я: ни с кем не могу говорить об этом. Мои служанки, или, вернее, служанки тетушки, – ибо они больше ее, нежели мои, – всякий раз, как я пытаюсь навести разговор на то, что мне так дорого, говорят мне: «Мадемуазель, вспомните, что вы француженка и что вы должны забыть страну дикарей». Ах! Я скорее забуду самое себя, нежели забуду то место, где я родилась и где вы живете! Это здешний вот край для меня – страна дикарей, ибо я живу здесь одна, и нет у меня никого, кому я могла бы рассказать о любви, которую я сохраню к вам до могилы, дорогая и горячо любимая матушка.
Ваша послушная и нежная дочьВиргиния де-ла-Тур.
Поручаю вашей доброте Марию и Доминга, которые так заботились обо мне в детстве. Приласкайте за меня Фиделя, который отыскал меня в лесах».
Поль был очень удивлен тем, что Виргиния совершенно не упоминала о нем, – она, которая не забыла в напоминаньях своих дворовую собаку; но он не знал, что, как бы длинно ни было письмо женщины, оно всегда говорит о наиболее дорогом лишь в конце.
В приписке к письму Виргиния обращала особенное внимание Поля на два сорта семян – фиалок и скабиоз. Она дала ему несколько указании о характере этих растений и о наиболее пригодной для их посева местности. «Фиалка, – сообщала она ему, – дает маленький темнолиловый цветок, который любит прятаться под кустарниками; но по его прелестному запаху его можно скоро найти». Она просила посеять его на берегу ручья, у подножья ее покоса. «Скабиоза, – прибавляла она, – дает красивый цветок, бледноголубой или черный с белыми крапинами. Она как будто в трауре. Ее зовут поэтому также вдовьим цветком. Она любит жесткую и открытую ветрам почву». Она просила посеять скабиозу на том утесе, где она говорила с ним ночью в последний раз, и назвать этот утес, во имя любви к ней, утесом Прощания.
Она положила эти семена в маленький кошелек, очень просто связанный, но показавшийся Полю бесценным, когда он заметил буквы П и В, переплетенные между собой и сделанные из волос, в которых он по красоте узнал волосы Виргинии.
Письмо этой чувствительной и добродетельной девушки заставило пролить слезы всю семью. Ее мать ответила от имени всех, чтобы возвращение или дальнейшее пребывание во Франции она ставила в зависимость лишь от своего желания; она заверила ее, что они все потеряли лучшую часть своего счастия со времени ее отъезда; что же касается, в частности, лично ее, то она безутешна.
Поль написал ей очень длинное письмо, где обещал, что сделает сад достойным ее и соединит растения Европы и Африки подобно тому, как она сплела их имена в своей работе. Он посылает ей плоды кокоса с ее ручья, которые достигли совершенной зрелости. Он не прибавляет к этому, – писал он, – никаких других плодов острова, для того чтобы желание увидеть все это побудило ее быстрее вернуться. Он умолял ее возможно скорее склониться на горячие просьбы семьи, и в особенности на его собственные, ибо отныне у него не может быть никакого счастия вдали от нее.
Поль тщательно посеял европейские семена, в особенности фиалки и скабиозы, чьи цветы, казалось, имели некоторое сходство с характером и положением Виргинии, которая так особенно поручала ему их; но оттого ли, что они выветрились по дороге, оттого ли, скорее, что климат этой части Африки неблагоприятен для них, он вырастил их лишь в небольшом количестве, да и оно не достигло полного расцвета.
Между тем зависть, которая обычно опережает человеческое счастие, особенно во французских колониях, распространила по острову слухи, очень встревожившие Поля. Люди с корабля, которые привезли письмо Виргинии, уверяли, что она выходит замуж: они сообщили имя того придворного вельможи, который должен был на ней жениться; некоторые даже говорили, что дело уже совершилось и что они сами тому были свидетелями. Сначала Поль оставлял без внимания новости, привезенные купеческим кораблем, который часто распространяет ложные известия на своем пути. Но так как многие жители острова из лживой жалости поспешили выразить ему свое сожаление по поводу такого события, он начал понемногу верить этому. К тому же по некоторым романам, прочитанным им, он видел, что измена считалась пустяком; а так как он знал, что эти книги дают достаточно верное изображение европейских нравов, то боялся, как бы дочь госпожи де-ла-Тур не развратилась там и не позабыла прежних своих обещаний. Его знания уже делали его несчастным. Окончательно же усилило его опасения то, что много кораблей пришло сюда из Европы в течение шести месяцев и ни один не привез вестей от Виргинии.
Этот несчастный молодой человек, предоставленный всем волнениям своего сердца, часто навещал меня, чтобы подтвердить или рассеять свои тревоги с помощью моего знания света.
Я живу, как уже говорил вам, на расстоянии полуторы мили отсюда, на берегу маленькой речки, которая течет вдоль Длинной Горы. Там одиноко провожу я свою жизнь, без жены, без детей и без рабов.
После редкого счастия найти подругу, которая вполне подходила бы к нам, наименее несчастное состояние жизни – это, без сомнения, жизнь в одиночестве. Всякий, кому пришлось много выстрадать от людей, ищет уединения. Поэтому весьма примечательно, что все народы, несчастные в своих воззрениях, нравах или правительствах, создали многочисленные слои граждан, всецело посвятивших себя уединению и безбрачию. Таковы были египтяне в пору упадка, греки времен падения Римской империи; таковы в наши дни индейцы, китайцы, нынешние греки, итальянцы и бо́льшая часть восточных и южных народов Европы. Уединение отчасти возвращает человека к природному счастью, удаляя от него общественные бедствия, присущие нашим обществам, разделенным столькими предрассудками; душа находится в постоянном возбуждении, в ней постоянно сталкиваются тысячи мнений, бурных и противоречивых, которыми члены честолюбивого и презренного общества стараются поработить друг друга. Но в уединении она покидает эти чуждые иллюзии, которые смущают ее. Она вновь обретает сознание самой себя, природы и творца своего. Так мутная вода потока, опустошающего окрестности, низвергшись в какой-нибудь небольшой водоем, отдаленный от ее течения, осаждает ил на дно своего ложа, обретает первоначальную чистоту и, став прозрачной, отражает вместе с берегами своими и зелень земли и лазурь небес. Уединение восстанавливает и телесное и душевное равновесие. Как раз среди отшельников встречаются люди, которые достигают наибольших пределов жизни. Таковы брамины Индии. И я считаю уединение настолько необходимым для счастия даже в свете, что мне кажется невозможным испытать долгое наслаждение каким бы то ни было чувством или основать свое поведение на каком-либо твердом принципе, если не создать себе внутреннего уединения, откуда воззрения наши выходили бы наружу крайне редко и куда чужое не проникало бы никогда. Я этим вовсе не хочу сказать, что человек должен жить совершенно один: он связан со всем человеческим родом общими нуждами; следовательно, он должен отдавать часть работы своей людям; наконец, у него есть обязанности и по отношению к природе. Но так как бог дал каждому из нас органы, в совершенстве приспособленные к стихиям шара, на котором мы живем, ноги – для земли, легкие – для воздуха, глаза – для света, так что мы не можем изменить их назначения, – то он оставил для одного себя, который есть творец жизни, сердце – главный орган ее.








