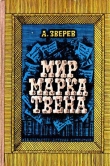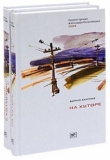Текст книги "Феномен Солженицына"
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
«Всё это изумительно, гениально», – говорит (записывает) о. Александр. И тут же: «Всё это – по ту сторону таланта».
Как это совместить? Как гениальное может быть «по ту сторону таланта»?
Совмещается просто.
«По ту сторону таланта» – это о таланте писателя, художника. А то, что в Солженицыне гениально, лежит совсем в другой области, в другой жизненной сфере. Эта бешеная целеустремленность Солженицына, в которой выразилась пресловутая его гениальность, была не просто несовместима с его художественным даром. В конечном счёте именно она этот – немалый – его художественный дар исказила, задавила, а потом и разрушила.
Энергия заблуждения
Это выражение принадлежит Л. Н. Толстому.
Впервые, кажется, он употребил его в письме Н. Н. Страхову, написанном в апреле 1878:…
Отчегонапрягаться?Отчего вы сказали такое слово? Я очень хорошо знаю это чувство – даже теперь последнее время его испытываю: всё как будто готово для того, чтобы писать – исполнять свою земную обязанность, а недостает толчка веры в себя, в важность дела. Недостаетэнергии заблуждения,земной стихийной энергии, которую выдумать нельзя. И нельзя начинать. Если станешьнапрягаться,то будешь не естествен, не правдив…
(Л. Н. Толстой. ПСС. Том 62. М. 1953. Стр. 410–411)
Один из самых глубоких исследователей творчества Л. Н. Толстого Б. М. Эйхенбаум соединил это высказывание Льва Николаевича с другим, которое тот обронил в написанном четырьмя годами раньше письме графине А. А. Толстой:…
Вы говорите, что мы как белка в колесе. Разумеется. Но этого не надо говорить и думать. Я по крайней мере, что бы я ни делал, всегда убеждаюсь, что du haut de ces pyramides 40 si?cles me contemplent [1]и что весь мир погибнет, если я остановлюсь.
(Там же. Стр. 130)
Это сближение дало исследователю повод посвятить этой теме специальную работу о творческих стимулах Л. Толстого и назвать эти стимулыгероическими….
Толстой не хочет соглашаться, что мы «как белка в колесе»… В противовес формуле «как белка в колесе» он приводит слова Наполеона, сказанные в Египте… Но следом за этой формулой приводится другая, ведущая свое происхождение из философии Шопенгауэра и ещё более многозначительная: «Весь мир погибнет, если я остановлюсь». Толстой, оказывается, чувствует себя центром мира, его главной движущей силой – солнцем, от деятельности которого зависит вся жизнь. Как ни фантастичен этот стимул – он составляет действительную основу его поведения и его работы… Толстой может работать только тогда, когда ему кажется, что весь мир смотрит на него и ждет от него спасения, что без него и его работы мир не может существовать, что он держит в своих руках судьбы всего мира. Это больше, чем «вдохновение», – это то ощущение, которое свойственно героическим натурам.
Толстой, оказывается, недаром цитировал слова Наполеона. Он глубоко понимал его, одновременно и завидуя ему и презирая – не за деспотизм, а за Ватерлоо, за остров Святой Елены. Он осуждал его вовсе не с этической точки зрения, а как победитель побежденного. Совсем не этика руководила Толстым в его жизни и поведении: за его этикой как подлинное правило поведения и настоящий стимул к работе стоялагероика…
Толстой недаром любил войну и с трудом подавлял в себе эту страсть. Он и вне фронта вел себя как вождь, как полководец и был замечательным тактиком и стратегом в борьбе с историей, с современностью. Упорно отстаивая свою архаистическую позицию, он, со стороны и издалека, но тем более зорко, как бы в бинокль, вглядывался в малейшие движения эпохи, как полководец вглядывается в движения неприятельских войск, и соответственно этим движениям предпринимал те или другие действия. Ясная Поляна была для него удобным стратегическим пунктом: точкой, с высоты которой он оглядывал и измерял ход истории, жизнь и движения окружающего мира.
Кроме приведенной мной цитаты, у Толстого есть и другие признания, которые подтверждают именно этот, несколько страшный, но могучий образ.
(Б. Эйхенбаум. Творческие стимулы Л. Толстого. В кн.: Б. Эйхенбаум. О прозе. Сборник статей. М. 1969. Стр. 85)
Слово «героика», как и сравнение Толстого с Наполеоном, не кажется мне тут особенно удачным. Но со всем этим можно было бы согласиться (в конце концов, не так уж важно, как назвать стимулы творческого поведения Толстого, важно правильно их понять), если бы не одно обстоятельство:…
Основные жизненные и творческие стимулы Толстого раскрыты им самим с достаточной ясностью в монологе князя Андрея накануне Аустерлицкого сражения. Свой собственный душевный опыт Толстой вложил в своего героя, как он делал это постоянно: «Я никогда никому не скажу этого, но, боже мой! что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди – отец, сестра, жена, – самые дорогие мне люди, – но, как ни страшно и неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать».
Вот то «тщеславие», от которого Толстой сам иногда приходил в ужас, не видя ему выхода, и от которого так страдали его семейные. Размышления об этой «непонятной страсти», которая не дает покоя и отравляет существование, заполняют уже юношеские дневники Толстого: «Я много пострадал от этой страсти – она испортила мне лучшие года моей жизни и навек унесла от меня всю свежесть, смелость, веселость и предприимчивость молодости»… Эта страсть не давала Толстому покоя до конца – до конца ему казалось и нужно было, чтобы сорок веков смотрели на него с высоты пирамид. Дневники С. А. Толстой наполнены жалобами на безграничное тщеславие и славолюбие Толстого,ради удовлетворения которого он готов забыть всё и всех.
На деле это было, конечно, не простое тщеславие, которым страдают мелкие натуры, а нечто гораздо более сложное и серьезное. Это было ощущение особой силы, особой исторической миссии. Это была жажда не только власти и славы, но и героического поведения, героических поступков. «Весь мир погибнет, если я остановлюсь» – вот настоящая формула этой героики.
(Там же. Стр. 86)
Получается, что этот главный стимул, заставляющий Толстого творить, – индивидуальное, сугубо личное его свойство. Даже неслыханная, ни с чьей другой не сравнимая, уникальная продуктивность Толстого – прямой результат этой героики, этого героического начала, побуждающего его творить:…
Когда несколько лет тому назад решено было приступить к изданию полного собрания сочинений, дневников и писем Льва Толстого, то оказалось, что для этого нужно не менее 90 больших томов. Такие размеры необычны для русской литературы. Мы привыкли, что сочинения наших классиков помещаются самое большее в 15–20 томах. Девяносто томов – это больше, чем Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Если это перевести на печатные листы, то получится около трех тысяч листов! А если считать по страницам, то их окажется около пятидесяти тысяч!
Но впечатление будет ещё более грандиозным и необычным, если увидеть все это в рукописях. Первое ощущение редактора, приступающего к работе над рукописями Толстого, – паника. Как бы ни был велик его опыт по редактированию других классиков – все равно: взявшись за Толстого, он испугается. Он берет небольшую вещь– «Крейцерову сонату», которая в печати занимает около пяти печатных листов: ему приносят целый тюк рукописей: 800 листов. Он берет совсем маленькую вещь – «Разрушение ада и восстановление его»; ему дают 400 листов, исписанных рукой Толстого или испещренных его поправками. Редактор начинает раскладывать эти листы, чтобы выяснить последовательность редакций: этих редакций получается 10, 15, 20. А что делать с такой вещью, как «Воскресение»? Рукописи этого романа занимают целый сундук.
(Там же. Стр. 77)
Разве мог бы он всё это осуществить, если бы время от времени не накатывала на него, не овладевала им пресловутаяэнергия заблуждения?
Получается, стало быть, что и она, эта до глубокой старости не покидавшая его энергия, тоже – индивидуальное, сугубо личное, изначально ему присущее свойство его героической натуры.
Но сам Толстой в это словосочетание вкладывал совсем другой смысл.
Б. Эйхенбаум в своей статье о творческих стимулах Л. Толстого ссылается ещё на такую реплику Льва Николаевича (из письма А. А. Фету):…
Для того, чтобы работать, нужно, чтобы выросли под ногами подмостки. И эти подмостки зависят не от тебя. Если станешь работать без подмосток, только потратишь матерьял и завалишь без толку такие стены, которых и продолжать нельзя.
(Л. Н. Толстой. ПСС. Том 62. М. 1953. Стр. 209)
Приведя её, он тут же замечает:…
Это уже не о стимулах, а о тех внутренних условиях, которые необходимы для работы. Но эти условия, эта необходимость «подмостков» вытекают из тех же героических стимулов.
(Б. Эйхенбаум. О прозе. Л. 1969. Стр. 86–87)
На самом деле речь у Толстого здесь идет о другом:
Начинается это его письмо Фету так:…
Страшная вещь наша работа. Кроме нас, никто это не знает.
А вот как он заключает это свое рассуждение о «подмостках», которые должны вырасти под ногами, чтобы работа пошла:…
Особенно это чувствуется, когда работа начата. Всё кажется: отчего же не продолжать? Хвать-похвать, недостают руки и сидишь дожидаешься. Так и сидел я. Теперь, кажется, подросли подмостки и засучиваю рукава.
(Там же)
Стало быть, это не только о себе, о какой-то индивидуальной, личной своей особенности, а о непременном, необходимом условиивсякогописательского труда. Писательского труда вообще.
В другой раз он высказался на этот счёт совсем уже определенно.
Вспоминая рано умершего старшего своего брата Николая и говоря о его незаурядной художественной одаренности, он заметил, что тот обладал многими качествами из тех, что необходимы писателю:…
Качества… писателя, которые у него были, было прежде всего тонкое художественное чутье, крайнее чувство меры, добродушный, веселый юмор, необыкновенное, неистощимое воображение и правдивое, высоко нравственное мировоззрение… Воображение у него было такое, что он мог рассказывать сказки или истории с привидениями или юмористические истории в духе m-me Radcliff без остановки и запинки целыми часами и с такой уверенностью в действительность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка.
Но:…
…Он не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного нужного для этого недостатка: у него не было тщеславия…
(Л. Н. Толстой. ПСС. Том 34. Стр. 386)
Речь, разумеется, не о простом тщеславии, которым, как говорит Эйхенбаум, «страдают мелкие натуры», а о том, постоянно приходившем ему на помощь и долго не оставлявшем его сознанием своей особой миссии: «Весь мир погибнет, если я остановлюсь». То есть – всё о той жеэнергии заблуждения. *
У Солженицына этой энергии было в избытке:…
…Я чувствую, я вижу, как делаю историю… Почти каждая реплика сгорает по залу как порох!..
О, я, кажется, уже начинаю любить это своё новое положение… Это открытое и гордое противостояние, это признанное право на собственную мысль!.. Теперь-то мне открылся высший и тайный смысл того горя, которому я не находил оправдания, того швырка от Верховного Разума, которого нельзя предвидеть нам, маленьким: для того была мне послана моя убийственная беда, чтоб отбить у меня возможность таиться и молчать, чтоб от отчаянья я начал говорить и действовать.
Ибо – подошли сроки…
(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. М. 1996. Стр. 154)…
18 лет я плёл свою подпольную литературу, проверяя прочность каждой нити; от ошибки в едином человеке я мог провалиться в волчью яму со всем своим написанным – но не провалился ни разу… Замысел казался грандиозным, ещё через десяток лет я был бы готов выйти на люди со всем своим написанным, и во взрыве той литературной бомбы нисколько не жалко было бы сгореть и самому…
(Там же)…
Так ударил я в гонг своим вторым выступлением, вызывая на бой, будто теперь только и буду, что выступать, – и в тех же днях… нырнул опять в своё далёкое Укрывище, в глушь – работать! работать! – потому что сроки подошли…
За декабрь-февраль я сделал последнюю редакцию «Архипелага» – с допиской, переделкой и перепечаткой 70 авторских листов за 81 день – ещё и болея, и печи топя, и готовя сам. Это – не я сделал, это – ведено было моею рукой!
(Там же. Стр. 155)…
…мечи блестят, звенят, идёт бой, и в нашу пользу, и мы сминаем врага, идёт бой при сочувствии целой планеты, у неё на глазах, – и если даже наш главный полк попал в окружение – не беда! это – на время! мы – вызволим его!..
Ни часа, ни даже минуты уныния я не успел испытать в этот раз… Достаточно уже ученый на таких изломах, я в шевеленьи волос теменных провижу: Божий перст! Это ты! Во всём этом август-сентябрьском бою, при всём нашем громком выигрыше – разве бы я сам решился? разве понял бы, что пришло время пускать «Архипелаг»? Наверняка – нет, всё так же бы – откладывал на весну 75-го, мнимо-покойно сидя на бочках пороховых. Но перст промелькнул: что спишь, ленивый раб? Время давно пришло…
…Сколько провалов я миновал… А тут – на коне, на скаку, в момент, избранный мною же (вот оно, предчувствие! – начинать кампанию, когда как будто мирно и не надо!), – и рядом другие скачут лихо, и надо только завернуть, лишь немного в сторону, и – руби туда!!! Провал – в момент, когда движутся целые исторические массы, когда впервые серьёзно забеспокоилась Европа, а у наших связаны руки ожиданием американских торговых льгот, да европейским совещанием, и несколько месяцев стелятся впереди, просто просящих моего действия! То, что месяц назад казалось «голова на плаху», то сегодня – клич боевой, предпобедный!
(Там же. Стр. 319–320)…
В первый раз,в первый развыхожу на бой в свой полный рост и в свой полный голос…
Для моей жизни – момент великий, та схватка, для которой я, может быть, и жил…
Не то ли время подошло, наконец, когда Россия начнёт просыпаться? Не тот ли миг из предсказаний пещерных призраков, когдаБирнамский лес пойдёт?..
(Там же. Стр. 344)
Вот оно где – героическое-то начало!
Я это говорю без иронии, хотя подбор этих выбранных и выстроенных в одну линию отрывков был, конечно, затеян мною не без некоторого иронического умысла.
Но ирония эта направлена не на силу и мощь, и не на избыточность энергии заблуждения, которой он так щедро был наделен.
Как бы без неё, без этой избыточной энергии он стал тем, кем стал? Как бы мог без неё в лагере, где писать было нельзя (да и нечем), затверживать, заучивать на память многие тысячи стихотворных, а потом и прозаических строк? И потом, в ссылке, когда уже была у него возможность их записать, создавать для написанного всякие хитроумныетайники, – мастерить фанерные ящики с двойным дном, расклеивать, а потом снова склеивать переплеты книг, чтобы прятать в них свои странички, исписанные мельчайшими, чуть ли не микроскопическими буковками? И потом, уже не в ссылке, а на свободе, уносить куда-то и прятать чуть не каждую только что написанную страницу, не имея возможности обозреть целиком весь создаваемый им текст? А потом, уже встав во весь рост, войти в открытое противостояние, в единоличную схватку с могучей ядерной державой?
Где же тут повод для иронии?
Повод этот, – повторю ещё раз, – не в том, что этой, никогда его не покидавшей энергии было у него в избытке, а в том, что ему, – и этим он и отличается от Толстого, –и в голову не могло взбрести, что эта ведущая, направляющая и поддерживающая его вера в свою миссию, в свое особое предназначение, – не что иное, как ЗАБЛУЖДЕНИЕ. Тоесть – САМООБМАН….
Энергия заблуждения– замечательный термин, с предельной ясностью раскрывающий формулу «весь мир погибнет, если я остановлюсь», и проливающий яркий свет на все творчество Толстого и на вопрос о его стимулах. Недаром он не ответил в письме к А. А. Толстой по существу, а только заявил, что «этого не надо говорить и думать». Он вовсе не хочет знать истины: живем ли мы и работаем «как белка в колесе» или нет.
В записной книжке Толстого есть рассуждение о философских системах и истинах: «Толпа хочет поймать всю истину, и так как не может понять её, то охотно верит. Гёте говорит: истина противна, заблуждение привлекательно, потому что истина представляет нас самим себе ограниченными, а заблуждение – всемогущими. – Кроме того, истинапротивна потому, что она отрывочна, непонятна, а заблуждение связанно и последовательно»… На фоне этой записи термин «энергия заблуждения» звучит полнее и определеннее. Для творчества ему нужна не энергия разума, не энергия истины («истина представляет нас самим себе ограниченными»), а энергия заблуждения. Процесс его творчества строится не на пафосе истины, а на пафосе обладания миром…
(Б. Эйхенбаум. О прозе. Л. 1969. Стр. 86–87)
У Солженицына не только процесс творчества, но и весь стиль его жизненного поведения тоже строится на «пафосе обладания миром». Но для него это – не ЗАБЛУЖДЕНИЕ, не САМООБМАН, а – ИСТИНА.
Вот он рассказывает о своей схватке с «чёртовой дюжиной» большого Секретариата Союза писателей СССР:…
…Я торжественно встал, раскрыл папку, достал отпечатанный лист и с лицом непроницаемым, а голосом, декламирующим в историю, грянул им своё первое заявление…
Они уже стояли в боевых порядках, но прежде их условного знака – я дал в них залп из ста сорока четырёх орудий, и в клубах дыма скромно сел…
Смяты и наши стройные ряды, они сбивают и мой план боя…
Я подымаюсь, вынимаю свои листы и уже не исторически-отрешённым, но свободнеющим голосом драматического артиста читаю им готовые ответы…
Они поражены. Вероятно, за 35 лет их гнусного союза – это первый такой случай. Однако прут резервы, второй эшелон, прёт нечистая сила!..
Я встаю и выхватываю следующие листы. И уже всё более свободно и всё более расширительно, сам определяя границы боя, уже не столько на их вопросы, сколько по своему плану, я гоню и гоню их по всему бородинскому полю до самых дальних флешей.
И – тишина, рассеянность, растерянность, неопределённость наступают в пространстве. И с фланга идут чьи-то ряды…
Враг растерян, никто не просит слова, и вопросов уже нет. Что такое? Да не есть ли это победа?.. Ещё немножко, ещё немножко им продержаться! Да где же имперские резервы?.. Там и здесь поднимаются из-под копыт…
И вот она, чёрная гвардия! – Корнейчук (разъярённый скорпион на задних ножках)! Кожевников! И на белых конях – перемётная конница Суркова! И дальше, и дальше, из глубины – новые и новые твердолобые – Озеров, Рюриков…
И сколько их? Конца нет их перечню!..
Они видят упущенный свой жребий. Стиханья нет затверженному шагу, обрыва нет заученным фразам. Враги заполнили всё поле, всю землю, весь воздух! Поле боя останется за ними. Мы как будто были смелей, мы всё время атаковали. А поле боя – за ними…
Бородино. Нужно времени пройти, чтобы разобрались стороны, кто выиграл в тот день…
(Там же. Стр. 183–185)
Эта эйфория, эта упоенность собой и сама по себе исключительна. Но более всего тут поражает не то, что он так чувствует и так видит, так – с откровенным самолюбованием – представляет себя в решающие минуты схватки, а то, что эта владеющая им энергия заблуждения не угасает, не умаляется даже и потом, когда всё это уже в прошлом и, казалось бы, могло и даже уже должно было эту эйфорию сменитьотрезвление.Может быть, даже и какая-то толика самоиронии.
Даже сравнение с Бородинским боем, одним из самых знаковых событий в истории России, тут для него – не метафора, не фигура речи, а точное, адекватное выражение того,как он видит, как понимает смысл происходящего и свою роль в этом историческом (действительно историческом) действе. Видит не только в самый момент схватки, что было бы ещё понятно («Есть упоение в бою…»), но даже и сейчас, когда, спустя время, он об этом рассказывает.
Чтобы было уже совсем ясно, ЧТО я имею в виду, для полной наглядности приведу рассказ другого писателя, оказавшегося – примерно в то же время – в сходной ситуации:…
Партийный следователь зачитал постановление парткомиссии, мерзкое во всех отношениях… Демократично поинтересовались – не желаете ли высказаться напоследок?
«Я, наивный поц, вообразил, что где-то рядом стоит История. И размахнулся на длинную, убедительную, убийственную по отношению к оппонентам из Спилки письменников речь». Не лишенную иронии и сарказма.
Первый секретарь райкома прервал эту изящную филиппику через пяток минут – «Не в этом дело… Дело в том, что вы имеете собственное мнение, а оно расходится с линией…» Исключили единогласно, рук не поднимали, просто покивали в ответ на: «Есть предложение исключить».
Некрасов был слегка обижен таким затрапезным ритуалом, попросил ещё раз слово.
«После этого я, поц, опять взял слово, закончившееся вопросом: считаете ли, что принятое сегодня решение принесёт пользу советской литературе? Да или нет?»
Вокруг оловянные лица…
«Сидевший в сторонке таинственный товарищ, по-моему, из III отделения бросил: «Надоело с вами возиться».
И Виктор Платонович Некрасов, принятый в члены коммунистической партии зимой 194З года в Сталинграде, одиноко вышел из этой районной конторы и удалился навсегда.
(Виктор Кондырев. «Всё на свете, кроме шила и гвоздя. Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове. Киев – Париж. 1972–1987». М. 2001. Стр. 61–62)
Ситуация, конечно, несколько иная, но сходство всё-таки велико. Тот же холодный, бездушный ритуал, где всё уже заранее решено и подписано. (Александру Исаевичу только кажется, что ещё ничто не решено, что ему, может быть, ещё удастся выиграть этот бой). И те же оловянные лица вокруг. Но главное сходство в том, что Виктор Платонович, точь-в-точь, как Александр Исаевич, поначалу тоже воспарил, вообразив, что «где-то рядом стоит История».
Но вспоминает он об этой своей минутной эйфории с откровенной иронией и даже не без некоторого стыда. (Тут, наверно, надо объяснить, что понятное каждому киевлянину, как и каждому одесситу, словечко «поц» в самом смягченном переводе с еврейского означает примерно то же, что наше русское «мудак»).
Тут, конечно, можно было бы заметить, что это мое сравнение не вполне корректно. Слишком уж разные были они люди, – Александр Исаевич и Виктор Платонович. И слишком уж несоизмеримы были их роли. Так что стоит ли удивляться, что энергия заблуждения у Виктора Платоновича оказалась не такой прочной и устойчивой, как у Александра Исаевича. Ему эта энергия заблуждения для тех скромных жизненных целей и задач, которые он перед собой ставил, быть может, была даже и не нужна.
Ну, что ж! Если это мое сравнение недостаточно убедительно, у меня на этот случай тут в кустах есть ещё один рояль. *
Это письмо к жене Н. Г. Чернышевский написал 5 октября 1862 года, то есть уже после ареста, из Петропавловской крепости:…
…Наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все ещё будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами. Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь. В это время я имел досуг подумать о себе и составить план будущей жизни. Вот как пойдет она: до сих пор я работал только для того, чтобы жить. Теперь средства к жизни будут доставаться мне легче, потому что восьмилетняя деятельность доставила мне хорошее имя. Итак, у меня будет оставаться время для трудов, о которых я давно мечтал. Теперь планы этих трудов обдуманы окончательно. Я начну многотомною «Историею материальной и умственной жизни человечества», – историею, какой до сих пор не было, потому что работы Гизо, Бокля (и Вико даже) деланы по слишком узкому плану и плохи в исполнении. За этим пойдет «Критический словарьидей и фактов», основанный на этой истории. Тут будут перебраны и разобраны все мысли обо всех важных вещах, и при каждом случае будет указываться истинная точка зрения. Это будет тоже многотомная работа. Наконец, на основании этих двух работ я составлю «Энциклопедию знания и жизни», – это будет уже экстракт, небольшого объема, два-три тома, написанный так, чтобы был понятен не одним ученым, как два предыдущие труда, а всей публике. Потом я ту же книгу переработаю в самом легком, популярном духе, в виде почти романа с анекдотами, сценами, остротами, так, чтобы её читали все, кто не читает ничего, кроме романов. Конечно, все эти книги, назначенные не для одних русских, будут выходить не на русском языке, а на французском, как общем языке образованного мира. Чепуха в голове у людей, потому они и бедны, и жалки, злы и несчастны; надобно разъяснить им, в чем истина и как следует им думать и жить. Со времен Аристотеля не было делано ещё никем того, что я хочу сделать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель…
(Дело Чернышевского. Сборник Документов. Приволжское книжное издательство. Саратов, 1968, стр. 261–262)
Как видим, ни энергии заблуждения, ни «пафоса обладания миром» Николаю Гавриловичу тоже было не занимать. Но возобладал разум. Поразмыслив и слегка отрезвев, он решил начать с того, чем сперва хотел кончить: с романа.
Роман этот, которому, как мы знаем, было суждено сыграть в истории России свою, особую роль, не будь у автора этой энергии и этого пафоса, вряд ли был бы написан. Но так или иначе, первоначальный «план будущей жизни» был пересмотрен и от намерения создать многотомную «Историю материальной и умственной жизни человечества», на основе которой потом будут созданы ещё два многотомных труда («Критический словарь идей и фактов» и «Энциклопедия знания и жизни»), Николай Гаврилович в конце концов отказался.
У Александра Исаевича тоже был свой «план будущей жизни», составленный им ещё в юности. И этот свой план ему тоже пришлось пересмотреть.
Но в его случае это движение шло в противоположном направлении. Год от года энергия заблуждения и «пафос обладания миром», порожденные этим его ранним. юношеским замыслом, захватывали его все больше и больше, пока не заняли весь его умственный горизонт и в конце концов не оттеснили, не отодвинули, не подчинили себе все другие его творческие замыслы и планы….
Общий замысел, открываемый этим первым Узлом, возник у меня в 1936 году, при окончании средней школы. С тех пор я никогда с ним не расставался, понимал его как главный замысел моей жизни; отвлекаясь на другие книги лишь по особенностям своей биографии и густоте современных впечатлений, – я шёл, и готовился, и материалы собирал только к этому замыслу. И вот дохожу, как бы не слишком поздно: и собственной жизни и воссоздающего воображения уже может недостать на эту двадцатилетнюю работу…
(Из предисловия к русскому зарубежному изданию «Августа четырнадцатого». В кн.: Александр Солженицын. Публицистика в трех томах. Том 3. Ярославль. 1997. Стр. 485).
Какие особенности его биографии и новые жизненные впечатления вынудили его отложить реализацию этого главного своего замысла, мы знаем. Уверенность в том, что именно ему предстоит открыть – не только соотечественникам, человечеству! – всю правду о русской революции семнадцатого года, – эта твердая уверенность никогда его не покидала. Но начать работу над этим главным своим романом он долго ещё не решался….
Зимой 1968–1969, снова в солотчинской избе, я несколько месяцев мялся, робея приступать к «Р-17», очень уж высок казался прыжок…
(Н. Решетовская. Хронограф. Архив Н. А. Решетовской)…
Приезжая в сильные морозы домой, Александр Исаевич продолжал разборку и раскладку материалов для романа, одновременно обдумывая, как лучше осуществить давний замысел.
(Н. Решетовская. Александр Солженицын и читающая Россия. М. 1990. Стр. 368)
Вплотную он приступает к работе над ним в марте 1969-го.
Н. Решетовская даже точно называет этот исторический день:…
В воскресенье 9 марта он приступает к «Р.-17»… Встает рано, делает во дворе гимнастику, потом душ, завтрак и работа за столом, часов шесть подряд. Перед обедом гуляет в сквере… А вечером занимается подготовительной работой к завтрашнему дню. Снова гуляет, обдумывает.
(Там же. Стр. 270)
Тут же она сообщает, что первоначальный замысел претерпел существенные изменения: изменились хронологические рамки повествования. Теперь он решает закончить «Р-17» 1922 годом. И уже с полной ясностью определился масштаб будущего повествования, его объем:…
Всего будет четыре тома: Февральская революция, Октябрьская революция, гражданская война и выбор путей. Архитектурно все готово.
(Там же)
Но вскоре выясняется, что четырех томов для реализации этого своего замысла ему мало, потому что ни один из задуманных им «узлов» в один том не вмещается, требует по меньшей мере двух-трех, а то и четырех томов:…
Уже много лет я работаю над историческим повествованием «Красное Колесо». Это книга о том, как произошла революция в России, и последствия её, ранние советские годы. Это огромная вещь, и она, по мере работы, ещё выясняется, больше, чем я думал. Она состоит из Узлов, Узлы – это книги отдельные, посвященные короткому важному времени, где завязан узел, где решается история. Такой один Узел – «Август Четырнадцатого» – у меня выйдет полностью весной 1983 года. Раньше был один только том его, а теперь добавится второй том, столыпинский, история деятельности Столыпина и смерти его, убийства. Второй Узел – «Октябрь Шестнадцатого» – тоже у меня закончен, мы его сейчас набираем, он тоже в двух томах и мог бы появиться в свет хоть в том же 83-м году… Следующий Узел – «Март Семнадцатого» – в четырёх томах. Это, собственно говоря, запись Февральской революции, как она произошла, день за днём и час за часом, участвуют сотни исторических лиц и десятки вымышленных для того, чтобы подхватить этот материал. Не знаю, как в других литературах, но по-русски нет ничего подобного: описать революцию всю в огромных движениях и в каждой мелочи. Всё вместе, все эти восемьтомов, составляют «Действие первое. Революция».
(Из радиоинтервью к 20-летию выхода «Одного дня Ивана Денисовича» для Би-би-си. Кавендиш, 8 июня 1982. В кн.: Александр Солженицын. Публицистика в трех томах. Том 3. Ярославль 1997. Стр. 29–30)
Итак, уже не четыре тома, а – ВОСЕМЬ. И эти восемь томов составят только ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. А ведь предполагается, что в эпопее будет не одно, а несколько этих ДЕЙСТВИЙ. Как мы вскоре узнаем, – ПЯТЬ:…
Следующее Действие – Второе – будет посвящено Семнадцатому году, течению Семнадцатого года. Этот год был до того насыщен событиями, что каждый месяц являлся как новая эпоха. И там у меня идут: Узел 4-й – «Апрель Семнадцатого», Узел 5-й – «Июнь-июль Семнадцатого», Узел 6-й – «Август Семнадцатого», Узел 7-й – «Сентябрь Семнадцатого». Эти вот четыре Узла составляют Действие Второе, течение самого Семнадцатого года. И к концу его, до октябрьского переворота… Я не знаю, как у меня будет с годами, со здоровьем, как Бог даст, вообще-то замысел мой продолжается дальше, замысел у меня на 20 Узлов, я должен бы описать дальше Гражданскую войну и первые годы становления советской власти, до 1922 года, до конца подавления крестьянских восстаний.