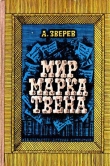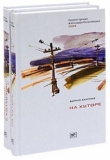Текст книги "Феномен Солженицына"
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Как же ты допустила, что вышла такая беда?
Ты же их не любила, ведь ты же другого хотела.
Почему ж ты молчишь? Почему ж ты молчала тогда?..
Зло во имя добра! Кто придумал нелепость такую!
Даже в страшные дни, даже в самой кровавой борьбе
Если зло поощрять, то оно на земле торжествует –
Не во имя чего-то, а просто само по себе…
Все мы смертные люди. И мы проявляемся страстью.
В нас, как сила земная, течет неуемная кровь.
Ты любовь отрицала для более полного счастья.
А была ль в твоей жизни хотя бы однажды любовь?
Никогда. Ты всегда презирала пустые романы.
Вышла замуж. (Уступка – что сделаешь: сила земли)
За хорошего парня… И жили без всяких туманов.
Вместе книги читали, а после и дети пошли.
Над детьми ты дрожала… А впрочем – звучит как легенда –
Раз потом тебе нравился очень без всяких причин,
Вопреки очевидности, – худенький, интеллигентный
Из бухаринских мальчиков красный профессор один.
Ты за правые взгляды ругала его непрестанно.
Улыбаясь, он слушал бессвязных речей твоих жар.
А потом отвечал: «Упрощаете вещи, Татьяна!»
И глядел на тебя. Ещё больше тебя обожал.
Ты ругала его. Но звучали слова как признанья.
И с годами бы вышел, наверно, из этого толк.
Он в политизолятор попал. От тебя показаний
Самых точных и ясных партийный потребовал долг.
Дело партии свято. Тут личные чувства не к месту.
Это сущность. А чувства, как мелочь, сомни и убей.
Ты про все рассказала задумчиво, скорбно и честно.
Глядя в хмурые лица ведущих дознанье людей.
Коллизия – та же, что в солженицынском «Случае на станции Кречетовка». Но, в отличие от Солженицына, автор этого отрывка не отрицает своего кровного родства со своей героиней. Да, он теперь уже не такой, как она. Но он ни на секунду не забывает, что тоже был таким. Потому и терзается, потому и с болью отрывает от себя эту омертвевшую ткань.
Этот запутанный клубок разноречивых чувств («Я ее написал, ненавидя, страдая, любя…») яснее ясного говорит, что он и за собой признает вину за то, что случилось с его героиней, со страной, со всеми нами.
Как Слуцкий:
И ежели ошибочка была,
Вину и на себя я принимаю.
Солженицын никакой вины за собой не чувствует. Всю вину за случившееся он целиком перекладывает на своего героя, словно сам таким никогда не был.
Особенно ясно это проявилось в другом, более значительном его произведении, в одном из эпизодов которого мы опять сталкиваемся с той же коллизией, с тем же сюжетным мотивом:…
Рубин снова стал ходить, всё так же безнадёжно отмеривая заплёванное, замусоренное пространство прокуренного коридора и так же мало подвигаясь в ночном времени.
И за образом харьковской внутрянки, которую он вспоминал всегда с гордостью, хотя эта двухнедельная одиночка висела потом над всеми его анкетами и всей его жизнью и отяготила его приговор сейчас, вступили в память воспоминания – скрываемые, палящие.
…Как-то вызвали его в парткабинет Тракторного. Лёва считал себя одним из создателей завода: он работал в редакции его многотиражки. Он бегал по цехам, воодушевлял молодёжь, накачивал бодростью пожилых рабочих, вывешивал «молнии» об успехах ударных бригад, о прорывах и разгильдяйстве.
Двадцатилетний парень в косоворотке, он вошёл в парткабинет с той открытостью, с которой случилось ему как-то войти и в кабинет секретаря ЦК Украины. И как там он просто сказал: «Здравствуй, товарищ Постышев!» – и первый протянул ему руку, так сказал и здесь сорокалетней женщине со стрижеными волосами, повязанными красной косынкой:
«Здравствуй, товарищ Пахтина! Ты вызывала меня?»
«Здравствуй, товарищ Рубин, – пожала она ему руку. – Садись».
Он сел.
Ещё в кабинете был третий человек, нерабочий тип, в галстуке, костюме, жёлтых полуботинках. Он сидел в стороне, просматривал бумаги и не обращал внимания на вошедшего.
Кабинет парткома был строг, как исповедальня, выдержан в пламенных красных и деловых чёрных тонах.
Женщина стеснённо, как-то потухло, поговорила с Лёвой о заводских делах, всегда ревностно обсуждаемых ими. И вдруг, откинувшись, сказала твёрдо:
«Товарищ Рубин! Ты должен разоружиться перед партией!»
Лёва был поражён. Как? Он ли не отдаёт партии всех сил, здоровья, не отличая дня от ночи?
Нет! Этого мало.
Но что ж ещё?!
Теперь вежливо вмешался тот тип. Он обращался на «вы» – и это резало пролетарское ухо. Он сказал, что надо честно и до конца рассказать всё, что известно Рубину об его женатом двоюродном брате: правда ли, что тот состоял прежде активным членом подпольной троцкистской организации, теперь скрывает это от партии?..
И надо было сразу что-то говорить, а они вперились в него оба…
Глазами именно этого брата учился Лёва смотреть на революцию. Именно от него он узнавал, что не всё так нарядно и беззаботно, как на первомайских демонстрациях. Да, Революция была весна – потому и грязи было много, и партия хлюпала в ней, ища скрытую твёрдую тропу…
«Я не знаю. Никогда он троцкистом не был», – отвечал язык Лёвки, но рассудок его воспринимал, что, говоря по-взрослому, без чердачной мальчишеской романтики, – запирательство было уже ненужным.
Короткие энергичные жесты секретаря парткома. Партия! Не есть ли это высшее, что мы имеем? Как можно запираться… перед Партией?! Как можно не открыться… Партии?! Партия не карает, она – наша совесть. Вспомни, что говорил Ленин…
Десять пистолетных дул, уставленных в его лицо, не запугали бы Лёвку Рубина. Ни холодным карцером, ни ссылкою на Соловки из него не вырвали бы истины. Но перед Партией?! – он не мог утаиться и солгать в этой чёрно-красной исповедальне.
Рубин открыл – когда, где состоял брат, что делал.
И смолкла женщина-проповедник.
А вежливый гость в жёлтых полуботинках сказал:
«Значит, если я правильно вас понял…» – и прочёл с листа записанное.
«Теперь подпишитесь. Вот здесь».
Лёвка отпрянул:
«Кто вы?? Вы – не Партия!»
«Почему не партия? – обиделся гость. – Я тоже член партии. Я – следователь ГПУ».
(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 433–435)
Это ночное бдение Льва Рубина, эти мучительные, терзающие его душу воспоминания напоминают знаменитое пушкинское:
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья;
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Разница лишь в том, что Пушкин все эти саморазоблачения адресует СЕБЕ, а Солженицын отдает их своему герою.
Тут, конечно, можно сказать, что одно дело поэзия и совсем другое – проза.
Поэзия (лирика) по самой своей природе тяготеет к исповедальности, а в эпическом жанре автор всегда отдает самое свое сокровенное кому-то из своих героев.
Но тут все дело в том, – КОМУ.
Было бы, наверно, естественнее, да и честнее, если бы эти воспоминания и саморазоблачения Солженицын отдал другому своему герою – Глебу Нержину.
Его близость автору, – даже не близость, а кровное с ним родство, – не вызывает сомнений.
На обсуждении «Ракового корпуса» Солженицына (я уже упоминал об этом) упрекали в том, что герой этой его повести Костоглотов слишком автобиографичен, слишком уж коротка, почти незаметна дистанция между этим героем повести и её автором. Солженицын отвечал, что при желании легко мог бы убедить собравшихся, что Костоглотов – не автор.
Может, оно и так.
Но если бы на том обсуждении речь шла не о «Раковом корпусе», а о романе «В круге первом», и если бы упрек этот относился не к образу Костоглотова, а к образу Нержина,отвести этот упрек было бы гораздо труднее. В сущности, это было бы даже невозможно, потому что Нержин – alter ego автора, его «второе я», – чего он, автор, даже и не старается скрыть. Можно даже сказать, что он на этом настаивает.
Но все свои революционные иллюзии, всю свою пламенную веру в конечное торжество мировой революции, ради чего, как ему казалось, только и стоило жить, он отдал Рубину. Что же касается Нержина, то предполагается, что он эти свои иллюзии, – если они у него были, – уже давно изжил. А скорее всего никаких таких иллюзий у него никогда даже и не было. Так что, если вышла «ошибочка», то вина за эту «ошибочку» лежит на Рубине. А Нержин – чист, как голубь, и ни терзаться, ни каяться ему решительно не в чем.
Дни и ночи напролет, урывая каждую лишнюю минутку от основных своих обязанностей, которыми он почти открыто пренебрегает, Нержин обдумывает и записывает какие-то тайные, – предполагается, что крамольные, – свои мысли. О том, ЧТО это были за мысли, в романе говорится глухо. Но теперь мы уже знаем, что на самом деле там, на той Марфинской Шарашке, Солженицын начал работать над давно, ещё в юности задуманным им романом «Люби Революцию». Предполагалось, что в будущем составится у него даже целый цикл романов под этим заглавием. Из чего мы можем заключить, что со своей верой в Мировую Революцию он тоже расставался не легко и не просто. *
Всё это не тогдашние, а сегодняшние, – во всяком случае, более поздние – мои мысли. Полвека назад, читая рассказ Солженицына «Случай на станции Кречетовка», я ни о чем таком даже и не думал. Просто восхищался этим его рассказом. Не так безоговорочно, как «Иваном Денисовичем», но – восхищался. И, как я теперь понимаю, не зря.
В полной мере я тогда этого ещё не понимал, но почувствовал, что этим своим рассказом, самим его сюжетом Солженицын прикоснулся к чему-то очень важному, быть может, самому важному в природе сталинщины.
Много лет спустя случилось мне прочесть книгу неизвестного мне автора Романа Редлиха «Сталинщина как духовный феномен. Очерки большевизмоведения».(Frаnkfurt/Main, 1971).
Не всё в этой книге было мне близко, но имя автора я запомнил, и когда спустя какое-то время наткнулся на подписанную этим именем журнальную статью, читал её уже с повышенным интересом.
Статья была как будто уже на другую тему, – не о Сталине и сталинщине, а о Достоевском. Но одно мимоходом брошенное в ней рассуждение автора вызвало у меня целый поток ассоциаций – и литературных, и жизненных, – главной из которых была ассоциация с давно уже не вспоминавшимся мною рассказом Солженицына «Случай на станции Кречетовка»….
Верховенщина и смердяковщина, однако, пустяк по сравнению со сталинщиной. И Достоевский только предчувствовал путь, который Россия прошла не в воображении писателя, а в реальном историческом бытии… Сталинский фикционализм на службе активной несвободы, сталинская «самая демократическая в мире» конституция на службе ежовского террора ведут дальше, чем тайное общество Петра Верховенского. А расправа с соратниками Ленина страшней, чем убийство Шатова.
(Р. Редлих. Неоконченный Достоевский // Грани. 1971)
Прямую ассоциацию с солженицынским «Случаем на станции Кречетовка» вызвал у меня не столько общий смысл этого рассуждения, сколько вот эта последняя, заключающаяего фраза.
Сразу мелькнула мысль, что о поступке героя этого рассказа, пожалуй, даже с большим основанием, чем о расправе Сталина с соратниками Ленина, можно сказать, что онстрашнее, чем убийство Шатова.
Но натолкнула меня тогда на эту мысль ещё и другая, тоже тут же у меня возникшая и тоже прямая ассоциация, – уже не литературная, а жизненная…. *
В разгар ежовщины был арестован Лев Давидович Ландау.
Он ещё не был тогда одним из столпов отечественной физики, академиком, Героем Социалистического труда, лауреатом Нобелевской, Ленинской и нескольких Сталинских премий. Всё это ждало его впереди. А тогда, в 1938-м, ему было двадцать девять лет, и был он всего-навсего сотрудником института физических проблем АН СССР. Не рядовым, а заметным, подающим большие надежды, но все-таки всего лишь сотрудником. А директором этого института был Петр Леонидович Капица, который и до того уже не раз напрямуюобращался к Сталину, заступаясь за арестованных коллег.
Во время очередной массовой чистки Ленинграда (прежнюю столицу и «колыбель революции» многократно очищали от «бывших», от «зиновьевцев» и т. п.) был арестован Владимир Александрович Фок, тогда ещё член-корреспондент АН, но имевший уже прочную мировую известность. На следующее утро (12 февраля 1937 г., в разгар небывалого террора) Капица пишет… письмо Сталину, в котором, кратко характеризуя Фока как известного ученого, приводит четыре довода, объясняющие, почему с учеными вообще так обращаться нельзя…
Это было время, когда уже недопустимо было вступаться за арестованного. Сам такой поступок делал человека подозрительной, если не преступной, личностью. Господствовал тезис: «Органы не ошибаются». Но поразительным образом это письмо подействовало немедленно. В течение трех дней! (значит, Сталин сразу прочел его) Фок был доставлен из Ленинграда прямо в кабинет главного чекиста того времени Ежова (вообразите его реакцию на вопрос вошедшего Фока: «С кем имею честь говорить?»). Фок тут же былвыпущен на свободу из страшного дома на Лубянке.
(Е. Л. Фейнберг. Эпоха и личность. Физики. М. 2003. Стр. 397–398)
За Ландау Петру Леонидовичу хлопотать было труднее, чем за Фока. И не только потому, что Лев Давидович не был тогда ни членом-корреспондентом, ни ученым с мировым именем. Тут были трудности ещё и другого рода. О главной из них речь впереди, а что касается других, не главных, но тоже существенных, то о них достаточно прямо сказано вписьме, которое П. Л. Капица в тот же день, когда тот был арестован, написал и отправил Сталину….
28 апреля 1938, Москва
Товарищ Сталин!
Сегодня утром арестовали научного сотрудника Института Л. Д. Ландау. Несмотря на свои 29 лет, он вместе с Фоком – самые крупные физики-теоретики у нас в Союзе…
Нет сомнения, что утрата Ландау как ученого для нашего института, как для советской, так и для мировой науки не пройдет незаметно и будет сильно чувствоваться. Конечно, ученость и талантливость, как бы велики они ни были, не дают право человеку нарушать законы своей страны, и, если Ландау виноват, он должен ответить. Но я очень прошу Вас, ввиду его исключительной талантливости, дать соответствующие указания, чтобы к его делу отнеслись очень внимательно. Также, мне кажется, следует учесть характер Ландау, который, попросту говоря, скверный. Он задира и забияка, любит искать у других ошибки и, когда находит их, в особенности у важных старцев, вроде наших академиков, то начинает непочтительно дразнить. Этим он нажил много врагов.
У нас в институте с ним было нелегко, хотя он поддавался уговорам и становился лучше. Я прощал ему его выходки ввиду его исключительной даровитости. Но при всех своих недостатках в характере мне очень трудно поверить, что Ландау был способен на что-либо нечестное.
Ландау молод, ему представляется ещё многое сделать в науке. Никто, как другой ученый, обо всем этом написать не может, поэтому я и пишу Вам.
П. Капица(Там же. Стр. 398–399)
Про Ландау пишет он осторожнее, чем про Фока. Что-то, может быть, знает, а если не знает, то догадывается.
А разница между делом Фока и делом Ландау была немалая.
У Фока никакого дела, в сущности, не было. Его «замели» в одной из массовых чисток Ленинграда. А у Ландау было свое, персональное дело, и весьма серьезное.
Когда «дело» это было обнародовано (а случилось это совсем недавно), в нем был обнаружен совершенно поразительный по тем временам документ: антисталинская листовка.
Текст её даже и сегодня потрясает своей резкой откровенностью:…
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Товарищи!
Великое дело Октябрьской революции предано… Миллионы невинных людей брошены в тюрьмы, и никто не может знать, когда придет его очередь…
Разве вы не видите, товарищи, что сталинская клика совершила фашистский переворот?! Социализм остался только на страницах окончательно изолгавшихся газет. В своейбешеной ненависти к настоящему социализму Сталин сравнялся с Гитлером и Муссолини. Разрушая ради сохранения своей власти страну, Сталин превращает её в легкую добычу озверелого немецкого фашизма…
Товарищи, организуйтесь! Не бойтесь палачей из НКВД. Они способны избивать только заключенных, ловить ни о чем не подозревающих невинных людей, разворовывать народное имущество и выдумывать нелепые судебные процессы о несуществующих заговорах…
Сталинский фашизм держится только на нашей неорганизованности.
Пролетариат нашей страны, сбросивший власть царя и капиталистов, сумеет сбросить фашистского диктатора и его клику.
Да здравствует 1 Мая – день борьбы за социализм!
Московский комитет Антифашистской рабочей партии.(Там же. Стр. 391–392)
Никакой такой партии в действительности не существовало. Была крохотная группа заговорщиков-интеллигентов. (Даже и слово «группа» тут не совсем подходит: оно из лексикона следователей). Неизвестно, кто в эту «группу» входил. Неизвестно даже, кто сочинил эту листовку, во всяком случае, – не Ландау. Но к составлению и распространению её он был причастен:…
…в апреле 1938 г., после страшного мартовского Пленума ЦК, призвавшего к ещё большему «повышению бдительности», к Дау приходит Корец и говорит, что надо выпустить антисталинскую листовку и распространить её во время первомайской демонстрации. Согласен ли Дау просмотреть приготовленный текст и дать советы? И Дау соглашается, поставив лишь одно условие: он не должен знать имен участников этого предприятия. Это условие легко понять. Дау всегда боялся боли и, видимо, опасался, что под пытками может назвать эти имена. Листовку он просмотрел. Сделал замечания, и она была передана для размножения… 28 апреля Ландау, Корец, а заодно и друг Ландау Румер были арестованы.
(Там же. Стр. 391)
В каком объеме и в какой форме обо всём этом доложили Сталину, неизвестно. Но что-то, видимо, доложили, потому что на письмо Капицы в защиту Ландау он отреагировал совсем не так, как в случае с Фоком. Можно даже сказать, что никак не отреагировал.
Капица ждал год.
Казалось, было очевидно, что дело это тухлое: вызволить Ландау из тюрьмы ему не удастся.
Но он на этом не успокоился и год спустя отправил на самый верх второе письмо, адресовав его уже не Сталину, а Молотову….
Товарищ Молотов!
За последнее время… мне удалось найти ряд новых явлений, которые, возможно, прояснят одну из наиболее загадочных областей современной физики. Но… мне нужна помощь теоретика. У нас в Союзе той областью теории, которая мне нужна, владел в полном совершенстве Ландау, но беда в том, что он уже год как арестован.
Я все надеялся, что его отпустят, … не могу поверить, что Ландау государственный преступник… Правда, у Ландау очень резкий язык и, злоупотребляя им, при своём уме он нажил много врагов… Но при всем его плохом характере, с которым и мне приходилось считаться, я никогда не замечал за ним каких-либо нечестных поступков.
Конечно, говоря все это, я вмешиваюсь не в свое дело, так как это область компетенции НКВД. Но все же я думаю, что я должен отметить следующее как ненормальное.
1.Ландау год как сидит, а следствие ещё не закончено, срок для следствия ненормально длинный.
2.Мне, как директору учреждения, где он работал, ничего не известно, в чем его обвиняют.
3.Ландау дохлого здоровья, и если его зря заморят, то это будет очень стыдно для нас, советских людей.
Поэтому обращаюсь к Вам с просьбами:
1.Нельзя ли обратить особое внимание НКВД на ускорение дела Ландау.
2.Если это нельзя, то, может быть, можно использовать голову Ландау для научной работы, пока он сидит в Бутырках. Говорят, с инженерами так поступают.
П. Капица(Там же. Стр. 400–401)
На это письмо реакция последовала немедленно. Капицу пригласили на Лубянку, где его принял и имел с ним беседу заместитель наркома НКВД Меркулов. Он предложил Петру Леонидовичу лично ознакомиться с материалами дела Ландау. Но тот от этого решительно отказался. Во-первых, потому что понимал, что на Лубянке из подследственного могли выбить любые признания, – это тогда ни для кого уже не было тайной. А во-вторых, потому, что вообще не хотел втягиваться в дискуссию о виновности Ландау.
Эта его тактика оказалась правильной: Ландау выпустили. Решение, разумеется, принял Сталин. Но чтобы это не выглядело проявлением слабости, уступкой настырному ученому, выдали Капице арестанта, за которого он хлопотал, под его личную ответственность, под расписку:…
Народному комиссару внутренних дел СССР тов. Л. П. Берия
26апреля 1939, Москва
Прошу освободить из-под стражи арестованного профессора физики Льва Давидовича Ландау под мое личное поручительство. Ручаюсь перед НКВД в том, что Ландау не будетвести какой-либо контрреволюционной деятельности против советской власти в моем институте, и я приму все зависящие от меня меры к тому, чтобы он и вне института никакой контрреволюционной работы не вел. В случае, если я замечу со стороны Ландау какие-либо высказывания, направленные во вред советской власти, то немедленно сообщу об этом органам НКВД.
П. Капица(Там же. Стр. 402)
История по тем временам уникальная. Но не эта её уникальность заставила меня к ней обратиться.
Есть в этой удивительной истории одна подробность, которая роднит её с сюжетом рассказа Солженицына «Случай на станции Кречетовка»:…
Кто-то выдал. Подозрение участников группы пало на одного её члена К., которого я не назову, поскольку, во-первых, оно не доказано (ниже, на другом примере, я покажу, к каким ужасным последствиям могут приводить такие недостоверные подозрения). Во-вторых, этот человек, когда началась война, добровольно пошел на фронт (подозревающие думают – чтобы смертью искупить свою вину) и погиб. Основанием для подозрения служит лишь то, что именно ему знавший его с детства Корец передал текст, чтобы тот сосвоими друзьями (рвущимися, по словам К., к действиям) размножили её на гектографе, изготовленном ими любительски (что и было сделано, хотя качество, по словам Кореца, было плохое – большей частью брак).
(Там же. Стр. 391)
Ситуация вполне банальная, и я не придал бы ей никакого значения, если бы не одно обстоятельство.
Имя человека, который сообщил «органам» об отпечатанной на гектографе антисталинской листовке, автор книги, из которой я почерпнул все эти сведения (Е. Л. Фейнберг), не называет. И правильно делает. Но от меня Евгений Львович, с которым я был хорошо и даже близко знаком, это имя не утаил. Это был, как он доверительно мне сообщил, тот самый молодой поэт, образ которого в рассказе Солженицына мелькнул на мгновенье в портрете «бледнолицего лейтенанта с распадающимися волосами», стихи которого,«никем не проверенные, откровенные» («Если Ленина дело падёт в эти дни – для чего мне останется жить?»), произвели такое сильное впечатление на другого лейтенанта, главного героя рассказа – Василия Зотова.
Первая моя реакция, когда я это услышал, была: «Нет! Не может быть! Не мог! Никак не мог такой человек стать доносчиком!»
Но, подумав, я вынужден был признать, что такое допущение, при всей его чудовищности, быть может, и не совсем безосновательно.
Предположение, что в первые же дни войны он добровольцем ушел на фронт, чтобы смертью искупить свою вину, – это, конечно, полная ерунда.
Свою гибель в неизбежной грядущей войне с немецким фашизмом он – как и многие его сверстники – предрекал задолго до того, как эта война на нас обрушилась:
В те годы в праздники возили
Нас по Москве грузовики,
Где рядом с узником Бразилии
Художники изобразили
Керзона (нам тогда грозили,
Как нынче, разные враги).
На перечищенных, охрипших
Врезались в строгие века
Империализм, Антанта, рикши,
Мальчишки в старых пиджаках,
Мальчишки в довоенных валенках,
Оглохшие от грома труб,
Восторженные, злые, маленькие,
Простуженные на ветру.
Когда-нибудь в пятидесятых
Художники от мук сопреют,
Пока они изобразят их,
Погибших возле речки Шпрее…
И доносчиком в точном смысле этого слова он, конечно, быть не мог.
Но считать, что его товарищи, сочинившие антисталинскую листовку, были арестованы правильно, что их нельзя было не арестовать, и даже стать виновником (быть может, невольным) их ареста, – вполне мог.
Насчет Сталина, надо думать, у него, как и у них, тоже уже не было никаких иллюзий. (А иначе – как мог бы он оказаться в этой группе заговорщиков?) Но к исторической роли Сталина, к тому кровавому пути, по которому Сталин повел страну, относился не так, как они:
Я понимаю все. И я не спорю.
Железный век идет высоким трактом.
Я говорю: «Да здравствует история!» –
И головою падаю под трактор.
Уже одни только эти его строки в какой-то мере объясняют, почему, как это ни чудовищно, я готов поверить, что этот чистый и благородный юноша все-таки мог выдать своих товарищей, отдать их в руки палачей.
Но были и другие, ещё более жуткие, в которых он вспоминал, как яростным, ненавидящим взглядом провожал расфуфыренных жен ответственных работников – «Их путь от Горта до ТЭЖЭ», и, как о чем-то само собой разумеющемся, заключал:…
В тридцать седьмом мы к стенке ставили мужей.
Кровавый кошмар тридцать седьмого года, стало быть, представлялся ему суровым, но справедливым возмездием, постигшим предателей-перерожденцев и, худо ли, хорошо, но спасшим Революцию от термидора.
Прав, прав был автор вспомнившихся мне «очерков большевизмоведения», сказавший, что верховенщина и смердяковщина – пустяк по сравнению со сталинщиной, а расправас соратниками Ленина страшней, чем убийство Шатова.
Убийством Шатова Петруша Верховенский повязал кровью жалкую кучку одержимых бесовщиной своих сподвижников, «наших». А Сталинповязал кровью половину страны.
«Сейчас, – сказала Ахматова, когда началась волна реабилитаций, – две России посмотрят друг другу в глаза: та, что сажала – той, что сидела». И это – не преувеличение: на каждого арестованного был свой доносчик, свой следователь, свой вертухай.
Вот и простодушный герой солженицынского рассказа, у которого тридцать седьмой год вызывает ассоциацию лишь с гражданской войной в Испании, тоже оказался повязанным той большой кровью. *
На самом деле в то, что Зотов и слыхом не слыхал про тридцать седьмой год, не то что трудно, а прямо-таки невозможно поверить.
Перечитаем ещё раз эту – самую уязвимую – сцену солженицынского рассказа:…
– Спрашивать ни у кого нельзя, за шпиона посчитают… У нас вопросы задавать опасно.
– В военное время, конечно.
– Да оно и до войны уже было.
– Ну, не замечал!
– Было, – чуть сощурился Тверитинов. – После тридцать седьмого…
– А что тридцать седьмой? – удивился Зотов. – А что было в тридцать седьмом? Испанская война?
По правде говоря, и в реплику Тверитинова, с которой завязался этот диалог, не очень-то верится. Трудно представить, чтобы человек, только что вышедший из окружения,в разговоре с помощником военного коменданта стал всуе поминать ту страшную, черную дату.
Но реплика эта нужна Солженицыну, чтобы вызвать ответную реплику Зотова. А весь этот короткий диалог, – чтобы показать, в каких разных, не сообщающихся мирах жили в предвоенные годы эти два человека.
Но если реплика Тверитинова лишь слегка отдает некоторой искусственностью, подстроенностью, то ответная реплика Зотова кажется совсем уж неправдоподобной.
Могло ли такое быть, чтобы Зотов в свои девятнадцать-двадцать лет (лейтенанту в 1941 году не могло быть меньше), не замечал, что и до войны – после тридцать седьмого – «оно уже было».
Мне в тридцать седьмом было не шестнадцать лет, как Васе Зотову, а – десять. Но и я прекрасно помню, как нам велели замазывать чернилами в наших школьных учебниках портреты канувших в бездну недавних вождей, а потом – и маршалов: Тухачевского, Блюхера, Егорова. Помню свистящим шепотком произносившееся жуткое слово «троцкист» инеизменно следующее за ним, ещё более жуткое – «расстрел». Помню как, одержимые шпиономанией, мы старательно выискивали на рисунках, украшавших заднюю страничку наших школьных тетрадок, притаившиеся там буквы, из которых должен был сложиться вредительский лозунг: «Долой Сталина!»
Может быть, все это происходило только в столице? А до той глухой провинции, где до войны жил Василий Зотов («В Москве довелось ему побывать только один раз за всю его жизнь – на экскурсии. В Иванове он, правда, бывал. Но тоже не так уж часто…»), эта волна не докатилась?
Нет, этой шпиономанией, как лесным пожаром, была тогда охвачена вся наша огромная страна.
Вот как вспоминает об этом уже не московский, каким был я, а сухумский мальчик. Ему в том роковом году было не десять, как мне, а – восемь лет:…
…Я вдруг вспомнил про тетрадь, на обложке которой был изображен вещий Олег, прощающийся со своим конем. В школе ребята шепотом говорили, что на этой обложке прячетсяхорошо замаскированный вредительский лозунг…
Погружаясь в сладостную жуть, я стал исследовать рисунок на обложке тетради. Там был изображен князь Олег, скорбно обнимающий своего коня перед тем, как расстатьсяс ним навеки. Под рисунком в два столбика, с переносом на последнюю страницу были напечатаны стихи Пушкина «Песнь о вещем Олеге».
Через несколько минут я обнаружил букву Д, искусно замаскированную в виде стремени.
«Ну и негодяи, ну и хитрецы!» – подумал я с жуткой радостью и стал продолжать исследование. Через некоторое время я решил, что узоры на седле Олега, изображенные в виде кружочков, могут сойти за букву О…
Я пошел дальше. Через некоторое время мое внимание привлекла подозрительно приподнятая нога Олегова коня. Она была приподнята и согнута под прямым углом. Её можно было принять за букву Г. Правда, перекладина получалась длиннее и толще самого столбика, на котором она держалась. Очень уж уродливая буква получалась. Эта уродливость буквы как-то меня расстраивала. После некоторых колебаний я решил не включать её в собрание букв. Мне даже захотелось ударить коня по ноге, чтобы он её выпрямил, а не держал полусогнутой, как будто его собираются ковать…
(Фазиль Искандер. Школьный вальс, или Энергия стыда)
В этой (автобиографической) повести Искандера рассказ ведется от первого лица, и у нас есть все основания предполагать (даже не сомневаться), что всё, о чем тут рассказывает автор, с ним было на самом деле.
Но я не могу не вспомнить тут ещё один рассказ того же автора, в котором атмосфера истерической шпиономании, охватившей в те годы страну, передана с ещё большей выразительностью и наглядностью:…
Чика иногда отпускали на море вместе с сумасшедшим дядей…
И вот однажды они идут домой, бодрые и прохладные после купания…
И вдруг впереди на приморском пустыре, у самого выхода на улицу, Чик заметил толпу взволнованных мальчишек. Чик сразу же понял, что там что-то случилось. Он подбежалк толпе. Внутри этой небольшой, но уже раскаленной толпы детишек стояло несколько подростков.