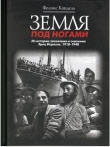Текст книги "Язык в революционное время"
Автор книги: Бенджамин Харшав
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Цви Шац
1890–1921. Родился в Ромнах (Украина). В 1911 г. иммигрировал в Эрец Исраэль. Служил в Еврейском легионе. Вместе с Бренером убит во время арабского мятежа в Яффе.
Изгнание нашей классической поэзииПеревод с иврита Велвла Чернина
Единственный язык, на котором должна звучать подлинная классическая поэзия, – это язык трудового народа. В дни детства человечества, когда народные поэты, такие, как Гомер, ходили и пели для народа свои песни, их язык был и языком народа; тогда еще не существовало никакого различия между языком народа и языком книги. Но на протяжении поколений народный язык стал материалом в руках тех, чье положение в обществе изменилось и позволило им вести более интенсивную жизнь; в качестве инструмента для отражения своей жизни они создали второй язык – литературный. Так образовался определенный разрыв между литературой и народом, подлинной народной жизнью. Жизнь трудящегося осталась без художественного поэтического выражения. Здесь зародилось и стало нарастать то непонимание, которое разверзлось между трудящимися слоями народа и творцом, подобно глубокой пропасти. Так родилось зерно классовой зависти и ненависти. Это хроническая болезнь общества. Исцеления от этой болезни не будет, если трудовой народ не станет и народом-творцом.
Казалось бы, в нашем мире можно было избежать этой печальной ситуации. Разве не мы должны строить наше общество, заложить его первые основы? Однако вот и у нас создается раскол, еще более глубокий, чем у иноверцев. Факт, что язык народа в Эрец Исраэль не является нашим литературным языком. Сефардское произношение принципиально отличается от ашкеназского, на котором поют свои песни наши крупнейшие поэты. Трудовому народу Эрец Исраэль, всему новому поколению, входящему сейчас в жизнь, их поэзия непонятна.
Если мы действительно намерены собрать рассеянный народ, объединить его, разрушить все перегородки, возникшие между его различными группами, и создать почву для глубокого, интимного, непосредственного понимания, – нам следует обратить внимание на создание единого языка и единого произношения. На это до сих пор не обращали надлежащего внимания. Мы должны прежде всего избежать реальности двух языков, языка народа и языка книжного. Напомним, что наш народ – это народ Книги и что и здесь, в Эрец Исраэль, трудящийся, держащий рукоять плуга, остается человеком с горячим желанием быть человеком и что его потребности в духовной пище ничуть не меньше, а даже больше, чем у какого-то бездельника, возлежащего на шелковом диване и плюющего в потолок от безделья. В обновляющейся России, бьющейся в мессианских муках, появится новое поколение интеллектуальных трудящихся – плод нового воспитания, приучающего всех без исключения к физическому труду с детства. Поколение интеллектуальных трудящихся, которое будет трудиться своими руками, покорять и творить своим духом, появится вместо враждебных классов. Оно понесет в себе светоч будущей культуры и создаст ее.
Этот тип трудящегося создается из движения Хе-халуц и в нашей стране, потому что желание трудиться и желание жить не противоречат друг другу в сердце нашего молодого человека, и эти два желания проложат для него в конце концов путь к исправлению мира и уберут с его дороги все другие желания, которые будут сбивать его с пути… Потому что он больше не является тем порабощенным человеком, служащим лишь материалом для эксплуатации и предоставляющим другим наслаждаться поэзией и красотой за счет отнимаемого у него времени и ограничения его потребностей.
И вот об этом интеллектуальном трудящемся, который уже встречается и вырастает в нашей стране, который и является ядром народа будущего, – все еще не создано достойной поэзии. Его язык, отличный по произношению от литературного языка, еще не стал материалом для поэзии. Его независимая и полная жизнь еще не нашла отклика, в котором были бы радость и утешение, он до рассвета выйдет в поле, подобный льву, но его собственная песня не будет сопровождать его! Он словно бы в чужом краю. Его песнь осталась в Изгнании… Бялика, Шнеура, Черниховского[132]132
Ведущие ивритские поэты периода национального ренессанса, начавшегося в конце XIX в., которые все еще оставались центральными фигурами ивритской поэзии Европы во время написания очерка.
[Закрыть] он петь не будет, потому что не поймет. И не из-за разрыва между его жизнью и Изгнанием, и не из-за неизбежной печали этой поэзии, «вчерашней печали». Давайте позволим ей грустить о вчерашнем дне, бросать тень на наши лица и задевать в нашем сердце чувствительные струны. Главная причина, которая не позволяет поэзии раствориться в нас, – это ее чуждое произношение; при всей ее красоте и глубине она не зазвенит набатом в нашем сердце, ибо не из грубых земляных комьев нашей жизни вылеплена она и не из звуков нашей жизни, будь они суровыми или радостными. Пекутся повседневно о нашем языке. Но ценность этой поэзии подобна ценности поэзии, написанной на чужом языке. И если при всей доброй воле мы попытаемся приблизить ее к нашей жизни и прочтем на своем языке, чья мелодика сефардская, мы не сможем ни понять ее, ни насладиться ею. Она будет смешной и убогой, как чудесная соната Бетховена, написанная по ошибке фальшивыми нотами, как музыкальный инструмент, поломанный пьяницей. Полной выйдет она из сокровищницы сердца художника и ущербной достигнет наших ушей. Потому что и самая возвышенная идея не будет услышана, если не предстанет в надлежащем, единственно возможном одеянии. А иначе – как мы сможем постичь чистую, незапятнанную душу произведения, каким оно возникло в сердце его творца? Нет, у трудящегося Эрец Исраэль нет классической поэзии, которая утешала и просвещала бы его, потому что та, что есть, не поднимет его суровой жизни с самого низа, не озарит своим светом его вечера после тяжких дневных трудов, а когда он пробуждается утром – не зазвучит в нем, не ободрит его. Она не вдохнет в него ни мятежного духа, ни мужества продолжать эту жизнь, ни счастливого покоя. Она не сотворит нашей будущей истории.
А он, трудящийся, разве он не вслушивается, не жаждет этой мелодии? Может быть, из-за этой скрытой надежды он и приехал в Эрец Исраэль… И где она?
Наш враг – не бедность нашей жизни! «Мы говорим в Эрец Исраэль о влиянии на живущих в Изгнании, о стремлении к творчеству в нашей среде. Ни одной оригинальной народной песни, ни одной мелодии не было создано в этом центре, в Эрец Исраэль на протяжении всех этих лет. И они не смогут быть созданы! Они не нужны. Не нужны незрелые плоды, свидетельствующие лишь о болезненности ростка. Освободим Эрец Исраэль от обязанности творить, от обязанности влиять» и т. д. и т. д. («Внедрение языка в народ», Ш. Явнеэли, сборник «Единство труда»).
Но это принципиальная ошибка, товарищ Явнеэли! Потому что поэзия никогда не была современницей и зеркалом своей эпохи, подобно другим отраслям культуры, верным своему времени, как то: реалистический роман, наука, публицистика.
Поэзия сама по себе не может быть верной современницей. Но, как и пророчество, поэзия действительно движет вперед поколение и является его вестником. Разве не отражает она жизнь, находящуюся еще в потенциале, не раскрывает то, что не видно глазом, сладкую мечту, полную ярких красок и тайны?.. Поэзия – это аромат будущего, благовоние жертвы, приносимой душой, которая жаждет вознестись к Богу вечному; она – далекий отзвук тех голосов, которым лишь предстоит еще родиться! Самая свежая поэзия, на которой еще лежит ночная роса, воссияет, когда только бурлят мечты и устремления, а не когда они воплощены в жизнь. И действительно, наша жизнь богата, прозрачна, глубока, она действует незаметно для глаза. Ибо, пожалуй, еще ни в одном поколении не было так много «художников красивого молчания», как в нашем поколении. Нет, наша жизнь не бедна, не лишена содержания, но в ней отсутствует форма, рамки, отсутствует сосуд для содержимого, изливающегося в пропасть, не хватает инструмента для музыканта и рук, протянутых «навстречу каждому проявлению красоты и всплеску великолепия». Черниховский ощутил скрытую трагедию, возникшую из-за «противоречия между мелодией речи и мелодией стиха, противоречия, которое портит музыкальность и не дает стиху на иврите укорениться». Но он ощутил лишь одну сторону трагедии, которая касается его, поющего на иврите. Но еще больше трагедия тех многих, чьи имена не будут прославлены и чье чело не будет увенчано венком, тех, кто лишен возможности услышать песню на иврите. Потому что сначала было слышание, святая потребность получать, именно оно и создало вторую потребность – давать. Можно уничтожить книги, но нельзя остановить бег жизни. А жизнь в Эрец Исраэль уже срослась органически с нашим произношением. И мы хотим теперь получить свое.
До сих пор мы вынуждены читать свою поэзию в произношении, находящемся вне нашей жизни. Самая чудесная песнь в какой-то пограничный момент вдруг покидает меня – и вот моя жизнь не зазвучала в песне. Жизнь отдельно, а поэзия – отдельно. Как нам пропеть свою жизнь? И как нам вернуть нашу поэзию из Изгнания?
А может быть, сама судьба нашего возрождения зависит от этого вопроса?
Кляцкин[133]133
Яков Кляцкин (Клацкин, 1882–1948) – деятель сионистского движения, издатель и публицист, писал на иврите и по-немецки. (Примеч. ред.)
[Закрыть] пишет: «Оно [возрождение] все еще только играет в национальную идею и украдкой шутит по поводу революции, скрытой в этой идее. Но пришло время привести философию возрождения к ее последнему выводу и обнажить ее во всей жестокости правды».
Действительно, пришло время, и то, что нащупывают в потемках там, в Изгнании, мы здесь, в Эрец Исраэль, видим ясно. Приближается великий час, час встречи возрождающегося народа с его великими поэтами, поэтами Изгнания. Кто кому уступит?
О нашей новой литературе Шнеур пишет в журнале «Миклат»: «Подобный поток варварства всегда прорывал заслоны любого языка во время переворотов и перехода к новым культурным задачам, к национальному возрождению и политической активности, покуда не придут высшие авторитеты того или иного языка и во главе их – большие поэты, чье художественное чувство было и всегда будет высшим и самым надежным судьей во всех языках. Они заклеймят варварство и изгонят его в тот хаос и туман толпы, из которых он явился». Да, великие поэты имеют право устанавливать законы языка. Но не законы жизни, ибо жизнь сама устанавливает свои законы, не спрашивая поэтов поколения и его законодателей! И не стоит пренебрегать «туманом толпы».
В этот решающий час я, один из народа, один из народа этой земли, осмеливаюсь обратиться к вам. Прислушайтесь к слабому пульсу нашей жизни! Вот Бялик проповедует «долг», он склоняет голову и просит железного ярма для своей шеи. Действительно, ярмо готово и долг ясен: Подняться в Эрец Исраэль и из комьев черной земли создать правду жизни, песнь жизни! Кому трудом рук своих, а кому силой духа своего, ибо побеждает лишь песнь жизни.
Разве не является загадкой (возмутительной, как ни посмотри) нашего возрождения тот факт, что столпы нашей поэзии все еще стоят в отдалении, за границами Эрец Исраэль, и не ощутили еще своего прямого долга, и не поднялись в страну, и не впитали еще в себя голосов жизни, и не поселили Бога живого в сердце своем, и не настроили еще струн своей лиры заново?!
Какой будет эта встреча? Еще рано судить: мы хотим вернуть нашу поэзию из Изгнания, ибо мы не можем и не хотим разорвать все те нити, которые связывают нас с Изгнанием, ибо среди них есть живые сосуды, питающие нас из источников, скрытых в сердце нации. Мы не станем торопиться и создавать «заново», мы не отчаемся и не оттолкнем мечту о творчестве в далекое будущее. Мы позовем великих людей народа, сказав: «Не бросайте нас начинать все сначала в одиночестве. Воспойте песнь и придите к нам и возвысьте нашу жизнь скрытым в вас богатством. Дайте нам его, этот сок древнего видения, и мы наполним им кубок своей жизни, оденем его звуками нашей жизни, увенчаем его великолепием, вернем его из скитаний Изгнания в наши сердца!»
Не «заметать под ковер», а внимательно слушать и творить приходите к нам. «Тогда новую песнь воспоет поэт».
* * *
Искаженное «ашкеназское» произношение удостоилось существования лишь потому, что наш язык был до сих пор только в книгах, но настали иные дни. Язык укоренился в сердце и нашел звучание на устах, и для искаженного произношения нет больше места ни в современной жизни, ни тем более в храме нашей поэзии.
У иноверцев тоже есть разные произношения в устах «простонародья», но не в языке творчества. Ясно, что язык народа должен стать языком творчества. Чтобы создать такой язык, народно-литературный, надо сблизить три наших произносительных нормы, потому что только так будет создана национальная норма. Она будет сильной, прозрачной и пластичной, как сефардская, лиричной, как ашкеназская, и многозвучной и многокрасочной, как йеменская, но тело, основа, поток, принимающий в себя все прочие потоки, будет и должен быть сефардским, нашим произношением, на котором выражает себя трудящееся и творящее поколение, потому что из нас выйдет народ.
А когда и кто начнет строительство этого нового произношения? Я все еще верю, что это сделают наши великие поэты, после того как обживутся в Эрец Исраэль, потому что это их роль, потому что это их национальный долг: они должны создать для нас другое произношение, национальное, подобно тому, как из разных языков – языка Библии, агады и т. д. – был создан один язык, понятный всем. И давайте не перекладывать это на будущие поколения. Мы живем в эпоху всеобщей переплавки, в эпоху переоформления мира. В пылу наших дней создаются ценности, которые целые поколения не могли бы создать в другую эпоху.
А пока что в нашем языке укореняется искажение. На наших глазах делается большая культурная работа. Огромные суммы пожертвовали народные филантропы, люди умелые и талантливые трудятся во всю силу. В Америке переводят на иврит Лонгфелло, Шелли, классиков мировой поэзии, и глубокая печаль приходит в сердце: ведь все это не для нас. Шелли, который весь – благозвучие и музыка, предстанет перед нами, носителями разговорного языка, как убогий заика! Единственная ласточка, залетевшая до сих пор на нашу улицу, это сделанный Жаботинским перевод «Nevermore» Эдгара По. Но с тех пор прошли годы, а вторая ласточка так и не появилась. Вместо этого продолжают прилежно переводить гениев поэзии на искаженное произношение. А каков результат всего этого сизифова труда? От всех этих произведений, созданных из неустойчивого материала? Для кого они? Неужели талантливые люди избавлены от заботы об этом? Неужели оправданием всего этого труда служит сомнительное, временное, преходящее большинство, использующее это искаженное произношение? Коли так, где же здоровое чутье сидящих в Изгнании, да и молодых стихотворцев, растущих здесь, у нас, в Эрец Исраэль? Они тоже ничему не научились и ничего не усвоили. И они продолжают идти по той же протоптанной тропинке!..
Для оздоровления души народа, для преодоления разрыва нам необходимо во всем укрепление изнутри, и вот наш лозунг на сегодняшний день: Концентрация всего, что создается нацией, в одном языке и в одном произношении. А посему мы нуждаемся сейчас в переводах А. Рейзена и Мориса Розенфельда[134]134
Американские идишские пролетарские поэты.
[Закрыть], пожалуй, больше, чем в переводах Шелли и Лонгфелло.
Дай Бог, чтобы на наше произношение были переведены также и Шнеур, и Черниховский, и Бялик!..
Наши предки сразу же после Изгнания из Эрец Исраэль, когда ее аромат и святость еще сопровождали их, были решительнее. Что они сделали? «Немедля встали все, посоветовались и повесили свои арфы на вербы, стоявшие там, и смирили души свои и заткнули уста свои руками и раздробили их и прикусили их». Сказано: «Как нам петь песнь Господню на земле чужой». Но поколения, пришедшие за ними, не выполнили клятвы своих предков; скорбь скитаний на чужбине, воспоминания о прошлом и тоска по родине требовали своего выражения, но они не могли больше петь под мощно натянутые струны древних арф, руки их были раздроблены, а пальцы откушены. Что же они сделали? Посоветовались и ослабили эти струны и перестроили их по пониманию Изгнания…
А теперь нам следует натянуть заново струны арфы, как в древности. Ибо наши руки обрели силу от работы, укрепились и вернулись к мощи своей руки трудящегося в Эрец Исраэль!
* * *
Вот что хотелось мне сказать о долге и о талантах. А кто же, коли так, сделает всю работу по строительству? Да мы все, трудящиеся-живущие-говорящие. Правда, введение единого языка и единого правильного произношения требует радикальных целенаправленных действий одного верховного учреждения, избранного Всемирным еврейским конгрессом, который будет заседать еще при нашей жизни. У этого синедриона, место которому – здесь, в Эрец Исраэль, будут полномочия и средства, которые сделают его законы и предписания обязательными во всех школах Изгнания и Эрец Исраэль. Учебники, словари и энциклопедии, которые будут им издаваться, научат народ разговаривать.
А если он заговорит, он выразит себя.
Рафах, сентябрь 1919 г.
Часть IV
МНОГОЯЗЫЧИЕ
Многоязычие, бьющее через край
В ходе своей истории евреи обычно были многоязычным народом – мультилингвизм был реальностью их жизни и частью самосознания. Их история представляла собой постоянное движение крошечного еврейского меньшинства из одной страны и культуры в другую с многоязычным корпусом текстов, которые они несли за собой. Чтобы понять еврейское многоязычие в Восточной Европе, нужно принимать во внимание как природу еврейской истории и его неотъемлемую часть – миф о собственных истоках, так и исключительную историческую ситуацию, в которой оказались евреи Восточной Европы в XVIII–XX вв.
Ивритоязычный прозаик Амос Оз, родившийся в Иерусалиме, так описывал своих польско-русских еврейских родителей:
Отец читал на шестнадцати или семнадцати языках и говорил на одиннадцати (на всех – с русским акцентом). Мать говорила на четырех или пяти языках и читала на семи или восьми. Если они хотели, чтобы я их не понял, то говорили друг с другом по-русски или по-польски. (Они довольно часто хотели, чтобы я их не понимал.) <…> Основываясь на своих представлениях о культурных ценностях, книги они читали главным образом на немецком и английском, а сны, приходившие к ним по ночам, наверняка видели на идише. Но меня они учили только ивриту: возможно, из опасения, что знание языков сделает меня беззащитным перед соблазнами Европы, такой великолепной и такой убийственно опасной.
(Перев. В. Радуцкого)
Возрождение иврита было единственным способом отринуть диаспорное существование и его важный признак – многоязычие.
Многоязычие процветало среди первого поколения евреев, приехавших из Восточной Европы, порвавших с местечковым бытом штетла, переселившихся в города и эмигрировавших на Запад, в Америку или в Палестину. Оно было движущей силой еврейской революции нового времени, глобальной трансформации, которую претерпели евреи этого периода, – изменилось их географическое и историческое пространство, языки, образование, профессии, поведение и сознание.
Люди этой эпохи обычно использовали пять-семь языков, а в отдельных случаях – тринадцать или пятнадцать. Стандартный набор включал идиш и иврит, польский и русский, немецкий, возможно, французский и новый мировой язык – английский. Те, кто посещали иешиву или имели частных учителей по еврейским дисциплинам, могли читать по-арамейски; учащиеся классических гимназий знали древнегреческий и латынь. Это уже десять языков. В отдельных случаях добавлялись и другие языки, например литовский (Лея Гольдберг, Эммануэль Левинас), итальянский (Владимир Жаботинский, Лея Гольдберг) или чешский (мать Оза, учившаяся в Праге, должна была владеть им). Эмигрировавшие в Южную Америку овладевали испанским или португальским, владение двумя разными славянскими языками (польским и русским) облегчало чтение украинской поэзии, а в Палестине многие евреи учили арабский. Мы не знаем точно, на каких «десяти языках» мог читать стихи отец Оза, но даже если это преувеличение, мультилингвы должны были иметь некоторое представление о грамматике, словаре и поэзии на нескольких языках, принадлежащих как минимум к трем языковым группам (германской, славянской, семитской, романской).
Этот феномен относился не только к интеллектуалам: «средний» дедушка в Нью-Йорке, Ленинграде или Тель-Авиве знал, по крайней мере, идиш и некоторые из языков, являющихся его компонентами: иврит, русский, польский, немецкий, а может быть (зависит от жизненного пути), и «эмигрантский» английский. Многие евреи того поколения родились в черте оседлости до революции 1917 г., переехали в восточноевропейский город (Москву, Санкт-Петербург, Вильну, Варшаву, Одессу), эмигрировали в Германию, потом во Францию, потом в Америку, в промежутке попробовав себя в Палестине. Некоторые уезжали с Украины в Соединенные Штаты, в Канаду или Аргентину, возвращались на советский Дальний Восток строить еврейское государство в Биробиджане, потом ехали в Москву, а иногда в Израиль. Пути других заканчивались в Южной Америке, Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии, Узбекистане.
Сол Беллоу, чьи родители иммигрировали из Восточной Европы во Французскую Канаду, а потом в Чикаго, рассказывал похожую историю:
Мы, дети иммигрантов, говорили на множестве языков и получали от этого удовольствие. Нас готовили и обучали отвечать на вопросы на полудюжине наречий. Старшие дети еще не забыли русский, все говорили на идише. А в три года меня послали к господину Штейну, жившему через дорогу, изучать иврит. До того времени я и не подозревал о существовании языков. Но вскоре я выучил, что в начале сотворил Бог. <…> И он не хотел, чтобы все человечество говорило на одном языке, это было слишком опасно. «Для них не будет ничего недоступного, ничего из того, что они могут вообразить себе» [объяснял рабби Штейн].
(Филип Рот, «У меня есть план!», «Нью-Йоркер», 25 апреля 2005 г., с. 75)
В средневековой Европе существовал тот же феномен, хотя и в меньшем масштабе. То ли из-за преследований и изгнания, то ли в погоне за новыми возможностями и из-за отсутствия «корней», евреи страдали от того, что сами называли «шпилькес» («булавки» или «иголки» на идише; буквально «шило в заднице») и не могли надолго оставаться на одном месте, постоянно путешествуя по регионам и языкам. Само их существование в христианском мире определялось религиозной оппозицией: евреи – христиане. Благодаря этому они приобрели критическую перспективу, характеризующуюся бикультурализмом и билингвизмом, а также ощущение культурного релятивизма, изменчивости и иронии. Обычно евреи занимались обменом товарами (торговлей), знаками (языками) и знаками товаров (деньгами). В XX столетии, веке социальных наук, евреев было много среди американских лауреатов Нобелевской премии по экономике, а также среди выдающихся деятелей теоретической лингвистики и антропологии: Бреаль (основатель семантики), Дюркгейм, Леви-Брюль, Леви-Стросс, Фрейд, Боас, Сапир, Блумфилд, Якобсон, Хомски, Лакофф, Деррида – все они родились в языковом пограничье.