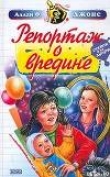Текст книги "Девственницы"
Автор книги: Банни Гуджон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Вглядевшись, он узнал Тот Томпсон, дочку их ближайших соседей.
– Почему ты называешь меня Морским ангелом? – спросил он, облокачиваясь о покосившуюся кирпичную кладку моста.
Тот перевернула туфлю, поставила ее на камешки и вернулась к своему сачку и каналу, где кишмя кишели гольяны и колюшки.
– У папы была рыбка, похожая на вас. Ну, немножко похожая. – Ее босая нога в грязной воде казалась почти прозрачной. – Хотите «хубба-буббы»? – спросила она, протягивая ему пакетик жвачки.
Он покачал головой.
Девочка пожала плечами и сунула в рот розовую подушечку.
– Папа сказал, у вас был большой завод, но вы потеряли все деньги в налоговом управлении. Потому-то вы теперь и живете рядом с нами. Вы играете на своем пианино?
«Интересно, – подумал он, – откуда она знает про пианино?»
– Я видела, как грузчики его вносили. – Тот взмахнула сачком, оттуда вылетели клубки водорослей и исчезли на противоположном берегу. – Видите, как далеко! Ужас как далеко! – Она вынула ногу из воды, вытерла о сброшенный жакет и сунула в матерчатую туфельку, стоявшую рядом. Взяла банку и посмотрела через стекло. – Семь, – подсчитала она, обвязывая горлышко банки бечевкой. – Вы сюда каждую субботу приходите? – Она снова пересчитала рыбок; губы ее беззвучно шевелились.
– Нет, – ответил Джеральд. – То есть да. Не совсем сюда. Кое-куда еще.
– Раньше я по субботам каталась верхом, но сейчас бросила. Ненадолго. – Тот встала и стряхнула мелкий камешек с коленки. – Вы умеете хранить тайну? – спросила она, натягивая розовую курточку.
Джеральд взял сачок и стал рассматривать – нет ли дыр между нейлоновыми нитями.
– О да, я очень хорошо умею хранить тайны. – Он протянул ей сачок. – Хороший сачок.
– Знаю, – кивнула девочка, пристраивая сачок на плечо. – Можно купить подешевле, но Дороти говорит, если уж что-то делать, то хорошо. А я не могу хорошо рыбачить паршивым сачком.
– Кто такая Дороти?
– Моя сестра. Она герлскаут, а они все знают о таких вещах… о птицах, о шитье и все такое. – Тот подтянула носки и одернула юбку. – Хотите узнать мою тайну? – спросила она.
– Ну давай.
– Папа собирается бросить нас и уехать в Америку. Он сказал, что пришлет мне снежный шар, и просил ничего не говорить маме, но я заключила сделку с Богом, чтобы он не ехал.
Джеральд чувствовал, как сырость от кирпичной кладки проникает через его тонкую куртку. Он кашлянул.
– Мм… Если это такая важная тайна, может, мы пересядем вон на ту лавку?
Девочка кивнула, и они вдвоем вышли из-под моста и сели на деревянную скамью. Она продолжила:
– Я сказала: раз он любит детей и хочет, чтобы они все превратились в солнечные лучи, я буду солнечным лучом, если он помешает папе ехать в Америку играть на трубе. – Тот почесала засохшую болячку на колене. – Но Лилли О’Фланнери говорит, что Бога нельзя о чем-то просить прямо. Надо что-то пообещать в ответ. Она рассказала мне о женщинах-святых, как они приносили жертву во имя веры, и все такое. Вроде того, что им забивали гвозди в уши или заставляли делать то, что они умели, например играть на арфе, но вечно. – Она отколупнула корочку от болячки и бросила ее на землю. – Я только и умею хорошо, что ловить рыбу, а Бог ведь любит рыбу, да?
Джеральд покачал головой:
– Видимо, я чего-то не понял.
– Как же! Ну, помните, рыбы и хлеба? В общем, я заключила сделку и сказала, что буду семь суббот ловить по семь колюшек и принесу их в жертву Богу, если он не даст папе уехать в Америку.
– Принесешь в жертву?
Тот наморщила нос.
– Ага, это вообще-то противно. Я собираюсь раздавить их кирпичом.
Джеральд вздрогнул.
– Как вы думаете, поможет?
– Не знаю.
– Никому не говорите, ладно? Ничего не получится, если тайна перестанет быть тайной.
Он кивнул.
Тот встала, взяла банку с колюшками и побрела по тропинке. Вдруг она остановилась и обернулась.
– Вы играете на своем пианино? – спросила она.
– Нет, – ответил Джеральд. – Я не умею.
– Извините, конечно, – сказала она, – но, по-моему, это ужасно глупо… когда у тебя есть пианино, не играть на нем. – Она переложила сачок на другое плечо. – Если хотите, могу научить. Я умею играть «Тати-Тати».
Он посмотрел на девочку, стоящую на дорожке. С сачка на ее плече капала вода, тянулись нити водорослей. Она и семь колюшек ждали ответа.
– Я с удовольствием, – сказал он. – Спасибо.
Тот передернула плечиками и выдула большой розовый пузырь.
– Вот и отлично, мистер Морской ангел. – Она снова отвернулась и зашагала по дорожке, неся своих рыбок. – Не стоит благодарности.
Весна 1972
Владелец палаточного лагеря называет меня «Сокровище» и каждое утро, когда мы идем на пляж, дарит мне коробочку драже в шоколаде. Я дожидаюсь, пока не покажутся дюны, и только тогда вскрываю коробку пальцем, вытаскиваю драже и кладу в рот. Их нельзя грызть. Их надо рассасывать.
Внутри одних драже апельсиновый крем, в других – кукурузная крошка. Но в некоторых – их немного – внутри мята. Если мне достается мятное драже, я выплевываю его обратно в коробку.
Когда мама и папа спят, а Дороти читает свои журналы, я выкапываю в песке БОЛЬШУЮ яму. Потом залезаю в нее и зарываюсь в песок. Не совсем, потому что можно задохнуться; я оставляю снаружи голову и руку.
Когда вокруг только волны, чайки и папин храп, я закрываю глаза и жду. Жду, пока волосы не закипают и веки не начинают светиться. Тогда я засовываю в рот мятные драже. Все сразу.
Слушать волны и сосать пригоршню мятных драже – это что-то. Не знаю, как назвать. Просто это что-то… небывалое.
Матч
У Тот Томпсон бывали припадки. Не серьезные, большие эпилептические припадки, а тихие. Иногда детям казалось, будто она просто о чем-то задумалась. До того как они узнали про припадки, они трясли ее и дули ей в глаза. Они думали, что Тот просто со странностями. Но потом ее мама всех просветила.
– У Тот припадки, – объяснила она. – Их не надо бояться, но вы должны прибежать и привести меня или ее отца, если вам кажется, что у нее началось.
Многие дети посчитали Тот источником неприятностей, обузой и стали относиться к ней так, словно она была стеклянная.
Ее жизнь превратилась в настоящий кошмар. Бывало, Тот наблюдала за муравьями под живой изгородью или тихо лежала в траве и слушала червяков, а кто – то бежал к ее родителям, и ее поднимали на ноги и осматривали, ища признаки припадка. Поэтому она научилась все время тихо гудеть себе под нос. И еще она все время улыбалась, рассудив, что людям, у которых припадок, вряд ли весело. Вроде бы все наладилось.
Тот тыкала прутиком в окурок, валявшийся в сточной канаве, и мурлыкала себе под нос марш из спортивной передачи «Матч дня» – просто так, чтобы все знали, что у нее нет припадка. Рядом с ней на тротуаре сидел Симус О’Фланнери, умственно отсталый мальчик из тупика Стэнли. Ему было двенадцать; он был слишком большой, чтобы играть с ней, но она не возражала против того, чтобы он сидел здесь. Тот нравилось слушать, как он дышит. Как будто ему нужно продуть нос. Когда он волновался или злился, он тявкал, как гончая Дипенсов.
Как холодно! Скорее бы два капитана подобрали себе команды. Она застегнула розовую курточку, новую, с вышитыми птичками, и натянула капюшон. Брат Симуса, Майкл, совещался с Найджелом Дипенсом – ясное дело, они решали, кому на какой половине поля играть. Стайка мальчишек слонялась вокруг телеграфного столба на краю лужайки; у всех был нарочито равнодушный вид, как будто им все равно, кого выберут первым… или последним. Майкл крепко сжимал под мышкой футбольный мяч, «Адидас Телстар». Мяч был его собственностью; все, кто хоть сколько-нибудь разбирался в футбольных правилах, понимали, что Майкл имеет право выбирать первым.
Тот хорошо играла в футбол. Она не била по мячу пальцами ног, как другие девчонки. У нее был сильный удар, и отец говорил, что у нее хороший глазомер. Она надеялась, что ее выберут не последней. Она очень надеялась, что ее выберут не после Симуса.
Мой брат Майкл – суперзвезда, у него самый лучший футбольный мяч в мире. У девочки красивые птички на рукавах. Они летают на розовом фоне, но не поют. Зеленые птички с желтыми клювами плывут у нее на руках. Я хочу есть. Свой завтрак я скормил птичке, нарисованной на салфетке. Я всегда кормлю эту птичку, потому что у нее нет ног. Безногие птички не могут поймать червей. Они непроворные. У нее птички на рукавах, и на спине тоже есть большая птица. Это птица из моей книги. Она вылетела из книги и приземлилась на ее куртке. Надеюсь, она вернется. Она должна вернуться, иначе словам будет одиноко и придется говорить о чем-то другом – о другом звере. О собаке. Собаке с клыками. Мне нельзя завести собаку. Мама говорит, чтобы завести собаку, нужно разрешение, а ей хватает и того, что она присматривает за умственно неполноценным. Ей не нужна собачья шерсть на ковре. У меня белые волосы, как у Иисуса на распятии в церкви возле нашей школы. Человек в лиловом говорит, что Иисус любит меня и знает о каждом воробье. У нее на рукавах не воробушки. Ее птички зеленые, а воробьи грязные. У Майкла самый лучший футбольный мяч на свете.
Тот встала, стряхнула сор холодного тротуара и вытянула из живой изгороди длинную ветку бирючины. Сорвала все листья и свернула ветку в петлю. Она не сводила глаз с мальчишек на лужайке.
– Я беру Крэга, – сказал Майкл, и Крэг вышел из стайки мальчишек, расправив костлявые плечи. Улыбка на его лице была шире церковных врат.
Найджел лягнул траву и оглядел остальных:
– Тогда я беру Кенни!
Кенни тоже заулыбался и встал рядом с Найджелом.
Тот наблюдала за ними. Всегда одно и то же. Крэга и Кенни всегда выбирают первыми. Они самые рослые, а Крэг иногда таскает у отца непристойные журналы. Ей хотелось, чтобы Найджел выбрал ее. Она успела подготовиться: целовала себя в руку в спальне и училась вести мяч на заднем дворе. Ей хорошо удавалось и то и другое, хотя, чтобы удержать мяч, надо еще постараться. Зато поцелуи – то что надо. Не слишком мокрые, и еще она научилась не чмокать. Только никаких языков! Ни в коем случае. Она слышала, как Лилли поучала Дороти: что-то надо оставлять и на потом. Тот не очень понимала, что такое «на потом» и как ей удастся совместить футбол с поцелуями, но точно знала: если Найджел выберет ее в свою команду, она что-нибудь придумает. Он будет ошарашен. Отличный игрок и прекрасно целуется к тому же! Все, что ему нужно, – выбрать ее.
Она пробежала языком по зубам, чтобы убедиться, что Припадок-Упадок не придет. Упадком Тот называла припадок, потому что иногда падала. Мама рассказывала ей, как опасно эпилептикам кататься на велосипеде или на карусели, да еще если сосать при этом леденец, но Тот ей не очень-то верила. Припадок-Упадок, или Припадок-Говнопадок, как она говорила дома, был просто хулиган из тех, которые иногда приходят и всем мешают. Она представляла его в виде человека – шведа или норвежца. Но не красавца, вроде теннисиста Бьерна Борга, а урода – костлявого мальчишки с остроконечной головой и большими голубыми глазами навыкате. Упадок всегда засовывал ей в рот монетки, прежде чем начинал трясти ее. Едва ощутив во рту металлический привкус, Тот понимала, что Упадок шляется где-то поблизости. Но сейчас все в порядке. Изо рта пахло мятой.
Она побрела вдоль живой изгороди, окаймлявшей все дворики перед входами в дома, поддевая бирючинной петлей паутину, свисавшую среди плотной листвы. Она подняла окутанную паутиной петлю высоко к небу. Нити паутины переливались на солнце.
Мой брат Майкл – король. Мама любит его и всегда кладет в коробку со школьным завтраком шоколадки «Отрыв». Я видел, как она их туда кладет. Мне дают бутерброды с шоколадной пастой и длинные ломти моркови, чтобы зубы были белые. Мама говорит, от морковки я буду видеть в темноте, но не получается. Я по-прежнему не могу видеть насекомых, которые вползают под дверь нашей спальни. Я их слышу. Они складывают уши, и их сухие рты говорят, что мой брат любит меня и что однажды мы все будем жить вместе в большом доме, в городе. Я видел большой город по телевизору. Там яркие огни на цепях, которые висят на верхушках домов. Больших домов, чьи крыши уходят высоко в небо, к звездам. В таких домах сотни спален. Человек в лиловом говорит, в доме Иисуса много комнат. Иисус живет в том городе. Он живет в Манчестере. Мы с Майклом будем жить в одной из тех комнат, и у нас будут домашние любимцы – ягнята и полные карманы маленьких птичек. Они будут сидеть на проволочных плечиках для одежды и откладывать яйца в моем ящике для носков. Птички канарейки и волнистые попугайчики будут петь каждое утро, когда я открываю дверцу и достаю школьную форму. Я буду учиться в городской школе с Майклом, и мы с ним будем столярничать. Мама не разрешает мне столярничать. Брат Дженкинс говорит, я отхвачу себе руку на фиг. Но Майкл меня спасет. Майкл позаботится, чтобы я не отхватил себе руку на фиг.
Она наблюдала за мальчишками на лужайке. Не выбрали только троих: Аллана, Мелвина и Кисала. Аллан и Мелвин проделывали дыры в грязи перочинными ножиками, а Кисал, темнокожий мальчик в коротких штанишках, стоял отдельно от всех. Из кармана у него торчал школьный галстук.
Кисал недавно поселился в тупике Стэнли. Папа сказал Тот, что Кисал – индеец, и потому у него лицо коричневое, как у продавца угля. Другие мальчики его не любили. Тот считала, что они противные, потому что они вечно задирают Кисала и обзывают «грязным пакистанцем» и «черномазым». В конце концов, теперь в тупике Стэнли есть свой собственный индеец. У него нет пегого пони, как у Джеронимо, или головного убора из оленьей шкуры и орлиных перьев, но все равно он индеец.
Интересно, почему он выходит гулять по выходным, сунув школьный галстук в карман? Тот часто думала о Кисале. Интересно, какой у него дом внутри? Его мама никогда не выходила, а по вечерам тупик Стэнли заполняли странные ароматы. Из окна их кухни пахло, как из ресторанчика «Бенгальский тигр», где торгуют навынос. Тот представила себе столовую Пателов. Наверное, там красные с золотом обои, а солонка и перечница в виде маленьких фарфоровых слоников. В углу папа Кисала, наверное, играет на ситаре, как Лаби Сифри,[6] и его музыка несется по переулку вместе с ароматами их ужина.
Майкл выбрал Аллана, и теперь его команда разминалась. Мальчишки сгибали в коленях тощие белые ноги и пасовали мяч. Найджел выбрал Кисала, а Мелвина просто так взял запасным. Мелвин не был хромым. Просто проснулся однажды утром, а ноги не ходят. Тот считала, что потом, летом, они опять начнут ходить. Она однажды на неделю потеряла голос, а потом он вернулся. Папа тогда сказал: какое было счастье, когда она так долго не могла говорить.
– Тот, – сказал Майкл. – Я выбираю Тот.
Вот сволочь! Тот не хотела играть в его команде. Она хотела играть в команде Найджела. Она встала и тщательно вытерла ладошки о перед своих брюк. По крайней мере, ее выбрали перед Симусом.
Он выбрал ее. Мой брат выбрал девочку с птичками на рукавах. Наверное, из-за птичек. Как можно не захотеть выбрать девочку с птичками на рукавах? Я отращиваю перья. У меня есть длинные перья под мышками и между ног. Когда я чешусь, приятно, как будто наступила Пасха. Скоро перья вырастут, и я смогу улететь в большой город. У Майкла есть перья. Я их видел. Черные кудрявые перья, как у дедушкиных бантамских петухов.
– Эй, придурок! Иди сюда. Будешь воротами.
Я не хочу быть воротами. Я хочу быть со своим братом, чтобы мы вдвоем улетели по воздуху в город.
«Интересно, чем занимается этот полоумный?» – думала Тот, наблюдая за тем, как Симус подпрыгивает на тротуаре с выражением крайней сосредоточенности на лице. Найджел отошел к двум кучам курток – воротам своей команды. Судя по выражению его лица, ему противно было находиться на одном поле с Симусом, пусть даже Симус не играет, а просто изображает ворота. Найджел стянул с себя джемпер и кинул поверх остальных вещей. Под джемпером оказалась темно-синяя футболка «Фред Перри». Тот нравилось, как он одевается. Настоящий скинхед. Тот обиделась на маму за то, что та отдала Лилли О’Фланнери шелковую переливчатую юбочку Дороти, из которой сестра уже выросла. Если бы на Тот сегодня была та юбочка, Найджел обязательно взял бы ее в свою команду. Она покрутилась бы перед ним, и он бы совсем обалдел, глядя, как переливается ее крутая скинхедская юбочка: то синяя, то зеленая. Теперь она в команде Майкла, юбку получила Лилли, а Найджел так ничего и не узнает.
– Давай сюда, если играешь! – Майкл стоял на противоположном конце лужайки, уперев кулаки в бедра. – Ты играешь или нет?
Тот встала и передала бирючинную петлю с паутиной Симусу, переставшему подпрыгивать. Он взял петлю; его ладонь, коснувшаяся ее пальцев, была теплая и влажная. Тот поспешно отдернула свою руку и принялась вытирать ее о куртку. Потом посмотрела, как Симус поднес петлю к лицу и сунул нос в паутину. «Вот псих», – подумала она и побрела к своей команде.
Я – умственно отсталый. Слова мне нравятся, но я знаю, что они обозначают что-то плохое. Майкл все время так меня называет; наверное, он думает, что быть умственно отсталым хорошо. Она дала мне что-то мягкое. Девочка с птичками дала мне мягкое, и теперь я вдыхаю это. На петле оно белое, с пауками, но у меня в голове, в моем дыхании оно зеленое, как пламя, если бросить в костер бутылку. У меня в голове зеленое, а когда она потерла птичек на куртке, они пели. Они позвали птичек на рукавах, и они все запели. Отец Джордж показал мне в большой книге картинку со святым Франциском Ассизским. Птички любят его, и все они живут в складках его рукавов. Птички спят в отворотах его коричневых рукавов. Они поют мне, когда солнце ложится спать. Я слышу их с заднего двора. Франциск Ассизский стоит у птичьей кормушки, и они все поют. В городе я куплю себе рубашку «Бен Шерман», как у Майкла, и не буду застегивать манжеты. Я буду брать спящих птичек с карнизов и ставить в садах других умственно отсталых. Я пошлю им музыку. Музыка проникнет сквозь трещины в их оконных рамах, как проникает ко мне.
Кисал отбил мяч головой, и Тот приняла его коленкой и подбросила в воздух, глядя одним глазом на мяч, а другим косясь на Найджела. Он на нее не смотрел, но ведь сейчас идет игра. Два тайма по пятнадцать минут. Может, сделать задний подкат? Тогда Найджел упадет, они покатятся по траве, и она как будто случайно прижмется к нему губами, и они поцелуются. Тогда он поймет, что, несмотря на розовую курточку с дурацкими вышитыми птицами, в душе она – настоящая скинхедка. А может, он даже влюбится в нее. Или нет – она заработает сотрясение мозга, и, поскольку он самый старший на лужайке, ему придется вести ее в больницу и держать за руку. Тот отпасовала мяч Мелвину, который ловко поймал его резиновой втулкой своего деревянного костыля.
Тот едва успела подумать: «Хороший пас!» – как явился Припадок-Упадок. Он вырос перед ней, улыбаясь, и бросил ей в рот пригоршню монет. Ей ничего не оставалось делать, кроме как двигать их языком; каждая монетка наполняла рот металлическим привкусом. Больше она Упадка не видела, но знала, что он где-то рядом. Он то усиливал все звуки, то прикручивал их. Найджел что-то крикнул – а в следующий миг вдруг стал шептать. Наверху, на телеграфном столбе, стайка ласточек закричала на нее, а потом вдруг запела свою песенку так тихо, что она едва могла различать звуки. Она уловила обрывки слов Майкла; тот кричал на Симуса, а придурок снова стал подскакивать на тротуаре. Но он оставался в воздухе слишком долго. Похоже, он возносится, как Иисус… Неожиданно трава перестала быть травой. Мальчики поднимали ноги в море зеленого мыла, и небо начало опускаться. Во рту у нее было полно монеток, и она плыла в зеленом свете травы. Внизу живота стало тепло, и звуки тупика Стэнли стали похожи на звуки вечеринки внизу, когда уже темно, а ты так устала, что не можешь сосредоточиться, и кто-то прикрыл дверь спальни. Она улавливала только некоторые слова, которые с трудом проникали к ней наверх. Слышала, как папа в задней комнате играет на трубе. Видела, как Симус летит по траве. Симус устремляется вниз вместе с ласточками.
Птички умирают! Она давит их, мнет перья о траву. Это не ее птички, она не смеет их давить! Я не могу расстегнуть на ней «молнию». Мама вшила мне в куртку липучки, потому что знает, что я не умею застегивать «молнию», и вот птички перестали петь. Остался только желтый шум из окна семнадцатого дома. Мужчина с золотой штуковиной поет через то окно. Слова говорят, что он может спасти птичек. Он не святой, а папа той девочки – у меня тоже есть папа, но ее папа здесь, а мой в городе. Не в доме, где много комнат, как тот. В котором поселимся мы с Майклом, а в Большом Доме, по-другому его называют «исправительная тюрьма». В Большом Доме нет огней на цепях, но Майкл говорит, что цепи там есть, а мама говорит, что она прикована цепями к человеку в Большом Доме. ЭЙ! ПОСЛУШАЙ! МАЛЕНЬКАЯ ПТИЧКА УМИРАЕТ! Я швыряю эти слова в окно, откуда доносится желтая музыка. ЭЙ! ДЕВОЧКА РАЗДАВИТ ВСЕХ ПТИЧЕК! Найджел орет на меня. Он не знает о мужчине с желтым шумом и о птичках, которые тонут в зеленом море. Эта дверь синяя, и я потерял мою петлю с мягким. Спустись и открой дверь. Расстегни ей куртку и выпусти птичек. Отпусти их.
Тот чувствовала, как намокли брюки. Куртка тоже промокла. Отец расстегнул ей куртку, снял ее и бросил на траву. Он расстелил клетчатое одеяло и, взяв ее на руки, накинул одеяло ей на плечи. Она не могла ни открыть глаза, ни перестать вертеть одной рукой вокруг головы, как флагом. Он прижал ее к груди. Рот ее открывался и закрывался, и вдруг шум прорвался в воздух.
– Я НЕ ИГРАЮ… Я НЕ ИГРАЮ… Я НЕ ИГРАЮ… – повторяла она снова и снова.
Он погладил ее по голове и понес по лужайке к дому номер семнадцать в тупике Стэнли.
Симус шел за ними следом, держа перед собой за рукава ее розовую куртку, как будто она была знаменем или партнершей в танце. Отец Тот остановился у входа в их палисадник, оперся на столб, имитирующий викторианский газовый фонарь, и осторожно покачал дочь на груди. Потом обернулся и посмотрел на мальчика, держащего в руках ее курточку. Он улыбнулся и достал из кармана монетку в пятьдесят пенсов.
– Вот тебе, сынок, за то, что ты меня позвал, – сказал он. – За то, что сбегал за мной.
Симус осторожно перебросил куртку через живую изгородь, взял монету и сунул в карман.
Найджел подбежал к нему сзади и сильно хлопнул по спине.
– Молодец, придурок! – сказал он. – Молодец! – Он повернулся к отцу Тот: – Она поправится, мистер Томпсон?
Тот улыбнулась через плечо отца, а мистер Томпсон кивнул. Симус побежал на лужайку – отдать брату монету. В голове было полно птичек, которые пели «Симус! Симус!» – с бирючинной живой изгороди.
Когда «Блюзовые ноты» выступают в пятницу вечером в «Орле», с нами сидит дядя Эрни. Мама разрешает нам перед сном поиграть в Пушистиков или в спирограф, но мы в них не играем.
Дядя Эрни похож на Трампуса из вестерна «Виргинец». Он не ездит верхом и не носит широкополую шляпу, но ходит как ковбой, и он храбрее всех, кого я знаю. Даже храбрее папы.
Эрни говорит, что Джон Уэйн не играет в Пушистиков. Поэтому он ведет нас на вершину холма за лесом, куда все папы выбрасывают скошенную траву и срезанные ветки. Там высоко, как на крыше нашего сарая, только выше. Трава колючая, как проволока. Иногда, если сильный ветер, я ничего не слышу. Если открыть рот, туда попадает ветер, и мне кажется, будто у меня в груди мчится поезд. Как будто я проглотила Бога.
Дядя Эрни играет в какашечные дротики, но только если мы обещаем никому не рассказывать. Мы с Дороти сидим разинув рты, а он швыряется в нас кроличьими какашками. Та, кто поймает ртом больше, выигрывает. Дороти выплевывает свои, а я набиваю то, что ко мне попало, языком за щеки. Если я выигрываю, дядя Эрни смеется.
Я люблю, когда он смеется. Так смеются люди в телевизоре, но он-то сидит совсем рядом со мной.
Хрустальный дворец
Когда две девочки писали приглашение на чай за пластиковым столом на кухне у Райтов, весь мир гудел и беспокойно колыхался вокруг. Стиральная машина, нагруженная простынями, громыхала и при каждом повороте барабана подскакивала на линолеуме. Роджер, собака Райтов, ворчал и стонал в своем собачьем сне в корзинке под столом; с проволочных плечиков над котлом парового отопления свисал рабочий комбинезон отца Стейси. Капли воды падали на чугунную крышку котла и с шипением испарялись; над дверью черного хода поднималась струйка дыма. В освещенной духовке допекался шоколадный торт; мать Стейси надеялась, что он будет готов задолго до семи вечера, когда в связи с забастовкой отключают электричество. Грохот стиральной машины, с визгом прыгающей по полу кухни, и тиканье таймера на дверце духовки сопровождались барабанной дробью дождя в окно кухни и скрипом карандашей по бумаге.
На полу у котла стояли лучшие ботинки отца Стейси, набитые газетами. Он утром ходил под дождем на профсоюзное собрание, и теперь их надо было высушить. Рядом с ботинками громоздилась коробка с желтыми листовками; они призывали к солидарности с забастовкой шахтеров.
Тот, лучшая подруга Стейси, сидела ближе к стиральной машине. Каждые несколько минут она отпихивала скрипучую машину с верхней загрузкой назад, к раковине, а потом снова принималась за работу. Высунув кончик языка от усердия, она заштриховывала коричневым карандашом пони, которую Стейси нарисовала черным фломастером. Она притоптывала ногой по полу вместе с таймером. На ней были зеленые туфли на платформе, взятые у старшей сестры.
Стейси посмотрела на туфли Тот. Джанин никогда ничего ей не давала поносить.
– Дороти разрешает тебе носить ее вещи? – спросила она.
Тот покачала головой.
– Она убьет тебя, если узнает.
– Не узнает, – ответила Тот. – Я ужасно осторожная.
– Откуда ты знаешь?
Не прекращая рисовать, Тот достала из кармана два целлофановых пакета.
– Я надеваю их на туфли, и на них не попадает ни грязь, ни трава. – Тот откинулась на спинку стула и разгладила лист бумаги, лежащий перед ней на столешнице. – Что мне написать? «Поддержим шахтеров»?
– Нет, – ответила Стейси. – Ничего. Я старше, поэтому я и заполняю середину. – Она взяла резиновую заглавную букву «П» из жестянки, стоявшей перед ней, и сунула в пластмассовое блюдечко с губкой, пропитанной чернилами. Когда литера окрасилась, она приложила ее к бумаге.
Тот соскользнула со стула и исчезла под столом.
– Моя сестра больше ничего не замечает. У нее теперь есть приятель. Он состоит в старшей дружине скаутов. – Голосок ее звучал приглушенно и как будто издалека. – А у тебя есть приятель, Стейси?
– Мне еще не разрешают. Мне всего десять лет. Но если бы у меня даже и был приятель, я бы тебе не сказала. – Она вытерла чернильницу о бумажное полотенце.
Тот вылезла из-под стола.
– Дороти больше не играет со мной, – сказала она, задирая угол клеенчатой скатерти. – Говорит, что я слишком… незрелая.
Стейси подула на бумагу.
– Что такое «незрелая»? – спросила Тот.
– По-моему, это значит, что ты еще маленькая и ничего не понимаешь.
– Мне нравится с тобой играть. Ты мне все рассказываешь.
– Мы не играем, – возразила Стейси. – Я уже большая, чтобы играть с восьмилетками вроде тебя.
– Ты всего на два Рождества, два дня рождения и двое летних каникул старше меня. Ну и… – Тот зажала уголок скатерти в зубах, – чмзйммся?
– Что?
Тот перестала жевать уголок скатерти.
– Чем же мы тогда сейчас занимаемся?
– Мы не играем. Мы поддерживаем шахтеров. – Стейси поднесла свою половинку приглашения к свету.
– А что там написано? Прочти мне.
– Здесь написано: «Стейси Райт и Тот Томпсон приглашают своих мам и пап сегодня выпить чаю в доме Стейси. Будет аварийное освещение и джин-рамми. RSVP».[7]
– Можно взглянуть? – попросила Тот.
Стейси протянула ей приглашение. Тот прочла текст, шевеля губами.
– Ты ничего не написала о шахтерах!
– Нам и не надо. Спереди нарисован пони, а мой папа говорит: «Мало-помалу и выдашь на-гора».
– Ну и что это значит?
– Не знаю, но он всегда так говорит, а потом стучит себя по носу. По-моему, он намекает, что надо быть ловким. В общем, он знает все, что нужно, о забастовке. Если удастся залучить к нам твоих родителей, мой папа им все расскажет о шахтерах.
– Мама говорит, забастовка – ужасный позор, – сказала Тот, возвращая приглашение Стейси.
– Потому что она ничего о ней не знает. Папа ей расскажет, и тогда она разрешит тебе обклеить окна листовками. – Стейси сложила оба листка вместе. – Теперь надо сколоть их посередине, и тогда можешь передать приглашение своей маме.
– Ты неправильно написала слово «сегодня» – «сиводня».
– Знаю. Просто у меня уже не осталось букв «е» и «г», и потом, в Америке все так пишут. – Стейси сложила две половинки листа поровнее.
– А мой папа уезжает…
– Уезжает? Куда? – спросила Стейси.
– Не важно. А что значит RSVP?
– Значит, скажите, придете вы или нет. – Стейси сколола две половинки приглашения степлером и сложила пополам.
– Почему ты просто их не сложила?
– Потому что. Так шикарнее.
Тот спрыгнула со стула и встала у двери в гостиную.
– Можно еще разок туда заглянуть?
– Можно. – Стейси передала ей приглашение и открыла дверь.
Все стекла за раздернутыми занавесками были сплошь облеплены желтыми листовками. Сквозь бумагу комнату освещали последние лучи закатного солнца, отчего гостиная приобрела лимонный оттенок. Девочкам показалось, будто вся комната с дешевой мебелью и истертым ковром превратилась в золотую пещеру, заполненную мягким светом.
– Твоя мама не против того, чтобы заваривать чай на всех в темноте? – спросила Тот. – Моя бы возражала.
– Нет. Мама говорит, нам всем нужно держаться вместе. Как в войну во время налетов.
– А твой папа умеет налаживать освещение?
– Мой папа все умеет.
В гостиной Райтов было темно. Послеполуденный моросящий дождик сменился настоящим потопом, который, казалось, только и ждал вечера. Желтые листовки – слова изнутри читались наоборот – больше не отбрасывали золотого отблеска. Теперь единственным источником света была шипящая газовая горелка и сорокаваттная лампочка в торшере за отцовским креслом.
Ее отец здорово разбирался в освещении. Сколько Стейси себя помнила, он все время требовал, чтобы они выключали свет и экономили электричество. Но с тех пор как шахтеры объявили забастовку, отец, наоборот, начал советовать всем, кого видел, включать побольше света. Он внушал это и рассыльному, и сборщику квартплаты, и продавцу в кондитерской. Всем, кого встречал. Сказал, что надо устроить сбой в государственной энергетической системе. Но когда Стейси, наслушавшись отцовских призывов, прошлась по дому и включила весь свет, он велел ей снова выключить.