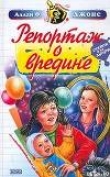Текст книги "Девственницы"
Автор книги: Банни Гуджон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Б. А. Гуджон
ДЕВСТВЕННИЦЫ
Зима 1971
Мой первый снежный шар был с единорогом. На подставке золотыми буквами было написано: «Из Рамсгейта с пожеланием удачи». Его у меня больше нет. Дороти вылила из него воду.
Но у меня осталось еще двенадцать. Семь стоят у меня в спальне на подоконнике, а пять – на полке над кроватью. Там я держу свои любимые. Но шар с надписью «Иисус в пустыне» я хочу подарить сестре. В нем снег желтого цвета.
Моя сестра говорит, что снежные шары – просто всякие предметы в стекле, но она ошибается. Внутри снежного шара заключен целый мир, который можно встряхнуть. В шар можно посадить маленьких зверюшек – скажем, белочек. Или поместить что-нибудь большое – как дворец Тадж-Махал. Тадж-Махал в Индии, откуда родом Кисал.
Пока шар не встряхнули, все спокойно. Снежинки лежат на плоских подставках в специальных углублениях – как в том шаре с оленем. Видите? Подставка у него между рогами. И на копытах. Там всегда Рождество.
На снежных шарах можно гадать. Можно взять шар с Бленхеймским дворцом, закрыть глаза и крикнуть: «Крыша!» Если снежинки упадут на башенки, твое желание сбудется. Только их должно быть много – чтобы закрывали розовую черепицу толстым слоем. Примерно с ноготь – если бы можно было сунуть туда палец.
Второй раз встряхивать нельзя – не считается.
Папа собирается посадить в такой шар Диззи.[1] Он наверняка уместит там весь Новый Орлеан.
«Мертвая нота»
Данный прием называется «мертвой нотой». Для извлечения «мертвой ноты» необходимо увеличить напор воздуха и почти закрыть языком чашку мундштука, оставив очень узкую губную щель. В результате кажется, будто нота исчезла. Она была, несомненно, была, но исчезла – как по волшебству. Так исчезает голубь, завязанный в полотняный платок.
Аж. Т. Паркер
Дональд Томпсон, весь красный – в красных кальсонах и нижней рубашке, – бросил свежевыстиранный комбинезон на тахту и вынул трубу из раскрытого футляра. Приложил язык к медному мундштуку и, наслаждаясь металлическим вкусом во рту, пробежал пальцами по вентилям; он не упражнялся в полном смысле слова, просто позволил себе радость проиграть отрывок из «Бразильского агата».
– Так делал Диззи, – обратился он к толстяку в высоком зеркале. – Диззи любил «мертвые ноты» и исполнял их так, что смягчал сердца.
Он сделал вдох, взял ноту и попытался перекрыть поток воздуха языком. У него почти получилась «мертвая нота» – нота, которой вроде как и нет. Дональд снова набрал в легкие воздух, исполнил вступление к «Никто не знает» и положил трубу на кровать; медные вентили проваливались в петли вязаного покрывала. Потом он вытащил из футляра мятое письмо, присланное из-за океана, и перечел его. Вдруг в платяном шкафу кто-то чихнул. Дональд положил письмо и распахнул дверцу. В шкафу сидела его дочь.
– Малышка! – сказал он. – Что ты здесь делаешь?
Восьмилетнюю Тот Томпсон почти не было видно за длинными платьями. Маленькие красные туфельки с квадратными мысками терялись среди выходных туфель на высоких каблуках и заляпанных краской рабочих ботинок. Тот была маленькой, тщедушной девочкой с копной кудряшек морковного цвета. Ее волосы закручивались колечками прямо от кожи черепа, как на клоунском парике. Девочка сидела зажмурившись; тонкие белые ручки дрожали в воздухе, как будто она играла на невидимом пианино.
Дональд улыбнулся и снова взял трубу.
– Дамы и господа, сегодня соло на трубе исполняет Дональд Томпсон, а аккомпанирует ему… – он махнул рукой в сторону платяного шкафа, – единственный и неповторимый… Стиви Уандер![2] – Он приложил трубу к губам и начал с того места, где остановился.
По комнате поплыли рвущие душу звуки классического блюза. Деревья за окном сочувственно махали голыми ветками в такт печальной музыке; на карнизе местного общественного центра расселись ласточки. Дональд посмотрел в зеркало – из-за дверцы шкафа виднелись ручки Тот. Они заплясали в воздухе, исполняя немыслимые пассажи. «Как хорошо! – подумалось ему. – Как будто на всем свете есть только я, птицы и самая славная маленькая пианистка в Бишопс-Крофт».
В комнату с грудой выстиранного белья вошла его жена.
– Опоздаешь, – заметила она. – Комбинезон надевать собираешься? – Жена бросила всю кучу на кровать и принялась раскладывать на две кучки: «его» и «ее».
– У меня еще есть пять минут, – сказал он, полируя раструб трубы подолом рубахи. – Даже успею проводить Тот в школу.
– А вот у меня нет ни одной свободной минутки! – Жена схватила свои чистые трусики и бюстгальтеры; каждая вещица – пена дешевых кружев и атласные ленты. – Кажется, у всех вокруг куча свободного времени. Кроме меня, конечно. – Жена привычным движением открыла шкаф коленом, так как ее руки были заняты бельем.
Тот по-прежнему сидела в груде обуви; ее ручки по-прежнему порхали в воздухе. Но высокие каблуки лаковых вечерних туфель стояли в лужице мочи.
– Дональд, да прекрати ты, ради бога! – закричала Элейн. – У нее опять припадок! Тебе ничего доверить нельзя, даже присмотреть за собственным ребенком!
Она подхватила дочь на руки и бросилась в ванную; ворох трусиков и ночных сорочек полетел на пол. Дональд, опустив трубу, посмотрелся в зеркало и покачал головой своему отражению.
– Я думал, она изображает Стиви, – сказал он. – Слышишь, Элейн? – крикнул он через всю квартиру. – Я думал, она изображает Стиви Уандера!
Ответом ему был шум льющейся воды.
Дональд положил трубу на тахту и взял синий саржевый комбинезон. Влез в штанины, с трудом натянул комбинезон на круглый живот, застегнул пуговицы. Подушечки пальцев цепляли волокна ткани; кожа на пальцах огрубела и посинела от краски, въевшейся в кожу за долгие годы работы в типографии. Краем глаза он уловил какое-то движение. Из открытого шкафа выпрыгнул кролик, домашний любимец Тот, и поскакал по сиреневому ковру. Дональд попытался схватить зверька, но кролик оказался проворнее. Он сбежал, оставив на кружевных жениных трусиках кучку помета.
Дональд открыл кожаный футляр и придвинул его к себе, на мягкую банкетку. Допил остатки виски, погонял по стенкам бокала кубик льда. Неплохо они отыграли. «Блюзовые ноты» – он на трубе, Кен на ударных, Джимми на саксе и Кэрол, вокалистка, – сет получился что надо. Они начали со своих любимых старых композиций и закончили попурри из классического регтайма.
Кен на кухне улаживает с владельцем паба вопрос о гонораре, а Кэрол с Джимми сидят за стойкой и болтают с барменшей. На скамейке, у мишени для игры в дартс, валяется соломенная шляпа Джимми. Надо бы обсудить с Джимми вопрос о шляпе, пока Кен делит деньги. В конце концов, завсегдатаи ходят в «Орел» специально для того, чтобы послушать классический джаз; они вправе ожидать, что музыканты будут в канотье и полосатых блейзерах.
Дональд окинул взглядом Кэрол, сидевшую к нему спиной. На ней было черное облегающее платье; в волосах – длинное ярко-синее перо. Пожалуй, для дневного времени слишком экстравагантно. Кэрол пришла в «Блюзовые ноты» последней, месяц назад. Когда он заикнулся о ее манере одеваться, Кэрол тряхнула густыми светлыми кудряшками.
– Я не такая, как вы все. Я хочу добиться успеха! – объяснила она. – Никогда не знаешь, кто окажется в публике, Донни. На всякий случай надо всегда быть готовой к неожиданным поворотам судьбы!
Он проводил с ней собеседование у себя в столовой; Кэрол заявила, что хочет прославиться до того, как ей стукнет тридцать, и уехать из Англии. Может, ей удастся поехать на гастроли в Вегас с оркестром. Жена Дональда, Элейн, тогда заваривала чай и подслушивала. Потом Элейн заметила: если Кэрол сейчас всего двадцать с чем-то, как она говорит, значит, она прожила нелегкую жизнь. Но Дональд считал: не важно, сколько Кэрол лет на самом деле, голос у нее – закачаешься.
Иногда, когда ее голос и его труба пели в унисон, у него внутри все сжималось. Подобное ощущение возникало у него в детстве, когда он раскачивался над рекой на автомобильной покрышке. В самой верхней точке он словно замирал – а через миг камнем летел вниз, к воде. Переживания из детских лет пробуждали ее голос и его труба. Дональд вспоминал воду и небо. Затянувшийся миг казался волшебством, как будто рядом присутствовало нечто или некто – нечто совершенное, наполненное светом.
Он не рассказывал Кэрол о своих ощущениях, потому что ведь дело было вовсе не в ней. И даже не в нем. Дело было в том, что она попадала в ноты, и его труба подлаживалась к ней. Волшебство – другого слова просто не придумать.
Он отвернул мундштук и убрал в кожаный мешочек, затем осторожно уложил в футляр трубу. Потертый розовато-лиловый атлас ласкал тускло мерцающие медные вентили и раструб. Концерт окончен; впереди очередная неделя, которую придется посвятить семье и работе.
Дональд и Элейн переехали в тупик Стэнли в 1965 году. После рождения второй дочери Тот их двухкомнатная квартирка в Харлоу стала тесновата, и Элейн удалось обменять ее на муниципальное жилье в поселке Бишопс-Крофт. Тогда Тот было около года, а Дороти – около семи. Весь первый год Элейн разрабатывала дизайн их жилища и подбирала цвета. От бесплатных обоев, предложенных муниципальным советом, она отказалась. Заявила, что не выносит бамбук и китайские пагоды. Она заставила его выкинуть старые фанерные кухонные шкафчики и заменить их настоящей мебелью из массива дерева от Джона Льюиса. Дональд говорил: члены муниципального совета с них кожу сдерут, если узнают об их своеволии. Тем не менее он поступил как она велела.
Последние семь лет были трудными. Соседки не любили Элейн, потому что она, по их мнению, «задирала нос». А его, Дональда, мужчины считали подкаблучником и потому презирали. Элейн неприязнь соседей не задевала. Вот если бы жители тупика Стэнли полюбили их всей душой, сказала она мужу, их отношение стало бы верным признаком, что Томпсоны что-то делают не так. И потом, добавила она тогда, вряд ли они задержатся здесь надолго…
Прожив в тупике Стэнли семь лет, Дональд часто жалел о том, что так и не подружился с соседями. Приятно было бы поболтать с другими обитателями тупика Стэнли за пивом, посплетничать о женах, о футболе. Но такого ни разу не было. Соседи улыбались и кивали ему, подстригая живые изгороди или скашивая газон, но никогда не разговаривали с ним по-дружески. Единственные, с кем они как-то общались, были Дипенсы – главным образом потому, что Джимми играл на саксофоне в «Блюзовых нотах». И все равно соседи считали их чужаками из-за того, что Элейн любила наряжаться и прихорашиваться. Впрочем, сейчас Дональду было уже все равно – он долго вынашивал свой замысел и, наконец, созрел.
Дональд наблюдал за Джимми. Допив пиво, тот уложил саксофон в пластиковый чемоданчик. По пути домой он расскажет Джимми о письме из Америки. Но сначала он немного пошутит. Расскажет Джимми о том, как носят соломенные канотье на Бурбон-стрит, главной улице Французского квартала в Новом Орлеане. Он мелкими глоточками пил виски, предвкушая, как расскажет неопытному Джимми о своем небывалом успехе.
Бар опустел; завсегдатаи, наконец, допили то, что у них было, и разошлись по домам. Кэрол по-прежнему болтала с барменшей, а Кена нигде не было видно. Дональд носовым платком стряхивал пыль с раскрытого футляра, когда кто-то тронул его за плечо. Обернувшись, он увидел Джимми.
– Мне нелегко говорить тебе, Дон, – промямлил Джимми, перекладывая чемоданчик с саксофоном из одной руки в другую, – но я выхожу из игры. Завязываю.
Дональд шумно захлопнул крышку футляра.
– С чем завязываешь, Джим? – спросил он с улыбкой. – С пивом? Кэти заставила тебя дать письменное обещание?
– Нет. – Джимми смотрел себе под ноги. – Я ухожу из группы. Хватит с меня таких воскресных забав. Я продаю саксофон. Вернее, меняю.
– Меняешь? – переспросил Дональд. – На что, ради всего святого?
– На набор клюшек. Мы с женой займемся гольфом. Ей надоело, что меня постоянно не бывает дома; то я репетирую, то играю. Каждое воскресенье пропадаю здесь. А сейчас, после того, как меня повысили… В общем, Кэти считает, что гольф поможет мне сделать карьеру и выбиться в люди.
Дональд потряс головой, как будто в уши ему попала вода.
– Джим, не позволяй жене вертеть собой, – сказал он. – Пусть она сама играет в гольф, если ей так хочется. Пусть возит детей кататься на пони к Бреконским сигнальным огням,[3] будь они неладны. Только не бросай ради нее музыку! Музыка… это… все.
Джимми присел на лавку напротив и принялся пальцем размазывать по столешнице пролитое пиво.
– Нет, нет, Дон, не могу. Я с ней согласен. – Он посмотрел на Дональда тяжелым взглядом. – Пора мне двигаться наверх.
– Но музыка и есть наш путь наверх! Сколько вечеров мы с тобой толковали об этом, вспомни, Джим! Новый Орлеан! Бурбон-стрит! В общем, все. Мы с тобой… столько обсуждали.
Джим встал и взял свой чемоданчик.
– Обычный треп за пивом, Дон. Пивные бредни. Мы никогда не выберемся из этой дыры. Ты до самой смерти будешь играть Stranger on the Shore.[4] «Блюзовые ноты» в «Орле». Вот и все. Больше ничего не будет. – Он вертел в руке пустую пивную кружку.
– Да нет, Джимми. – Дональд раскрыл футляр и достал письмо. – Все получилось! Соединенные Штаты Америки! Мы убираемся отсюда!
– Что верно, то верно, приятель, – ответил Джимми, ставя кружку на стол и натягивая куртку. – Я пошел. На ужин опаздываю.
– Ты хотя бы прочти, что тут написано! – Дональд шлепнул письмом по столу и придвинул его к Джимми. – Я тебе об Америке, а ты о своем пустом брюхе!
Джимми толкнул конверт обратно; тот застрял в лужице пива.
– Нет, Дон, я серьезно. У меня хорошая работа, сын, а скоро и еще один появится. Ты строишь воздушные замки. – Он допил последний глоток. – Пойду я. Передай Кену, что свою долю я заберу на неделе. В следующее воскресенье я еще играю с вами, но в последний раз. Погода сейчас подходящая, и Кэти по воскресеньям намерена играть в гольф. Кто знает? Может быть, нас даже примут в загородный клуб! – Джимми протянул руку. – Не обижайся, Дон, – сказал он.
Дональд сидел и качал головой. Джимми пожал плечами и вышел; его чемоданчик с тихим стуком ударился о дверь паба.
Дональд сунул письмо в карман и захлопнул футляр. Он вспомнил, как Джимми назвал Америку «воздушным замком» – как будто их мечты и вправду были обычным пивным трепом! Он вспомнил о дочках – как Тот играла в футбол на заднем дворе. Она пошла в него; такая же упорная, тренируется часами. Она была и центрфорвардом, и голкипером, и публикой. А Дороти? Дональд закрыл глаза. Перед его мысленным взором всплыла картинка: старшая дочь, высунув от усердия кончик языка, все играет и играет гаммы; Элейн на кухне, смотрит по черно-белому переносному телевизору кулинарную передачу, где учат готовить ресторанные изыски.
Он посмотрел на Кэрол. Та по-прежнему сидела у стойки; платье туго обтягивало складки на боках и уже намечающийся пивной животик. Перо выскользнуло из волос и упало на голое плечо. Кен вышел из кабинета хозяина и сел на табурет рядом с ней. Рука его обвилась вокруг ее расплывающейся талии.
Дональд отвернулся.
– Они ничего не поняли, – сказал он пустой пивной кружке. – При чем тут пивной треп? Я вовсе не трепался!
Он остановил машину рядом со своим домом на краю тупика Стэнли и заглушил мотор. Шел дождь, и аккуратные клумбы с зимостойкими анютиными глазками, окаймлявшие бетонную дорожку, почти тонули в воде. Цветы помялись и пожухли. Новый сосед, мистер Дамсон, накинув дождевик на голову, убирал в сарай грабли. Он помахал рукой, и Дональд кивнул ему через лобовое стекло, усеянное капельками дождя. Потом вынул ключи из замка зажигания, вышел и хлопнул дверцей. Мистер Дамсон, закрыв задние ворота, брел по дорожке к своему крыльцу.
Дональд шел по аллее сада; не успел он сунуть ключ в замок, как дверь распахнулась, и на крыльцо выскочила Лилли О’Фланнери, лучшая подружка его старшей дочки, которая жила в доме номер семь.
– Здравствуй, Лилли, – сказал Дональд, отряхиваясь. – Спешишь?
– Извините, мистер Томпсон, – ответила девочка. – Мне пора пить чай. Я опаздываю! – Она повернулась и припустила по тротуару и по лужайке; светлые волосы прилипли к спине.
Он посмотрел ей вслед, а потом вошел в дом и закрыл за собой дверь. В прихожей нащупал в кармане письмо и тихо поднялся по лестнице.
Снизу слышался стук ножа – жена резала овощи; в столовой Дороти играла на расстроенном пианино «Тихую ночь». Когда он присел на кровать, чтобы перечесть письмо, в открытом платяном шкафу что-то пошевелилось. Он потянул дверцу на себя и увидел Тот. Девочка сидела среди обуви с кроликом на коленях.
– Ты хорошо себя чувствуешь? – спросил он, щупая рукой ее лоб – нет ли температуры.
Тот кивнула.
– Извини, что так вышло в пятницу, – сказал Дональд. – Я не понял, что у тебя… Решил, что ты изображаешь Стиви Уандера. Играешь в него.
Тот погладила кролика. Зверек грыз длинную пластину морковки. Потом поднял мордочку, посмотрел на него и сморщился. Тот положила кролика в проволочную корзинку, где лежало нижнее белье ее матери.
– Я не против того, чтобы болеть и принимать таблетки, – сказала она, – но вот Барни… – Она посмотрела на кролика в проволочной корзинке, и в уголках ее глаз начали собираться слезы.
– А что Барни? – спросил Дональд.
Тот погладила своего любимца по длинным черным ушам.
– Боюсь, что я снова его уроню… если начнется припадок. И он разобьет себе голову. Или сломает ногу. Или убежит, и его съест пес дяди Эрни. Или лиса.
Дональд пригладил дочкины оранжевые кудряшки. Она подняла голову и посмотрела на отца.
– Я не боюсь никаких припадков, – повторила она. – Просто не хочу, чтобы из-за Припадка-Упадка пострадал Барни.
Дональд взял свой футляр и вынул кролика из проволочной корзинки.
– Пошли, малышка. Я кое-что придумал.
Они зашли в ванную и закрыли за собой дверь.
Он осторожно посадил кролика в ванну, а футляр с трубой пристроил на раковину.
– Давай залезай, – велел он.
Тот забралась в ванну и села по-турецки в том конце, где находился слив. Кролик засуетился, но скользкие фаянсовые борта ванны не давали ему выбраться.
– Вот видишь, – сказал Дональд. – Если Припадок-Упадок снова придет, ты не выронишь Барни, и он не убежит.
– Но не можем же мы вечно торчать в ванной!
– Конечно нет, малышка. Но иногда можно и посидеть. Правда? Сидеть и ни о чем не беспокоиться.
– Ага, – согласилась девочка. – Можно мне полотенце? – Она показала на полотенцесушитель за его спиной, и он дал ей пушистое зеленое полотенце. Она навернула его на голову, как тюрбан. – Так я не ударюсь, если Упадок придет снова, – пояснила она. – Ну вот, теперь мне вообще не о чем волноваться! – Тот заулыбалась, взяла мыльницу и набила ее кусочками моркови, извлеченными из кармана юбки.
– Вот и отлично, – сказал Дональд, – это как раз то, что я хочу. – Он достал из футляра ноты и прислонил их к зеркалу с помощью тюбика зубной пасты. – Ты сумеешь сохранить тайну – важную тайну?
Тот кивнула.
– Понимаешь, – продолжал он, не сводя взгляда с нот и извлекая из мешочка мундштук, – может быть, папа скоро уедет. В Новый Орлеан. Я получил письмо от твоего дяди Тревора. – Он вытащил из кармана конверт.
Барни поскользнулся, пытаясь выбраться, и кубарем скатился на колени Тот. Девочка придвинула любимцу мыльницу. Кролик грыз морковку; зверек и дочка внимательно смотрели на него из ванны.
Он осторожно прикрутил мундштук.
– Твой дядя Тревор купил еще одно бистро. Не на самой Бурбон-стрит, но недалеко оттуда. Но мне нужно убедиться, что с тобой все будет в порядке, – ну, понимаешь, если я уеду.
Тот посадила Барни в пластмассовый мешочек для губок.
– Твой Норлеан – в Америке?
– Да, на Юге. Он считается родиной джаза. Там играл Диззи. Я ведь рассказывал тебе о Диззи, помнишь?
Тот прикусила губу, а потом кивнула:
– Он придумал новый стиль.
Дональд улыбнулся.
– Понимаешь, Тревор хочет, чтобы я вошел с ним в долю. Он собирается расширять дело. Получить лицензию и чтобы по выходным играл живой оркестр. А там… кто знает, может, мы прославимся?
Он посмотрел в ноты и подул в трубу, косясь на свое отражение в зеркале.
– Диззи был первым настоящим трубачом в стиле бибоп. Он был королем ритма!
Кролик добрался до содержимого мешочка; он успел разгрызть натуральную морскую губку Элейн. На дно ванны падали коричневые ошметки.
– Мне надо ехать, Тот. Такая возможность предоставляется раз в жизни.
– А мы едем с тобой? – Тот почесала у зверька за ушами.
Он покачал головой; кролик выплюнул коричневую массу на кафельную плитку.
– Ты привезешь мне оттуда подарок? – спросила девочка, вытирая сотворенное безобразие ватным шариком.
– Я что-нибудь тебе пришлю. Чего бы ты хотела?
– Еще один снежный шар. В Норлеане идет снег?
Дональд кивнул и поднес трубу к губам; по лицу медленно катились слезы, которые скапливались в уголках губ. Он сделал вдох – воздух заполнил легкие. Закрыл глаза, прижал язык к медной чашке. «Мертвая нота» поплыла по маленькой квадратной ванной, эхом отдаваясь от чистых стен, выложенных белой кафельной плиткой, и исчезла, едва начавшись.
Иногда чего-то бывает слишком много.
Например, стеклянных шариков.
У меня только дешевые – у них внутри как будто извиваются рыбки. Если я проигрываюсь в пух и прах и теряю все свои шарики, всегда можно докупить еще, после того как мне выдадут карманные деньги. У других детей бывают очень красивые шарики. Роскошные агаты. Они похожи на подарок от бабушки. Самые лучшие – с завитками синего и красного цвета; у тех, что похуже, – завитки лимонные и коричневые. И вот, если их проиграть, то их уже не вернешь. Их просто… больше нет.
Никогда не играйте в шарики с Майклом О’Фланнери. Он называет свои «шариками», но на самом деле это шарикоподшипники, которые приносит ему его папа с фабрики. Мои пластмассовые шарики их выдерживают, но агаты разбиваются вдребезги.
Скауты
Мама научила Дороти Томпсон многому. Мелочам: например, зеленые тени не сочетаются с синей тушью для ресниц, а черные колготки – со светлыми туфлями. Но Дороти узнала от нее и массу настоящих важных вещей. Первая настоящая важная вещь, которую она усвоила, – если тебе предоставляется шанс, за него надо хвататься обеими руками, даже если лак на ногтях еще не высох.
Когда Дороти два года назад закончила начальную школу в Бишопс-Крофт и перешла в среднюю школу в Тривертоне, она поняла, что ей представился исключительно замечательный шанс.
Она всю жизнь стеснялась своего адреса: тупик Стэнли, дом семнадцать. Тупик Стэнли находится на самом краю поселка, между мусорной свалкой и магазинчиками – газетным киоском, булочной, мясной лавкой и бакалеей. Его назвали в честь Стэнли Болдуина, премьер-министра Великобритании в двадцатых годах. Следующая улочка называлась авеню Дизраэли, за ней шла улица Черчилля, авеню Асквита, площадь Пила. И так далее. Улочки Бишопс-Крофт, застроенные кирпичными домиками, издавна назывались в честь премьер-министров; услышав ее адрес, все сразу понимали, что она – девочка из бедного муниципального квартала.
Перейдя в среднюю школу – она находилась далеко, километрах в пятнадцати от дома, через два поселка, – Дороти поняла, что началась новая жизнь. У нее появились новые друзья, новые учителя, новый автобус… и возможность обзавестись новым адресом. Дороти присмотрела для себя Кингз-роуд. Кингз-роуд находилась на другом конце их поселка Бишопс-Крофт. Там, за старинной церковью, построенной еще до Нормандского завоевания, стояли большие особняки в псевдотюдоровском стиле, с мощными балками и мелкорешетчатыми оконными переплетами. С Кингз-роуд не видно было поселковых магазинов. Она находилась километрах в четырех от дома Дороти в муниципальном жилом квартале. Отцы семейств, обитавших на Кингз-роуд, ездили на БМВ; их дети учились в частных школах, а матери по утрам пили кофе и каждое воскресенье украшали церковь цветами.
Дороти не упустила свой шанс и сказала подругам из новой школы, что живет на Кингз-роуд.
Когда впереди показался церковный шпиль, Дороти выхватила из ранца берет и напялила его на голову. На улице шел дождь; уже темнело. Ее соседка, которая всю дорогу перешучивалась с сидевшими сзади мальчишками, развернулась к ней.
– Ты на сто процентов уверена, что не сможешь на следующие выходные приехать к нам в Норфолк? – спросила она.
Дороти надела ранец на одно плечо.
– Нет, мама не разрешает мне ночевать у подруг. Извини, Джен.
– Жалко. Мы будем кататься верхом, а папа пригласил оркестр… Какие у тебя противные родители!
Автобус свернул к церкви. Дороти кивнула. Она представила, какой будет ужас – появиться на великосветской вечеринке в Норфолке без костюма для верховой езды и модного платья, в которое переодеваются к ужину.
– И к себе ты тоже никого не приглашаешь… – продолжала Джен.
– Потому что у меня мама парализованная. Она передвигается в инвалидной коляске. Мама не любит, когда к нам приходят гости, я тебе уже говорила.
– Да, я помню. И все равно… Представляю, какой это ужас!
– Что – ужас?
– Сломать шею во время исполнения стриптиза. А она правда ездила на гастроли с Томом Джонсом? С серебряной клеткой и всяким таким?
– Ага. Мы не любим об этом вспоминать.
Автобус остановился.
– Пока, Джен! Всем пока!
Церковь была освещена изнутри; угловатые фигуры святых, отливающие синим и золотым, устремились к небесам. Оказываясь перед поселковой церковью, Дороти всегда чувствовала себя немного виноватой за свою ложь. Поэтому она отвернулась от святых, сунула руки в карманы фиолетового школьного блейзера и зашагала домой. Ей предстояло пройти больше трех километров.
Лилли О’Фланнери говорит, что лгуны будут гореть в аду. Лилли так говорит, потому что она католичка. Томпсоны – прихожане англиканской церкви, где ложь не считается таким уж страшным грехом. И вообще, Дороти нравилось думать, будто она не совсем лжет, а просто фантазирует, придумывает новую реальность. Своим одноклассникам из Тривертона она говорила, что ее отец – музыкант, а мать когда-то была танцовщицей. И то и другое почти правда. Отец каждое воскресенье играет в пабе на трубе, а мама как-то ходила на кастинг в одно известное телешоу. Правда, ее туда не взяли. Она ростом не вышла. О Тот Дороти предпочитала вообще умалчивать. Надоедливая младшая сестренка, которая к тому же больна эпилепсией, – не повод для того, чтобы хвастаться.
На окраинах поселка зажглись уличные фонари. Из окон, с крылечек обступивших улицу больших домов лился свет. А здорово, наверное, разъезжать по всей округе в шикарной модной машине и покупать платья в бутике рядом с лавкой, где торгуют рыбой и жареной картошкой, – наряды там стоят больше десяти фунтов. Еще Дороти хотелось завести крошечную собачку – из тех, которые умещаются в дамской сумочке. Они модные и страшно дорогие.
Из-за поворота на огромной скорости вылетела машина. Водитель как будто нарочно прибавил газу, проезжая лужу, забрызгав ее носки и школьную юбку. К тому же он еще и восхищенно засвистел.
– Поганый ублюдок! – крикнула Дороти. – Чтоб ты сдох!
Когда машина скрылась из вида, ей показалось, что уличные фонари стали тусклее. Она припустила к дому. Чем быстрее она бежала, тем сильнее ненавидела большие особняки.
Дороти и Лилли поднимались по Ивовому переулку. Они направлялись в деревню. Лилли, которая училась в школе Девы Марии, была почти единственной девочкой, которую Дороти могла назвать своей подругой, но на самом деле их связывали очень непростые отношения. Две девочки-подростка постоянно конкурировали, сражались за первенство. Стоило одной взять верх, как ее тут же опережала другая. Преимуществом Лилли было ее близкое знакомство с малоприятным миром жизни и смерти. Она делилась с Дороти важными сведениями, а та притворялась, будто уже все это знает. Именно Лилли объяснила: ты не забеременеешь, если парень вытащит свою штуку до того, как закончит, а презервативы в глазах Господа – настоящая гадость. Лилли однажды на похоронах дотронулась до лица мертвеца. Лилли помогала отцу принимать роды у крольчих – ее отец разводил кроликов на мясо. Она отчищала новорожденных крольчат от слизи и грязи, выкармливала их из соски, а позже убивала одним ударом по голове, между длинными мягкими ушами.
Но если Лилли знала все, что нужно было знать о запутанных вопросах жизни и смерти, то Дороти была непререкаемым авторитетом по части манер. Она знала, какими столовыми приборами что едят и в какой последовательности. Она считалась жрицей хорошего вкуса; у нее имелся маникюрный набор с ручками «под черепаху». Длинные каштановые волосы Дороти всегда были гладкими и блестящими, потому что перед сном она причесывала их по сто раз, тихонько считая вслух.
Когда Лилли предложила сходить на деревенский праздник, Дороти сразу согласилась. Ей нравилось смотреть на богачей. У них можно научиться, как правильно обращаться с деньгами. Если когда-нибудь она найдет себе богатого жениха и уедет из этой дыры, она будет знать, как вести себя и вообще как жить.
На праздник она принарядилась: надела коричневые бархатные брюки клеш и розовый пушистый ангорский свитер, заказанный по каталогу «Кэй», – мама еще не до конца расплатилась за него. Пушистая ангорка льнула к телу, и было видно, что фигура у нее уже почти взрослая. Свитер выгодно подчеркивал тонкую талию и маленькие грудки.
Дороти покосилась на подругу. На Лилли были широкие джинсы «Ливайс», невзрачная кофточка с круглым вырезом и шарф с героем сериала «Доктор Кто». У нее были длинные светлые волосы, и ее можно было назвать хорошенькой – с большой натяжкой. Лилли казалась наполовину женщиной, наполовину ребенком. Верхняя часть у нее была в норме, лицо и руки можно было назвать даже пухленькими, но бедра были узкими, почти костлявыми, а голенастые ноги были совсем девчоночьими. Как будто Лилли влезала во взрослое тело постепенно, сверху вниз.
В переулок свернул огромный грузовик с рекламой гастронома «Сейнзбериз»; на крутой тропе мотор взревел, и Лилли отскочила в сторону. Завизжали тормоза; грузовик остановился. Из кабины высунулся ухмыляющийся водитель.
– Ты в порядке, дорогуша? – спросил он, плотоядно глядя на Лилли.
Она продолжала идти вперед, сдув со лба прядь волос и притворившись, будто не слышит.
Шофер не унимался:
– Прокатиться не хочешь, милашка?
Лилли медленно развернулась. Поцеловала ладонь, но вместо того, чтобы послать приставале воздушный поцелуй, сложила пальцы и показала ему знак V. Парень рассмеялся, помахал в открытое окошко и покатил вниз. Лилли поправила волосы пятерней; Дороти увидела, что подруга и зарделась от смущения, и улыбается.
– Лилли О’Фланнери, – сказала она, – ты заработаешь дурную репутацию, если будешь заигрывать с грязной шоферней!