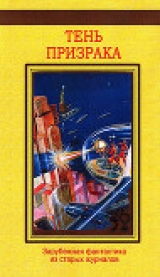
Текст книги "Тень призрака (антология)"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Морис Ренар,Уильям Олден,Анри Магог,Макс Брод,Томас Гатри,Альберт Байи,Энтони Армстронг,Джеймс Барр
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
VIII
– Взгляните, – сказал он мне.
Мы сидели в уютном номере с зелеными панелями, в незнакомом отеле, в глубине континента. Двери были заперты, и перед нами лежала целая кипа газет; все столбцы были заполнены сообщениями о войнах, восстаниях, тирании и нищете. Он собирал газеты во время нашей поездки и, прочитывая, делал отметки синим карандашом.
– Взгляните, сколько тут подчеркнуто имен. Большинство этих людей я знаю еще со времен моей молодости, с тех пор, когда пробуждающиеся народные массы были всколыхнуты первыми веяниями свободы и бурями мятежа. Теперь эти люди изменили делу свободы. Теперь они сами подают пример алчности, кровожадности, лезут вверх и расталкивают всех локтями. Всех настоящих, талантливых, добрых, чутких они оттеснили в сторону, придушили, придавили, а сами протолкались на вершину, где ими одним за другим овладевает мания величия. Это – циники. Они уже не верят в возмездие. Им недоступно чувство доброты, ими движет только личная выгода. На этом листе я записал их имена. Спрячьте хорошенько. Мы выезжаем немедленно.
– С кого же мы начнем? – спросил я.
– Вот с этого. С генерал-губернатора. Я знал его еще ребенком. Отец-честолюбец, мать – больная бабочка, а этот избалованный мальчишка стал одним из самых свирепых тиранов человечества.
Подумайте, если бы он проведал про мой порошок, которым мог бы втихомолку, бескровно, – тихо и мирно – «пульверизовать» своих соперников, явных и тайных, поверьте мне: он не оставил бы в живых ни одного талантливого человека в пределах досягаемости. Теперь он сам будет номером первым… Ну, едем!
IX
Мы мчались в экспрессе. Мы приближались к столице генерал-губернатора. В предместье поезд замедлил ход. Дождь лил как из ведра.
На одной из площадей мы заметили что-то странное. Опустили окошко купэ. Что же это такое?
– Это виселицы, – сказал один из наших спутников, набивая себе трубку. – Вчера повесили еще девятерых студентов. А эти – тот, что посредине, композитор – из новых, знаете ли; а рядом, длиннобородый – профессор истории.
Мой старый друг пожелтел и позеленел, как мертвец.
– Вот! – сухо сказал он и ощупал свою «пороховницу».
– Да, – так же сухо отозвался наш собеседник, и мы подкатили к вокзалу.
Мы поехали прямо в старинный дворец Карловингов, а вечером сидели в опере, рядом с пустой пока ложей генерал-губернатора.
Итак, это должно было совершиться…
Зрительный зал представлял раздушенную, сияющую гору вееров и бриллиантов.
О, как они обмахивались!., как улыбались – в то время, как девятеро смельчаков-студентов болтались под проливным дождем на виселицах.
Под гром приветствий генерал-губернатор занял свое место в ложе. Мания величия светилась в его взгляде, хотя ему не оставалось и двадцати минут жизни, болвану.
В антракте мой друг граф получил аудиенцию в аванложе. Тихо и скромно скользнул он туда под махание вееров и гул голосов.
Так же тихо и скромно вышел он оттуда, сел возле меня, распространяя вокруг аромат гелиотропа и пожал мне руку под махание вееров, гул голосов и сладостный рокот райской музыки – в честь генерал-губернатора.
– Что с ним сталось? – спросил я.
– Тсс, – шикнул граф и хихикнул. – Лежит себе в уголке на ковре. Больше никого не отправит на виселицу. В нем не осталось ничего внушающего страх, и завтра его заберет пылесос.
В ту же ночь мы покинули столицу. Мы направлялись в купальное местечко на теплом морском берегу – перевести дух после своего всемирно-исторического подвига и в тихом уединении поздравить друг друга с освобождением человечества.
Двое суток спустя, мы снова сидели в отеле в нашем номере с зелеными панелями, и с напряженным интересом взялись за газеты, чтобы узнать новости о раскрепощенном человечестве. Увы! мы остались на этот раз с длинным носом…
Щепотка графского порошка развела большое волнение на поверхности океана событий, но…
В столицу немедленно прибыл начальник генерального штаба и занял все улицы и присутственные места орудиями и патрулями. О! Это был колоссальный ум и ненасытная утроба. С горько перекошенным ртом – не то от презрения ко всему миру, не то от табачной жвачки, а, может статься, от того и другого вместе, человек, никогда не терявший самообладания – ни от капризов любовниц, ни при расстрелах толпы на площади…
Исчезновение губернатора пришлось ему как раз кстати, явилось для него настоящим благодеянием свыше. Он только того и ждал. Генерал-губернатор, видите ли, находил, что выгоднее прекратить войну, пока начальник генерального штаба не забрал чересчур большую силу. Теперь затрещали барабаны и, как снег на головы миллионов, посыпались приказы о новых призывах в войска.
– Мерси! – воскликнул граф, у которого от бешенства волосы поднялись на голове дыбом. – Про него-то я и забыл. Но погоди, милейший мой генерал! Нас ты не будешь водить за нос, пока у нас есть порошок в коробочке!
X
Мы отправились на театр военных действий. Всю ночь грохотали пушки, мимо нас, по грязи, под дождем двигались толпы беженцев. Впереди пылал приморский город.
Мы прибыли в главную квартиру генерального штаба. Офицеры толпились около большой стенной карты, дрожа от азарта, как игроки в Монте-Карло. Они яростно спорили о линиях укреплений, о том, сколькими жизнями можно пожертвовать ради удержания той или иной позиции – семью тысячами или только четырьмя.
Тут их позвали кушать. На столе – ароматные вина, дымящееся жаркое, а на линии огня – сплошной ужас, тела рядовых, повиснувших на колючей заградительной проволоке, между полусгнившими сапожниками и портными…
Мы с графом стояли на балконе с его двоюродным братом, полковником, когда воздух задрожал и загрохотал от далекого взрыва: это взорвали на воздух крупный форт неприятеля.
Офицеры, ликуя, кинулись к окнам, на балконы. Поспешил выйти и сам генерал-фельдмаршал с салфеткой под подбородком, оттолкнул нас в сторону и начал вглядываться вдаль, вытягиваясь и весь дрожа от напряженного любопытства. Мировой спектакль… Безумно интересно – чем дело кончится…
Ха! Ему-то не пришлось дождаться конца.
Бесшумным, змеевидным изгибом поднятой руки граф посыпал порошком могучую потную спину.
Генерал-фельдмаршал исчез, рассыпался прахом на балконе, где стоял; был втоптан в грязь сапогами офицеров и смыт дождем вниз, по стенке фасада!
Затем исчез его сосед, потом другой, третий… все стали грязными потеками на стене.
Наконец, на балконе остались только мы с графом. Вдали продолжался адский орудийный огонь, шум и грохот, а с балкона струился в столовые крепкий запах гелиотропа…
– Чудесно! – воскликнул граф. – А-а! Наконец-то мы их всех истребили!
XI
Да-а, как бы не так!
Восемь дней спустя мы опять благополучно сидели в своем зеленом номере отеля и с напряженным интересом следили за ходом событий, толчок которым был дан действием последнего порошка.
И, надо сознаться, у газет не было недостатка в материале. Кровь и грязь струились с их столбцов неделя за неделей.
Исчезновение всего генерального штаба целиком явилось сигналом к небывалому в истории побоищу… к кровавой ночи, когда люди уничтожали друг друга сотнями тысяч безо всякого плана военных действий.
На арену мировой истории вынырнул новый феномен, епископ, которого раньше никто и не замечал: интриган, архимиллионер, с феноменальным аппетитом к жизни и с беспримерным красноречием религиозного характера, прямо, как нарочно, созданный покорять и сплачивать человеческие массы.
Он проповедывал направо и налево «любовь и мир», а сам реорганизовал армию и продолжал прежнюю игру. И снова загрохотали пушки.
Граф рвал и метал.
– Как будто сам сатана нанизывает на веревочку всех мерзавцев, чтобы мы их пульверизовали всех подряд!
Мы снова снялись с места. Добились аудиенции у епископа во время его завтрака и вежливенько превратили в прах его преосвященство как раз, когда он с вилкой в руке блаженно потянулся за пармезаном.
– Дадут ли нам теперь, наконец, покой?! – возмущенно спросил граф, глядя, как епископ укладывается кучкой праха на собственном ковре из медвежьей шкуры.
Но нам не давали покоя.
На смену исчезнувшему епископу вынырнула целая плеяда авантюристов. Сначала один шикарный альфонс, потом парочка друзей аферистов, имевших огромный успех во всех кругах; потом молодая вдова ростовщика, объявившая себя современною Жанной д'Арк и совершавшая торжественные въезды в один город за другим – с маханьем пальмовыми ветвями и подстиланием ковров ей под ноги; потом еще целый ряд плутов и народных героев вперемешку, которые все, один за другим, заражались манией величия и алчностью и вели себя, как дикие звери.
Мы пульверизовали всех; странствовали по биржам, парламентам, конгрессам и превращали в прах всех попадавшихся нам ненасытей и маниаков величия, как только они грозили стать опасными. И они рассыпались прахом и укладывались у наших ног пыльными кучками, сколько ни пыжились, ни важничали за какую нибудь минуту до этого. Мы оставляли за собою целый ряд таких пыльных кучек. Но стоило исчезнуть одному маниаку, как на смену ему вырастали двое и дрались за освободившееся место. Тогда мы убирали и этих.
Мы не знали отдыха, вечно были в дороге. Вначале мы каждый раз с некоторою торжественностью отправлялись в поход и приступали к делу уничтожения какого-нибудь нового властелина, но постепенно мы привыкли к этому. Вначале мы подолгу совещались в каждом отдельном случае, затем дело приняло более случайный характер.
Одним больше, одним меньше – какую роль играет это в мировой экономике!.. Боюсь, что и мы готовы были заразиться манией величия.
Припоминаю один поздний вечер в вагоне. Поезд был переполнен беженцами после землетрясения, и нам пришлось несколько часов проехать стоя. Наконец, нам посчастливилось попасть в пустое купе, но только что мы собрались растянуться, как явился какой-то тупоумный бродяга, уселся на одну скамейку, положил ноги на противоположную и принялся с помощью указательного пальца одной руки пересчитывать медяки на ладони другой.
От него разило водкой, воняло грязью, а вихры его наверняка не были свободны от «постоя». И он все сызнова и сызнова пересчитывал свои грязные медяки.
Поистине не легко было видеть в этом отребье своего ближнего и с особенным удовольствием делить с ним скамейку.
– Нет, только этого еще не доставало! – с сердцем буркнул граф.
…Пуф-ф… и аромат гелиотропа вытеснил запах сивухи, а останки бродяги посыпались с лавки чистенькой струйкой праха.
Тогда граф улегся на место бродяги и вскоре погрузился в крепкий сон. Я же был слишком испуган той стадией, до которой мы дошли. Буквально «фукнуть» чужую жизнь только для того, чтобы самому поудобнее разлечься!..
Признаюсь, я провел всю ночь сидя, в то время, как граф преспокойно спал себе на освободившемся месте бродяги, который ехал бесплатно на полу, между обгорелыми спичками и апельсинными корками.
Как будто что-то новое, и вместе с тем старое зашевелилось на дне моего сознания.
XII
Да, так это и было. Моя прежняя радость бытия, замерзшая в моей душе в ту ночь, когда потушили последний огонек, озарявший мои дни на одре болезни, – право, она снова пробуждалась, пускала новые весенние ростки.
День спустя мы с графом проходили по людной площади.
Цветущее девичье личико промелькнуло совсем близко от меня.
Я невольно обернулся. И на меня пахнуло такою свежестью, таким весенним здоровьем, что я бессознательно стал оборачиваться вслед всем встречным девушкам. Граф, напротив, быстро, сердито семенил вперед, не обращая внимания ни на цветы, ни на девушек.
– Он высох… – прозвучало во мне словно предостережением. – Он стар, а ты еще молод… какое счастье! молод, молод!
Я еще следовал за ним, но предчувствовал, что мы скоро расстанемся.
И час разлуки настал – высоко в горах, в лесу, далеко от города.
На повороте дороги, между папортниками и елями лежала палая лошадь, раздутая, с закинутою назад ослепшею серою мордой, словно жалобно вопя разинутым ртом против жестокостей судьбы.
Брюхо лопнуло, и между зеленоватыми внутренностями кишмя кишели сероватые личинки, а кругом так и жужжали целые рои мух и других насекомых на этой отвратительной падали.
– Ого-го! – воскликнул граф, притупившиеся чувства которого приятно возбудило это омерзительное зрелище. – Вот вам все бытие. Немая, жалкая падаль – жатва для рвачей и паразитов.
И с каким-то нечленораздельным торжествующим возгласом он швырнул целую коробочку порошка в эту симфонию красок и жужжания.
Легкий свист… Кипение… Быстрый смерч… и мухи, осы, ужас и мерзость – все смешалось, взвилось вихрем пыли, которая затем улеглась смирно и невинно серою кучкою среди папортников и душистых ветвей.
Граф смеющимися глазами следил за явлением, дожидаясь пока все уляжется, затихнет, а я живо повернул налево кругом и, не прощаясь, без единого слова быстро зашагал, бодрый и свободный, обратно к городу, к жизни, к ее домогательствам и шуму, к розам, и поцелуям, и молодым девушкам.
XIII
Прошел год.
Я снова ходил по старым улицам, снова вошел в колею прежних обязанностей, в рамки милого, старого, твердого расписания часов… но сам обновленный, бодрый и свежий.
Я отдохнул всем своим существом, перебродил. По моим нервам пробегала новая искристая сила, мои жилы напрягались новым неугомонным задором. Мои глаза обрели новый блеск и новую зоркость. Я видел новые, свежие краски на цветах, на домах и в пестрой человеческой сутолоке.
Легко и естественно проложил я себе дорогу в круг девушек, свежим инстинктом выбрал из них настоящую… Невеста, свадьба, дом и хозяйство, все устроилось также просто и легко, как ветка розового куста колышется по ветру.
Лес шумел за порогом моего жилья, в буковых вершинах куковала кукушка в такт и биению неугомонного молодого сердца. В кухне напевая хозяйничала моя подруга, а за окном школьного класса заливался скворец, славя солнце и жизнь.
А по вечерам… о, как легко проторил я опять тропу на народные сборища, в кружки и союзы трудящихся, куда великий, освежающий поток жизни и прогресса – вечно обновляющийся – ежедневно просачивается все больше и больше, тысячью крохотных ручейков, не смотря ни на какие преграды и затруднения.
Мы устраивали большой праздник, народное гуляние с афишами, с триумфальной аркой, и сам я снова сидел на самой верхушке с молотком и гвоздями, прибивая зелень и цветы.
Был вечер, и солнце клонилось к закату.
Вдруг внизу мне послышался тоненький голосок. Я осторожно посмотрел вниз; рот у меня был набит гвоздями.
Там стоял сгорбленный старичок и поглядывал наверх.
– Как! Вы все еще торчите там наверху? – заквакал он.
Подумайте! Это был граф!
Длинные белые локоны рассыпались по воротнику его пальто, такие белые, по Ингеманновски[Б. С. Ингеманн – датский писатель (умер в 1862 г.), причисленный к национальным классикам. Примеч. перевод.] длинные и мягкие. О, какой маленький и усталый!
Какая увядшая, пепельно-серая улыбка!.. В одной руке он держал стариковский зонтик, в другой – потертую кожаную сумочку.
О, какой это был старый, измученный человек!
Я спустился вниз. Поздоровался с ним и повел к себе в дом через садик, весь в сирени и жасминах.
Жена моя улыбалась и наливала нам кофе. Ручеек громко журчал, кукушка куковала, в окна веяло вечерней прохладой…
– Разве не хорошо у нас! Чудесно ведь! – воскликнул я.
– Ничего себе, – поддразнил он, – здесь есть все, что полагается в романах.
Моя жена была так молода и простодушна, что приняла это за настоящий комплимент. Когда она вышла зачем-то, я воспользовался случаем, чтобы спросить его:
– Ну, а как дело с порошком? Скоро вам удастся истребить всех насильников?
Некоторое время он сидел, молчаливый и неподвижный, как мумия; наконец, сказал:
– Это дело безнадежное. Только истребишь одного, как на его место является десяток других. Их целые толпы ждут своей очереди. Этому конца не предвидится. Пожалуй, люди вроде тех глубоководных рыб, что чувствуют себя хорошо только на определенной глубине. Стоит вытянуть их наверх, как выворачиваются наизнанку от непреодолимой мании величия.
– Так значит, как же теперь с вашим лечением порошком?
– Не думаю, чтобы его стоило продолжать. И что за беда, если на свете и будет сотня-другая безумцев, страдающих манией величия! Пусть только народ сам хорошенько отбивается от них, потому что их только и можно образумить нажимом снизу… И наилучшею средою для развития разума, по-видимому, являются все-таки низы.
Я вышел на минутку загнать кур прежде, чем лиса отправится в ночной обход.
Когда я вернулся, графа в комнате не оказалось, но навстречу мне струился хорошо знакомый запах гелиотропа, а на полу серела скромная кучка пыли – трогательно маленькая, скромная.
Гм, – подумал я, – так он исчез!
На столе лежала записка со словами:
«Прощайте, молодой друг. Передайте привет вашей жене. Она очень мила».
Макс Брод
Ожившие мумии
Экскурсия студентов-датчан достигла дверей психиатрической клиники. Ее принял инспектор Ротткэй. Проведя студентов по узкому коридору, мимо вооруженных вениками и ведрами обитателей больницы в темных халатах, доходивших почти до пят, инспектор ввел экскурсантов в приемную. Здесь им пришлось ожидать, – пока инспектор разыскивал доцента.
Приемная представляла большую, со вкусом отделанную комнату, обставленную глубокими креслами. Вдоль стен, покрытых дубовой панелью, шли длинные ряды книжных полок. За открытым окном виднелась яркая зелень находившегося при клинике сада. Шестеро студентов-иностранцев, расположившись в низких, удобных креслах, с любопытством оглядывали обстановку клиники.
Через несколько минут в дверях показалась высокая худощавая фигура человека с мощным, прекрасно очерченным лбом и седой остроконечной бородкой.
– Профессор Ястроу, – проговорил он, слегка поклонившись.
Услышав это прославленное имя, студенты быстро поднялись с мест и почтительно вытянулись.
– Пожалуйста, сидите! – проронил профессор с усталой, слегка небрежной вежливостью. Он посмотрел кругом. – Коллега Геберлейн заставляет себя ждать…
Взгляд Ястроу был пристален, но в то же время далек и словно рассеян, что придавало странное обаяние его облику – начиная с неслышной легкости движений и кончая усталой хрупкостью негромкого голоса.
– Ну, обход мы все-таки начнем, когда придет мой коллега, – сказал он, вынимая из лежавшего на столе портсигара папиросу. – Расскажите мне пока, где вы побывали до сих пор? Что осмотрели?
Старший из курсантов, едва успевший сесть, поднялся снова.
– В Берлине, в Бреславле…
– Сидите, говорю вам, – прервал его Ястроу, усаживая гостя не лишенным повелительности жестом тонкой белой руки. Непринужденная любезность профессора рассеяла, наконец, северную чопорность и неповоротливый формализм его гостей.
– Затем мы осматривали знаменитый Геттингенский университет. Теперь хотим ознакомиться с вашей образцовой клиникой.
– Да ведь она ничем не отличается от других…
Студент Аксель Мунд из Копенгагена смутился и покраснел.
– Напротив, мы здесь видим много нового. Вот, например, здесь… нам бросилось в глаза… – говоривший повернулся к спутникам, точно желая заручиться их поддержкой, – то, что профессор носит такую же одежду, как и больные. Это исключительно гениальная выдумка! Недоверие психически больного к врачу, которое так неуместно разжигается и подчеркивается еще и одеждой… здесь этого нет…
Профессор Ястроу бегло взглянул на свой темно-синий халат и с усмешкой обратился к аудитории:
– Ну, если вы такую мелочь считаете достойной изучения… Нет, мои друзья, если вы действительно хотите учиться новому, вам придется пропутешествовать дальше, на юг Франции, например… в Прованс. Собственно говоря, я лично никогда не слыхал, чтобы там был университет. О работах, идущих оттуда, – тоже. И вы не слыхали, не правда ли? Только в Арле есть маленький исследовательский институт при старинном городском музее, с одним единственным ученым, единственным в своем роде, исключительным ученым, профессором де Боди. Неизвестен? О, нет! И я, пожалуй, могу вам кое-что о нем рассказать… Коллега Гебер-лейн сегодня особенно неаккуратен…
Профессор зажег новую папиросу и несколько раз затянулся. На его лице лежал отраженный – шедший из сада – свет.
– Как я говорил уже, – продолжал он, – об Арльском институте я не слыхал ничего. И тем более я был поражен, когда случайно забрел в музей, который, кстати сказать, запущен так, как не могла бы себе представить самая смелая фантазия, – я нашел рядом с залами, заключавшими в себе собрание древностей, настоящий рабочий кабинет. Там, в полутемном, насквозь пропитанном пылью и грязью углу сидел профессор де Боди около египетской мумии. Саркофаг был раскрыт, и профессор громко читал нечто вроде упражнений в произношении. Да, да, не удивляйтесь! Сперва предложения со звуком «а», затем такие, где преобладали другие гласные, одним словом – род тех упражнений, на которых актер изощряет дикцию. Я не хотел мешать знаменитому психиатру, работу которого изучал с такой пользой для себя, но мои ботинки скрипнули, он меня заметил, – и нам пришлось раскланяться. Оба мы узнали друг друга по портретам, помещенным в специальных журналах.
После первых же фраз наступило замешательство: я почувствовал, что де Боди раздражен до крайности и близок к тому, чтобы без церемоний выпроводить меня из комнаты. Однако, под давлением странного, даже болезненного любопытства, я подходил к мумии все ближе, в то время как де Боди явно старался этому воспрепятствовать.
– Что вы здесь делаете, коллега? – вырвался у меня нескромный вопрос.
Мы оба уставились взглядом в открытое обиталище мумии.
Мертвец лежал распеленутый, с закрытыми глазами, высохший так, что его землисто-коричневое тело казалось принадлежащим мальчику, хотя, несомненно, это было тело взрослого мужчины. Кожа походила на пергамент – и около выступающих костей натягивалась так, что, казалось, готова была лопнуть. Де Боди поднял на меня зеленоватые глаза.
«Я работаю над гигиеной мертвых» – почти враждебно ответил он… Угодно вам слушать дальше, господа?
Студенты не ответили ни слова: они сидели, боясь проронить хоть один звук. Профессор Ястроу слегка улыбнулся, видимо, довольный впечатлением от рассказа. Затем внезапно он повернул к саду оживленное страстным наплывом мыслей лицо, – и эта зеленая глубь сняла с его лица краску и жутко углубила глазные впадины.
«Гигиена мертвых… – сказал мне де Боди и продолжал далее: – Египтяне постигли ее… И только для нас утеряно знание того, что мертвые совсем не мертвы, что о них нужно заботиться – и тогда, путем тщательно выполненных, хотя и утомительных манипуляций, можно привести их к состоянию, которое, правда, не может быть названо жизнью, – по крайней мере, с точки зрения современных понятий, – но в то же время и не есть смерть. То, что мы неточно называем смертью, по моим изысканиям представляет только могущее стать преходящим состояние ослабления жизненных функций, – правда, глубоко поражающее организм, но не неизлечимое, как это мы утверждаем, слишком поспешно укладывая мертвых в гроб и зарывая их, как животных.
Я думаю, – продолжал де Боди, – что есть нечто, протестующее в нас самих против этого скотского зарывания в землю. Разве вы не замечали при смерти близкого вам человека, как чуется этот процесс в каждой горсти земли, в каждом камне, бросаемом в могилу. Разве вы не чувствуете, что совершается грубое насилие над так называемым „умершим“? Это, конечно, субъективные ощущения, и они не имеют ничего общего с наукой. Но я утверждаю, что смерть излечима! Я вылечиваю смерть – конечно, в известном смысле. Одно лишь является для меня непреложным – тело мертвого может быть возвращено к жизни. Даже ранения, инфекции, даже раковые образования мне удавалось ликвидировать после смерти. Не нужно только прекращать ухода за телом, когда человек умирает, и тогда – после специальной тренировки – умерший сможет даже в известной форме общаться с нами».
Видимо взволнованный, профессор Ястроу подошел к окну. Глубоко вздохнул ветер, качавший зеленую листву деревьев.
– Пора кончать, – заговорил он, повертываясь к студентам. – Профессор де Боди показал мне вторую мумию, скрытую за занавесом в большом стеклянном шкафу. Мумия сидела на стуле.
«Вот это более податливый ученик» – представил он мне ее, делая в то же время пренебрежительный жест в сторону лежавшей мумии. Вслед за тем он вошел сам в стеклянный шкаф, сел там на второй стул и начал что-то шептать на ухо мумии.
«Вот, теперь слушайте, – она отвечает».
Я, собственно, не слыхал ничего, или, вернее, очень мало. Еле уловимый, легкий шелест, – вот и все. Ни в коем случае не членораздельную речь. Да и самый шелест, возможно, происходил оттого, что де Боди все время поглаживал мумию рукой, но так осторожно, как будто опасался, что она каждую минуту может рассыпаться в прах.
– Скоро вы обнародуете ваши работы? – прервал я его. – Мне ничего не приходилось читать о подобного рода изысканиях, а вы, если я не ошибаюсь, работаете над ними уже…
«Тридцать пять лет» – сказал де Боди.
– И не напечатали ни единого слова?
«Я не принадлежу к тем, кто выступает преждевременно на арену общественности с сенсационными откровениями. Я презираю этих крикунов с их методами омоложения, теориями гормонов и т. д. На что мне шум и деньги? Строго-научное обоснование новой и сложной биологической теории, – вот то, что мне нужно. А популярная форма, громкое название для моего дела – об этом могут позаботиться другие. Это уж не мое дело!»
– Но разве вы не понимаете, – сказал я горячо, – что здесь дело вовсе не в вас и не в вашей личной честности. Может быть, вы можете ждать, да люди этого не могут.
Именно теперь, непосредственно после войны с ее многими миллионами трупов… Неужели вам не ясно, – в том случае, конечно, если вы действительно находитесь на пути к истине, – что ваше открытие меняет всю картину мира?..
Глаза де Боди закрылись, как клапаны.
«Напротив! – медленно проговорил он. – Война, например, в будущем, несомненно, будет еще ужаснее. Она поглотит десятки миллионов жертв, но, к сожалению, мой метод ограничивается только хорошо сохранившимися трупами. Современные мины, даже современные гранаты разрывают тела на тысячи частей… Естественно, что не может быть и речи о восстановлении, так же точно, как бессилен мой метод восстановления и после сожжения в крематории. Тут не поможет никакой врач. Но я, – слышите, – я должен поделиться с человечеством сознанием того, что оно отнимает у павших не только отдельные годы жизни, но и вообще всякую жизнь».
– Да, но в таком случае вы тем более должны спешить, чтобы помешать дальнейшим преступлениям подобного рода…
– Друзья мои!.. – Ястроу неожиданно вырвался из спокойной линии своего повествования, как из-под прикрытия. – Никогда, никогда еще не посещало меня сознание ответственности более страшной, чем та, которую налагает на нас знание. Какое знание было в данном случае у де Боди? Точная, филигранная, бездушная работа, или гениальная интуиция со случайным выбором в сторону, быть может, еще не достаточно оправданного практического приложения? Кто может решить? И поймете ли вы меня, мои друзья, – Ястроу весь дрожал, – если я вам признаюсь, что спор, разгоревшийся между мною и де Боди… нет, вы должны меня понять!.. Я просил, я требовал от него немедленного опубликования его работ. Я умолял не откладывать ни на один момент их практическое приложение. Но в холодной отповеди, которую я получил, чувствовалась не косность ученого… Нет, гораздо хуже, – презрение к людям, ненависть к человечеству!
В тот момент, когда я стоял перед ним на коленях, – да, так далеко зашло дело, – на коленях перед этим чудовищем, в этот момент вошел кто-то. По-видимому, его ассистент. О чем-то доложил… Де Боди быстро вышел в сосед-седнюю комнату, совершенно темную. Я, крадучись, последовал за ним, но разглядеть ничего не мог. Ассистент шепотом сообщал профессору, что могила разрыта, гроб доставлен в лабораторию и проделаны все подготовительные манипуляции. Теперь я уже видел. Гроб лежал там в комнате, раскрытый… Девушка, почти девочка… бледная, как воск, с золотыми искрами волос, рот судорожно сжат, веки подняты, а в глазах такой упрек, такой упрек… Я не знаю, что они делали с ней, но безмолвный отчаянный упрек стоял в широко открытом, едва пробудившемся к сознанию взгляде… Я не помнил себя… Я бросился на де Боди…
– Успокойтесь, друзья! – крикнул Ястроу повелительно студентам, которые с каждым шагом приближавшейся к безумию повести, испуганные, начинавшие что-то подозревать, тесным кольцом окружили письменный стол. – Успокойтесь, вы! Де Боди отомстил за свою смерть. В завещании его стояло: «Сжечь мой прах в крематории».
Я не мог помешать осуществлению этого условия. Де Боди стал горстью пепла… Его не воскресит никакое искусство. Все его знания ушли вслед за ним. А его рукописи… кто возьмется расшифровать их!
Ястроу вытащил из рукава синей одежды сверток из лоскутьев бумаги, старых газет, бумажных пакетиков – и бросил все это на письменный стол…
В приемную вошел рыжебородый широкий доцент Ге-берлейн.
– Прошу извинить мое… Эй, Клас, а вы опять вырвались? Чего вам здесь не хватает? – Он напустился на побледневшего профессора Ястроу, который тем не менее не отступал от стола. – Он, конечно, много вам тут наболтал, господа? Где этот инспектор Ротткэй? Вечно он пропадает!..
Геберлейн с сердцем позвонил.
– Пациент выдает себя часто за профессора Ястроу, нашего ординатора, или за профессора де Боди. К тому же пациент никогда не был во Франции, – это бывший атташе здешнего посольства. Вы слышали, вероятно, о самоубийстве танцовщицы Дианы Хиамс?.. Это была его возлюбленная. Отсюда и все эти похоронные фантазии… Ну, Рот-ткэй, наконец-то вы здесь! Ставлю вам на вид – Клас разгуливает по коридорам и надоедает посетителям… Господа, мы начинаем обход. Один интересный случай вы уже видели…
Пока гости собирались, инспектор Ротткэй направился к Класу.
– Мои папиросы? – спохватился вдруг Геберлейн. Сильным толчком инспектор Ротткэй выбил из рук пациента коробку. Ястроу-Клас до сих пор сохранял еще достоинство, но это грубое движение сразу изменило его. Животный страх отразился в его глазах. И он сразу стал маленьким, незаметным…








