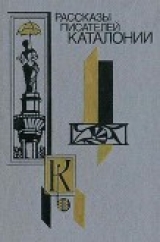
Текст книги "Рассказы писателей Каталонии"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Мерсе Родореда,Пере Калдерс
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Барбара медленно проводит гребнем по волосам девочки, поворачивает ее голову вправо, потом влево, прокладывает светлую дорожку пробора, и кажется, будто эти густые волосы – широкое поле, а гребень – стальная борона, вот Барбара разделяет волосы на две равные части, а потом каждую из них еще на три, чтобы заплести тяжелые косы, густые жесткие волосы сопротивляются гребню, непослушные пряди выбиваются из-под него, спутываются и застревают между острыми зубьями бороны, словно срезанные сорняки в густой пшенице золотых волос девочки.
Все, что нравится Барбаре, – золотое: волосы золотые, гребень золотой, солнце золотое.
Мастер есть непростой
(поет Барбара)
В нашей деревушке.
(у Барбары красивый голос.)
И прозвали его
(голос немножко трескучий, но красивый)
Золотые руки.
– Однажды привезли золото, – рассказывает Барбара.
Это не шутка, ей-богу – золото, но девочка не верит, потому что Барбара всегда выдумывает, никогда не знаешь, кто был тот человек, который погиб в море, ее отец или муж, и погиб ли он в море или его зарезали…
– Ну зачем ты обманываешь, Барбара?
– Это ты обманываешь! Ты что же, думаешь, что все знаешь, если ходишь в свою школу в городе, ах, сегодня я получила двойку, а сегодня четверку! Нет, ничего-то ты не знаешь, ничего, даже того, что море заманивает в ловушку и тянет на дно.
Барбара чувствовала, что теряет доверие, и это ей совсем не нравилось. В отместку она стягивала волосы девочки на затылке, и та просто не могла закрыть глаза.
Барбара любила рассказывать страшные истории про море – далеко не всегда правдивые, как говорил отец, – и однажды девочка вдруг поняла, что Барбара никогда в жизни, честное слово, никогда, не входила в море, в это коварное, ужасное море, которое вздымает большие волны, хватает и проглатывает добычу.
– Все ты выдумываешь, ну где ты видела ловушки в море, да нет там никаких ловушек, надо же, ловушки… чепуха какая.
Море мягко качает тебя на волнах, щекочет, как плюшевое одеяло из пены. Морская вода обнимает тебя и лижет кожу, а когда ныряешь, не дает утонуть и выталкивает на поверхность.
Барбара большая и толстая; если девочку кусает пчела, если она падает с велосипеда, если ей в палец вонзается острая колючка морского ежа, если ее колотит Бьель, если эта злюка Марта крадет у нее бумажных кукол, если она вдруг просыпается среди ночи от страха, потому что стекла в окне дребезжат, – Барбара всегда рядом.
– Никакого страха нет, – успокаивает Барбара, – надо раскрыть глаза широко-широко, и страх убегает, как побитый пес. Смотри, смотри – видишь, как он прячется?
Девочка дрожит, но вот ей кажется, что там вдали – маленькая убегающая тень, эта тень лукаво грозит пальцем, словно говорит: «Погоди, я еще вернусь!»
Море льнет к песчаному берегу, откатывается назад, а потом возвращается опять и опять, как горячий поцелуй; еще, еще, еще – шепчет волна. Когда волна отступает, множество дырочек на песке миллионами глаз жадно смотрят ей вслед.
– Ты станешь черной, как жук, как дрозд, как сажа в печке. Такую замарашку никто не захочет взять замуж, вот и останешься навек старой девой. Самое ужасное для женщины – это остаться старой девой.
– Но почему?
– Потому что у каждой женщины должен быть муж, свой муж, который всегда будет рядом с ней, что бы там ни случилось, идет ли снег или дождь, работают люди или веселятся.
– Но у тебя же нет никакого мужа, Барбара.
– Я вдова!
– Вдова, старая дева – какая разница?
Барбара ухитряется быть одновременно повсюду, во всех уголках дома, за любой дверью – вечно неугомонная Барбара.
– А почему ты не ходишь к морю?
Она отвечает, что занята, что у нее нет времени, но это неправда, просто Барбара боится моря.
Барбара толстая, около нижней губы у нее родинка, родинка с тремя волосками, один из которых длиннее других. Барбара часто смеется, но у нее ужасный характер. Как злится Барбара, когда ей говорят, что она боится моря, что она никогда не входила в море, никогда не качалась на волнах, разве что только на лодке, да, да, только на лодке, и что однажды в тихий летний вечер, во время праздника святого Телма, лодка Барбары налетела прямо на маяк. Она сердится и кричит, что никто, ни девочка, ни ее мать, ни ее отец, ни те бездельники, что каждое лето путаются в доме под ногами – и ведь никогда не знаешь, сколько их: десять или пятнадцать? – все, то есть никто, никто ничегошеньки не знает о море.
Они думают, будто море – синяя полоса, что тянется вдоль песка, синяя и блестящая, в которой плещутся водоросли и мельтешат прозрачные мальки. Море нельзя вспахать, как землю, и нельзя измерить, море не цветет и не колосится, как поле, ему все равно, ясная погода или идет дождь, для него нет ни завтра, ни вчера, только сейчас, сегодня, море вздымает большие волны, оно забирает тебя всего без остатка.
– Зачем, по-твоему, мужчины уходят в море, глупышка? – спрашивает Барбара, с силой проводя гребнем по непослушным волосам, – Потому что море – богатое, и, когда бывает шторм, оттуда достают мешки золота, и моряки уносят с собой добычу и только посмеиваются над крестьянами, которые всю жизнь копошатся в своей земле, чтобы добыть краюшку хлеба, капельку вина.
– А откуда их достают, мешки с золотом, со дна моря?
Барбара бестолковая, она ничего не может объяснить, Барбара не знает, откуда достают мешки с золотом, она даже не знает точно, есть ли в них золото, потому что уже рассказывает про табак, который сладко пахнет медом и сушеным инжиром. Барбара говорит о монетах, о звонких золотых монетах, тех, что моряки достают из грозного коварного моря, которое начинает бурлить, клокотать и пениться, когда меньше всего ожидаешь; Барбара говорит о море, о море, где дует теплый сирокко, а то вдруг ледяной мистраль, и тогда оно разбивает корабли о высокие скалы.
– Но почему, почему они не могут подождать, пока море успокоится, и почему в какой-нибудь летний день не бросят якорь возле отмели, где такой мягкий, такой гладкий, такой желтый и горячий песок?
Барбара смеется, ее смех – словно перезвон золотых монет, Барбара смеется и надменно говорит, что мужчины уходят в море, чтобы добывать золото, много монет, горы золотых, которые они делят, сидя вокруг стола, не то что некоторые, знает она таких, те, что приходят к морю только задницу помочить.
– Бесстыдница, ты просто бесстыдница, Барбара, нельзя говорить «задница», мама говорит, что нельзя так говорить.
– Говори как хочешь, – возражает Барбара, – «задница», или «ягодицы», или, если тебе так больше нравится, «мягкое место». Все равно море для вас – та капелька воды, где вы мочите кончики пальцев, там, у волнореза в бухте.
Море – не просто вода, девочка понимает это, хотя и не может объяснить Барбаре, которая совсем ее не слушает. Она не может объяснить, почему вода в душе или в ванне, вода из крана на кухне или из рукомойника в саду только мочит тело. Море зовет тебя, подпускает совсем близко и обволакивает сладким дурманом, тихо вздыхает и нашептывает на ухо чудную сказку, которая никогда не кончается. А какая дивная, волшебная грусть охватывает тебя каждый вечер, когда видишь, как там, далеко-далеко, солнце встречается с морем!
– Что ты бормочешь? – спрашивает Барбара и, не дожидаясь ответа, говорит: – Его убили, на пустыре, там, где большой крест.
И неизвестно, говорит ли Барбара о своем отце или о своем муже и был ли он ее мужем или женихом. Барбара постоянно сыплет словами, всегда и везде, что бы она ни делала, подметает ли кухню, лущит ли горох, замешивает ли тесто или воюет с непослушными волосами девочки, затягивая их, чтобы не спутались, когда та будет нырять в море.
– Подумать только, бросаться с головой в море, глупость какая, как будто это купальня или пруд.
– Ты говоришь, его убили, Барбара? Кто же его убил?
– Море.
– Море?
Барбара не отвечает, и на минуту воцаряется молчание, но вот она снова проводит гребнем по волосам девочки и снова бормочет под нос что-то непонятное.
Барбара и говорит и молчит по-своему. Ее молчание, так же как и ее разглагольствования, полно смысла. За словами Барбары всегда стоит что-то таинственное и прочное, что направляет разговор, куда захочет, и никогда не знаешь, куда он направится. Поэтому Барбара не любит, когда о чем-нибудь спрашивают, и всегда отвечает вопросом на вопрос.
– Барбара, а почему ты никогда не ходишь купаться?
– Куда ты подевала эспарденьи, а? Живо говори! – И вдруг ни с того ни с сего – Что такое море, по-твоему, стрекоза? Ты ведь не знаешь – оно коварное. Еще какое коварное. Зачем, по-твоему, мужчины уходят в море, глупышка? Потому что море богатое, и, если люди побеждают, они отбирают у него мешки с золотом. Поэтому моряки позванивают золотыми монетами и смеются над крестьянами, которые всю жизнь только и знают, что копошатся в своей земле и плодят детей, таких же сгорбленных, таких же рабов земли, как и они, рабов дождя и града.
– А откуда их достают, мешки с золотом, со дна моря?
Объяснения Барбары уже совсем невразумительны, потому что она не знает, откуда берутся мешки с золотом, и золото в ее рассказах давно превратилось в табак, в мешки и ящики, завернутые в клеенку, чтобы, не дай бог, не промокли, полные светлого табака, кажется, Барбара говорит, что он светлый, как золото, тот табак, что пахнет медом и сушеным инжиром. Монеты, множество звонких монет раскладывают на столе в одинаковые кучки, они поблескивают при свете керосиновой лампы. Эти звонкие монеты мужчины отнимают у моря, у коварного моря, у моря, которое бурлит и клокочет и не желает расставаться со своими сокровищами. Коварное море в самый неожиданный момент вздымает большие волны и разбивает корабли о высокие скалы, так было и когда разбилась «Мариола», на которой погибли отец и муж или жених – кто его знает, – а может, просто выдуманная любовь Барбары.
– Ну почему же контрабандисты не могут подождать, пока море успокоится, почему? И почему в тихий летний день не бросят якорь возле отмели, где песок такой мягкий, такой гладкий, такой желтый, такой золотой, как ты любишь говорить, Барбара?
Барбара смеется, ее смех будто перезвон золотых. Барбара смеется, гласные «о» и «э» растягиваются и пробираются из горла к кончику носа, и смех такой живой, такой густой и сочный, что Барбара давится смешинками и чихает, а потом вытирает слезы на глазах краем передника. Когда наконец смех, идущий откуда-то из глубины, прекращается, Барбара объясняет девочке, что мужчины уходят в море за золотом, за звонкими золотыми монетами, а те, что вечно торчат на берегу, знаем мы, зачем они приходят к морю – задницу помочить.
– Бесстыдница, да ты просто бесстыдница, Барбара, нельзя говорить «задница», разве ты не знаешь, что нельзя так говорить?
– Называй как хочешь, «задница», или «ягодицы», или, если тебе так больше нравится, «мягкое место». Все равно, море для вас – та капелька воды, где вы мочите кончики пальцев, там, у волнореза в бухте.
Девочка знает, что море – совсем не то, что вода, и она так хотела бы рассказать об этом Барбаре, но та расчесывает ей волосы и не слушает, совсем не слушает. Вода из душа, или из крана, или из рукомойника в саду – просто-напросто вода, она мочит кожу и одежду, но море, море доброе и ласковое, хотя иногда – суровое, оно затягивает тебя глубоко-глубоко, а потом возвращает на поверхность, и еще, еще эта черта, эта таинственная черта, там, далеко-далеко, где на закате встречаются солнце и море.
– Что ты бормочешь? – спрашивает Барбара и, не дожидаясь ответа, говорит – Его убили, когда дули сильные ветры с запада.
И непонятно, говорит ли она о своем отце или о своем муже – муже или женихе? – или просто о каком-то неизвестном, и погиб ли он, когда разбилась о скалы «Мариола», или его застрелили, и кто его застрелил, может быть, карабинеры, которые выслеживают жертву, когда контрабандисты, словно муравьи, один за другим выползают из трюма корабля с тюками за спиной, а может быть, его же дружки в таверне из-за какого-нибудь туза или шестерки или потому, что он не предупредил их об опасности и не закричал в темноте, как жаба, и карабинеры неожиданно накрыли всех в трюме.
– Его убили? Кто его убил?
– Море, – отвечает Барбара, – подумать только, бросаться с головой в море, глупость какая, как будто это купальня или пруд.
Вот девочка наконец выскользнула из цепких пальцев Барбары и радостно бежит, бежит к морю, до нее долетают обрывки слов Барбары, слов, которые сыплются часто-часто, будто горошинки из стручка.
– Осторожнее, море такое коварное. Море заманивает в ловушку и тянет на дно.
Жоан Перучо
Духи и привидения
Вообще-то говоря, вызывать духов, сидя вокруг стола, было не так уж сложно. Они попадались буквально на каждом шагу. В самом Париже частенько появлялся, даже не дожидаясь, пока кому-нибудь взбредет в голову его вызвать, призрак Жака де Молея – магистра ордена тамплиеров, сожженного заживо в тысяча триста четырнадцатом году, – который нахально разгуливал по городу. Излюбленными местами его променадов были площадь Дофин, стрелка Вер-Галан и Пон-Нёф. Музей Клюни имел собственное окровавленное привидение, являвшееся только особам женского пола прямо средь бела дня, в зале, где выставлялись орудия пыток. Не говоря уже о невероятном количестве безвестных призраков, которые уныло бродили по ночам среди могил кладбища Пер-Лашез, громко жалуясь на свои беды и горести. Один из них – призрак соблазненной и покинутой девушки – оставлял на земле источающий аромат духов след из тончайших кружевных платочков, влажных от безутешных слез.
Однако приезд из Чарлстона некоей Софии Уальдер, которая после смерти одержимого дьяволом отступника «аббата Констана» стала во главе масонов-спиритов, взбудоражил весь Париж. Сеньорита Уальдер блистала неземной красотой и считалась любимой ученицей генерала Альберта Пайка, учредителя Палладиума – обновленного ритуала сторонников «тайного учения». София обладала поистине дьявольским характером, леденящим душу взглядом и удивительной проницательностью. Лео Таксиль[77] полагал, что именно она написала слова так называемой «Антиклерикальной Марсельезы», бичующие строки которой стали столь знаменитыми.
Сеньорита Уальдер заставляла дьявола являться взорам восхищенной публики собственной персоной. Когда она проделала это впервые, зрелище было ужасным, зато авторитет заклинательницы с тех пор стал непререкаемым. Вот как описывает это событие в своей книге «Дьявол в XIX столетии» известный знаток оккультных наук доктор Батай: «Сеанс происходил в доме мадам X., однажды в субботу, в день, посвященный Молоху. Очаровательная София Уальдер, не предупредив никого о своих намерениях, выкрикнула семь раз подряд имя антихриста – Аполлониус Забах. Сразу вслед за этим она произнесла заклинание Молоху и скромно извинилась за то, что нарушила ритуал, умоляя кровавое божество явиться без принесения жертвы. Неожиданно стол, за которым происходил спиритический сеанс, подскочил к потолку, а затем превратился в отвратительного крокодила с крыльями летучей мыши. Ужас объял ошеломленных гостей, они буквально окаменели от страха. Каково же, однако, было всеобщее изумление, когда крокодил направился к стоявшему в зале роялю, уселся за него и начал извлекать из инструмента какофонические звуки, время от времени бросая на мадам X., хозяйку дома, выразительные пламенные взгляды, которые смутили ее целомудрие и внесли смятение в душу этой добродетельной женщины.
Наконец крокодил с крыльями исчез, избавив гостей от своего ужасного присутствия, но странное дело – все бутылки с вином, стоявшие в буфете, почему-то оказались пустыми.
Успех сеньориты Уальдер поднял ее авторитет медиума на недосягаемую высоту. Однако вскоре из масонских лож Филадельфии до Парижа докатились слухи о другой особе, обладавшей сверхъестественными магическими способностями. Ее звали Диана Воган, поговаривали, что она тоже хороша собой, но красота ее отнюдь не демоническая, а скорее ангельская. Однажды Диана, вознамерившись покинуть Новый Свет и переехать в Европу, подала в парижскую ложу прошение с просьбой принять ее туда. София Уальдер почувствовала недоброе и употребила все свое влияние, чтобы убедить секретаря ложи, некоего Бордоне, выступить против. Заседание Совета тайного общества, посвященное данному вопросу, едва успело начаться, когда раздался душераздирающий вопль. В ту же минуту все увидели, как голова злодея Бордоне повернулась на 180 градусов и осталась в этом положении. Поистине титанические усилия присутствующих вернуть голову на законное место успехом не увенчались. Наконец София вызвала духа одной знаменитой заклинательницы, который возвестил, что виновником происшествия был Асмодей, покровитель Дианы Воган, и что только она, если, конечно, будут принесены необходимые извинения, может помочь Бордоне выйти из столь затруднительного положения.
Магистр ложи «Сен-Жак» (а она называлась именно так) телеграфировал «ipso-facto»[78] в Филадельфию самые искренние заверения в совершеннейшем своем почтении, после чего Диана объявила о немедленном отъезде в Париж, а Бордоне стал с нетерпением ждать конца ее двадцатидневного путешествия по просторам Атлантики. Несчастный потерял аппетит, сильно похудел и просиживал целые дни дома, замотав голову огромными шарфами. Тем, кто приходил его проведать, сообщалось, что господина Бордоне нет в городе. Когда Диана наконец осчастливила Париж своим приездом, многострадальный секретарь бросился к ее ногам, умоляя о прощении. Сеньорита Воган, у которой, несмотря на суровый нрав, было доброе сердце, уступила его мольбам и, взяв голову Бордоне руками, осторожно вернула ее в нормальное положение.
После этих необыкновенных событий звезда Софии Уальдер потускнела. Черная зависть снедала ее сердце. Ненавистная соперница добивалась больших успехов, превосходя ее решительно во всем. Однажды София Уальдер вызвала дух Рамона Сибиуде[79], который ответил по-латыни, оставив на столе листок бумаги со следующим текстом: «Omnes qui eidem Adamo participavimus atque a serpente in fraudem inducti sumus, per peccatum mortui, ac per coelestem Adamo(um) saluti restituti atque ad vitae lignum…»[80] – и т. д. В записке два раза употреблялось слово «Adamo», тогда как, следуя правилам грамматики, второй раз нужно было написать «Adamum». Возможно ли допустить, чтобы Сибиуде делал ошибки в латыни? Ну конечно же нет! – торжествовала Диана. Эта неудача оказалась для Софии Уальдер роковой и положила конец ее карьере.
Блистательная Диана заняла «трон» соперницы и царила там долгие годы. Однако в старости она обратилась в истинную католическую веру, исповедалась в своих грехах и незадолго до смерти опубликовала мемуары, где разоблачала масонские ложи. Эти «Мемуары» были распроданы в мгновение ока, но второе издание, как ни странно, до сих пор не появилось.
О судьбе Софии Уапьдер ничего не известно, и ее следы теряются во мраке. Через несколько лет после описанного нами злополучного происшествия распространился слух, будто бы какие-то лисабонские колдуны отрезали ей руки, которые на спиритическом сеансе, двигаясь сами по себе, отвечали на любой вопрос. Многие бросились на поиски этих чудесных рук и готовы были заплатить за них любые миллионы, но найти их так никому и не удалось. Вот и вся история, histoire a dormir debout[81], как говорят французы. Тем не менее я знаю людей, одержимых, с бледными лицами и остановившимся взглядом, которые не потеряли надежду и все еще ищут эти необыкновенные руки, ищут в лавках таксидермистов, антикваров и старьевщиков; в предместьях больших городов и на пустырях, там, где мальчишки играют в футбол, рядом с недостроенными зданиями, ищут среди обломков полуразрушенных домов и груд мусора, потому что все можно найти в этих местах; руки Софии Уальдер, мятые поблекшие цветы нищеты, а может, магическое заклинание, которое разом перевернет весь мир.
Каллиграф
Он вырос в темной грязной конторе Додсона и Фогга – небезызвестных читателю поверенных коварной недоброжелательницы мистера Пиквика – вдовы-истицы Марты Бардл – и с детских лет вдыхал затхлый сырой воздух этого заведения, пропитанный испарениями от самых разнообразных портящихся предметов. Должно быть, на формирование внешности нашего героя – человека немощного и чахлого – наибольшее влияние оказали драная, засаленная обивка мебели и старые, местами истлевшие портьеры. Что касается внутреннего развития его личности, то здесь, вне всякого сомнения, решающая роль принадлежит великому искусству красиво и разборчиво писать, называемому каллиграфией, которое он изучил, перелистывая кипы старых, давно забытых дел, до отказа заполнявших полки конторы Додсона и Фогга. Мастерски выведенные буквы, заботливо сохраненные для потомства, положили начало его истинной страсти к каллиграфии. На пыльных полках можно было обнаружить любые образцы этого ныне утраченного искусства – от строгого, тяжелого почерка былых времен до почти фривольных завитушек теперешних лондонских денди. Впрочем, это и не удивительно, если иметь в виду, что господа Додсон и Фогг унаследовали контору от своих родителей, а те соответственно от своих, и так далее вплоть до всеми забытых далеких предков, о которых известно только, что они тоже являлись ревностными служителями Юриспруденции, стояли на страже Закона и следили за выполнением решений Суда. Надобно заметить, что господа Додсон и Фогг были весьма довольны этим обстоятельством и не упускали случая напомнить клиентам свою «судейскую» родословную, любезно улыбаясь и легко постукивая кончиками пальцев по стоявшему на столе серебряному чернильному прибору.
Каллиграф – как окрестили нашего героя – провел детские и юношеские годы в тщательном изучении самых разнообразных и чудесных приемов письма и, будучи от природы человеком способным, настолько преуспел на этом славном поприще, что вскоре стал пользоваться в Лондоне неоспоримым авторитетом. Он обладал завидным трудолюбием, а потому быстро освоил английский курсив, воскресив из небытия и изучив забытый труд Чарльза Снеля «Техника и практика письма». Кроме того, Каллиграф проштудировал сочинения Эдварда Кокера, Томаса Уатсона и Дункана Смита, заимствовав у последнего в высшей степени любопытный «мелкий английский курсив». Несмотря на то что Каллиграф был настоящим патриотом, именно его перу принадлежат страницы откровенной критики (или критической откровенности) в адрес англосаксонской манеры письма. Особенно известным стало следующее глубокое суждение: «В последнее время англичане достигли завидных успехов, доказав с пером в руке, что в каллиграфии отличаются тем же тонким и изысканным вкусом, что и в прочих искусствах. Однако, несмотря на известные превосходства, настолько выделяющие эту нацию среди других, приходится признать, что даже самые лучшие образцы английского письма все же не лишены недостатков. Ну разве позволительно забывать о том, что широкие и приземистые буквы делают почерк неуклюжим, лишая его легкости и изящества! Этот эффект еще более усиливается вследствие недостаточного изгиба соединительных линий (называемых также линиями связи), которые располагаются между буквами. Кроме того, большой урон красоте письма наносится тем, что в Англии оно выполняется очень тонким пером с двойным срезом. Таким пером совершенно невозможно плавно и естественно выводить «жирные» и «волосяные» линии, составляющие, пользуясь выражением живописцев, «светотень» каллиграфии. Более всего этот недостаток проявляется в так называемом «рондб», или национальном курсиве. Это письмо, изысканное и хорошего вкуса, могло быть куда более быстрым, если бы англичане приучились, как прочие нации, к естественному, ровному и мягкому движению пера, а не нажимали бы на него изо всех сил, чтобы достичь утолщения линий, которого нельзя добиться иным способом, используя перо слишком острое или слишком тонкое».
Ученые мужи не только Англии, но и всей Европы высоко оценили данное суждение, а один из них – дон Торквато Торио де ла Рива-и-Эрреро, почетный член Королевского экономического общества в Мадриде, смотритель архива его светлости сеньора маркиза д’Асторги, переписчик королевских привилегий и хранитель библиотеки древних рукописей его величества, даже включил слова Каллиграфа (как свои собственные) в книгу «Искусство письма», снабдив их следующим комментарием: «Конечно, мы, испанцы, с негодованием взираем на это жалкое подобие букв, производимых таким тонким острием пера, но разве сердца англичан не переполняют те же чувства при виде наших букв, написанных толстым пером, разве не производят они на чопорных британцев впечатление каракулей, выведенных клюкой, а то и старой разбитой метлой? Несомненно одно: каждая нация в данном вопросе имеет право на собственную точку зрения».
Итак, Каллиграфу стали доверять переписку разнообразных прошений и ответов, а также бумаг, связанных с делами самого тонкого и деликатного свойства. Постепенно он сделался главным писцом в мрачном заведении Додсона и Фогга. Здесь же во время известной тяжбы, так подробно описанной Диккенсом, наш герой имел счастливый случай познакомиться с мистером Самюэлем Пиквиком, который произвел на него впечатление человека в высшей степени замечательного и тонкого. Когда Каллиграф впервые увидел мистера Пиквика, тот сидел в приемной конторы в своих неизменных гетрах и поглаживал длинные бакенбарды. Клерк подождал, пока клиент от души чихнет, затем подошел к нему и вежливо попросил:
– Будьте любезны, вашу повестку, сэр.
– С большим удовольствием, – ответил мистер Пиквик, – прошу вас. Она написана прекрасным каллиграфическим почерком.
– Благодарю вас, сэр, – сказал Каллиграф, краснея.
– Да, теперь так уже не пишут. А право, жаль.
– Вот именно! Особенно если учесть, что искусство каллиграфии, делающее начертанную мысль зримой и яркой, столь же полезно, сколь необходимо нашему обществу.
– О! Какие похвальные мысли, юноша! Продолжайте в том же духе, и ваши труды не пропадут даром.
– Благодарю вас, сэр.
Так началась их дружба с мистером Пиквиком. Через некоторое время обстоятельства сложились так, что разрыв нашего героя с господами Додсоном и Фоггом стал неминуем. Однажды, когда хозяева конторы пили чай в своем кабинете, неожиданно вошел Каллиграф с огромной кипой бумаг. Мистер Фогг (еще больший эгоист, чем его приятель мистер Додсон) поспешил спрятать за стопкой книг лишний кусочек бисквита, чтобы не пришлось отдать его «этому чудовищу» (как они ласково прозвали своего клерка), однако Каллиграф успел заметить предательский жест, поселивший в его душе грустное разочарование, которое затем переросло в самое мрачное отчаяние. Едва клерк покинул кабинет, Додсон и Фогг вернулись к превосходному бисквиту, недавно купленному в «Золотой ягоде» – известной кондитерской во Фрименс-Корте на Корнхилле.
Не зная, как поступить дальше, Каллиграф все же покинул унылую конуру блюстителей закона и после долгих сомнений и колебаний отправился к мистеру Пиквику. Тот взял клерка под свое покровительство, дал место секретаря в знаменитом клубе (на полном пансионе!) и возложил на него весьма важную миссию, а именно переписку своих «Записок» бисерным французским почерком. Каллиграф близко познакомился с господами Уинклем, Снодграссом и Тапменом и принимал участие в их веселых пирушках и пикниках на лоне природы. Он стал также приятелем Сэма Уэллера и переписывал все его любовные послания. Далее в жизни нашего героя начинается темный период.
Изобретение пишущей машинки было для Каллиграфа смертельным ударом. Он бродил по улицам, потеряв всякие надежды, с грустью вспоминая о былом, о безвозвратно ушедших в прошлое чудесных руководствах по каллиграфии. Теперь уже никто не обучал этому высокому искусству. Шли годы. Не так давно в Лондоне в моду вошла пошлая и сентиментальная песенка «Сиротка», которая почему-то напомнила мне о Каллиграфе:
Нет у меня папочки,
нет у меня мамочки,
бедного сиротку
кто теперь полюбит?
Казалось, красота исчезла с лица земли. Что делать, так иногда бывает. И скорее всего, это неизбежно.
Балтазар Пореел
Генета[82]
У каждой было растерзано горло и высосана кровь. Жозеп Ботинес пошевелил рукой три валявшиеся на земле безжизненные тушки. Да, еще теплые, но мертвые, все три. Он выпрямился в задумчивости. Уже второй раз генета нападает ночью на его курятник. Собственный курятник Ботинеса, где птицу кормят только зерном и отрубями – его птица ничего другого и клевать не станет… да, есть еще цыплята, которых он откармливает рыбной мукой на паях с Мелсионом Террасой, но о них и думать-то неохота: так провоняли рыбой, что с души воротит. Тут Жозеп зажег сигарету и пошел к дому, погруженный в раздумья.
Третьего дня не успел он лечь спать, как его поднял на ноги неистовый гвалт. Он вскочил и побежал к курятнику, где был полный переполох: кудахтали и хлопали крыльями куры и среди них металась стремительная тень. «Генета!» – вскрикнул Ботинес и, схватив попавшийся под руку молотильный цеп, быстро откинул щеколду. Он увидел вконец испуганных, сбившихся в угол птиц, а у самой двери – распростертую в неподвижности генету. Рядом еле заметно дергались две истекавшие кровью курицы. В воздухе кружились, в прихотливом и плавном полете, легкие куриные перья. Осторожно он потрогал рукою жесткую звериную шерсть. «Дьявол тебя забери! Неужели мертвая?.. Ну-ну… Не знаю, не знаю, может, какой петух ее клюнул в череп…» – так говорил себе в удивлении Жозеп Ботинес, и все колебался – добивать ли, нет ли непрошеную гостью. Как вдруг зверь рванулся со скоростью молнии, метнулся в открытую дверь, а там и пропал в поле, в высоких, слегка волнуемых ветром колосьях золотистого ячменя.
Тогда он привел в порядок и укрепил растерзанную решетку оконца. Но вот и сегодня его поднял с постели шум и гам в курятнике: хищнице снова удалось туда проникнуть. И сбежать до его прихода. Подобрав мертвых кур, Жозеп бросил тушки свиньям, которые и сожрали их в мгновение ока. Конша, жена, как чумы боялась обескровленного мяса. Старики говорили: кто ест такое мясо, умрет той же смертью. В полночь прилетит большая страшная птица с лицом человека, сядет тебе на постель и высосет из тебя всю кровь… «Ну, погоди у меня…» – пробормотал Жозеп Ботинес и пошел спать.
На другой вечер, поужинав, он вышел из дому, прихватив с собой двустволку шестнадцатого калибра. Ночь была чудесная, тихая, лунная. Человек шел настороженно, ко всему готовый, и сверчки, первые летние сверчки, смолкали, когда он проходил мимо. Где-то вдали выла собака. Жозеп шел к полоске земли, пролегавшей между полем и рощицей каменного дуба, – заброшенной полоске глинистой земли, усыпанной щебнем, где росло несколько рожковых деревьев да пара смоковниц. Скудная земля, негодная для посева; только высокому, буйно цветущему чертополоху было здесь привольно.








