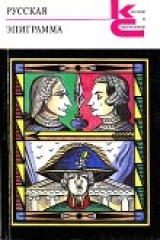
Текст книги "Русская эпиграмма"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Annotation
В сборник включены лучшие образцы русской эпиграммы от истоков до начала XX века: Симеона Полоцкого, М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, П. А. Вяземского, А. С. Пушкина, М. Горького, В. Маяковского и др.
РУССКАЯ ЭПИГРАММА
БЕГЛЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭПИГРАММУ
НАРОДНОЕ
ОТ ИСТОКОВ
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА
1890-е ГОДЫ – НАЧАЛО XX ВЕКА
СОСТЯЗАНИЯ В ОСТРОУМИИ
ПРИМЕЧАНИЯ
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
РУССКАЯ ЭПИГРАММА


БЕГЛЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭПИГРАММУ
Благоговею перед созданием «Фауста», но люблю и эпиграммы. А. С. Пушкин
Эпиграмма родилась в Древней Греции приблизительно две тысячи восемьсот лет назад. Литературным жанром она стала не сразу, о чем речь впереди, но когда прочно утвердилась в литературе, то значимость ее возросла настолько, что и за пределами этого жанра любая острота, причем даже в прозаическом изложении, получила в новое время почетное право называться эпиграммой.
Сегодня в мире преобладает сатирическая эпиграмма. В античности же это ее качество проявилось как результат длительного развития. Там ей сначала отводилась роль посредницы между простыми смертными и обитателями Пин-да. Эпиграмма представляла собой посвятительную надпись на треножнике, на щите, на вазе или на другой утвари богу-покровителю (эпиграмма в переводе с греческого и означает «надпись»). В дальнейшем прибавилась разновидность эпиграммы – эпитафия, то есть надгробная надпись, сообщавшая, как и теперь, краткие сведения об усопшем человеке.
Чем короче был текст, тем легче труд резчика, который работал на твердом материале, в основном на камне. Поскольку надпись служила только для того, чтобы обессмертить факт приношения, то она заключала сухую бесстрастную информацию, и не более. Мало-помалу в ней стихийно начали появляться строки, согретые чувством любви, в эпитафии – чувством скорби. Пробуждение эмоций, а вместе с ними и художественных черт позволило эпиграмме в VII–VI веках до н. э. перейти с мемориального предмета на свиток и встать в ряд с другими лирическими жанрами литературы.
Изменение статуса обогатило эпиграмму новым содержанием. Ее темой стали мимолетные философские размышления о мире и сам предметный мир во всем его многообразии. Теперь поэту представлялась возможность выразить в эпиграмме любую мысль; любую, но традиционно только одну, и эту одну-единственную мысль по канону он обязан был завершить оригинально. Своеобразная, неожиданная развязка стихотворения, называющаяся по-латински клаузулой, у французов – пуантом, а в нашем обиходе – солью эпиграммы, составляет ее душу. Любопытное наблюдение сделал английский поэт XIX века Колридж:
Для эпиграммы нужна быстролетность.
Плоть ее – краткость, душа – искрометность.
По мере того как эпиграмма стала окрашиваться в сати-оические тона, роль пуанта возрастала. А сатирические тона в ней улавливаются уже в VII веке до н. э. Вот как Архилох ополчался на гетеру:
Много ворон на утесе смоковница кормит плодами:
Всех Пасифила гостей, добрая, рада принять.
(Перевод Л. Блуменау)
Но эпиграмматический смех в полный голос зазвучал лишь на рубеже новой эры, чему способствовали особые обстоятельства: разложение рабовладельческого строя и падение нравов, вызывавшее негодование и сарказм художников.
Попав из Греции в Древний Рим, эпиграмма расцвела в устах гениального Марциала, который творил в «вечном городе», начиная с последних лет правления Нерона до смерти императора Домициана (96 г.), и создал там около полутора тысяч наполненных горькой правдой зарисовок из жизни агонизирующей империи.
В то время как античная городская цивилизация изживала себя, а роль культурно-просветительских центров в известной мере начали играть христианская церковь и монастыри, сатирические эпиграммы сошли на нет. Вновь наибольшее распространение получили эпиграммы посвятительные, и прежде всего христианские. Как видим, путь эпиграммы к своему классическому облику был извилист.
Сатирическую эпиграмму вернули к жизни писатели европейского Возрождения. Гуманисты великой эпохи сначала сочиняли эпиграммы по канонам, выработанным в античности. Образцом им служили греки, в частности сатирик I века Лукиллий, и древнеримские поэты Катулл, Марциал и Авсоний. До XVI века эпиграммы в основном писали по-латыни, а с XVI века появляются острые стихотворные мысли на современных европейских языках: итальянском, французском, испанском, английском, польском.
С некоторым опозданием эпиграмма становится популярной и в России. Почва для нее была подготовлена фольклором и всем предшествующим развитием литературы. У нас сатирическая фольклорная традиция на редкость разнообразна и по жанрам, и по сюжетам. Наряду со сценкой-позорищем (что в древности означало театральное представление), с острым словцом, с потешкой, с шуточной песенкой бытовали колкие пословицы и прибаутки, такие, как: «Жыть было весело, да исть нечево», «Хлеба ни куска, а платья ни лоскутка», «Аптека улечит на полвека». Что же касается сюжетов, то отголоски многовекового поношения дворянства и духовенства, неунимающаяся издевка над отдельными пороками искрятся в раешных стихах посадского люда, например: «И садится рак, // печатной дьяк, // на ременчатой стул, // чтобы чорт не сдул» («Повесть о Ерше») или «Радуйся, что у тебя бороденка выросла, //а ума не вынесла!» («Сказание о попе Саве и о великой его славе»).
На раннем этапе развития фольклор в России особенно действенно влиял на литературу, а литература, в свою очередь, на фольклор. Наглядную картину этого взаимопроникновения показывает творчество посадских людей, занимающее промежуточное положение между литературой и фольклором, когда эпиграмматически заостренные выражения можно обнаружить даже в длинных повествовательных стихотворениях. Народные же пословицы в эпиграмматическом духе настолько близки жанру эпиграммы, что между ними иногда невозможно провести границу. Сравним построенные на игре слов державинскую эпиграмму: «О, как велик На-поле-он! // Он хитр и быстр, и тверд во брани; // Но дрогнул, как простер лишь длани // К нему с штыком Бог-рати-он» (т. е. Багратион) и народную пословицу, сложенную в те же годы: «Был не опалён (т. е. Наполеон, имя которого крестьянину трудно выговорить. – В. В.), а из Москвы вышел опалён». Они образуют удивительное жанровое единство.
Впрочем, в этом ничего удивительного нет: общие законы человеческого мышления и мировосприятия принципиально одинаковы как для всех общественных классов, так и для всех народов. На Востоке жанр эпиграммы существовал, кажется, только в арабском и персидском средневековье, но у скольких философов и поэтов – в китайских изречениях Конфуция, в индийской лирике Кабира и в других литературах – встречаются миниатюры, которые иначе чем эпиграммой не назовешь. Взять хотя бы стихи курдского поэта Ха-жара (родился в 1920 году в Иране). Явно из кладезя народной мудрости почерпнул он тему традиционного восточного гостеприимства, пришедшего в противоречие с бедностью, а может быть, и со скупостью старика: «Мчался всадник. // «Куда ты в полночную тьму? // Заночуй у меня!» – крикнул старец ему. // Всадник ждать не заставил: «Коня мне куда бы // Привязать?» – «Привяжи к языку моему».
В России также со времени появления письменности эпиграмматические элементы присутствовали во всех жанрах, в том числе в так называемых обличительных словах, восходящих к традиции византийского учительского слова. Темой их обличения служили «идоломоление», волхвование, верование в «птичий грай», «плясания беззаконная», то есть ритуальные пляски, сохранившиеся еще от дохристианской эры, а из человеческих пороков «запойство», златолюбие, «татьба», поклеп, злосердие, «лжа», блуд и «вся прочая». Острое слово выковывается и в сатирических повестях. Не обходится без взаимных выпадов и жаркая схватка публицистов. Сатира проглядывает в отдельных исторических анекдотах, в изречениях мудрецов древности («Апофтегматах»), является основным элементом переводных басен Эзопа и известных на Руси со второй половины XVII века «смехотворных новелл» – фацеций, или жартов (от польского слова «шутка»). И наконец – пародия. Целая ветвь демократической литературы брала за основу пародическое переосмысление высокой словесности и даже церковной службы. Вот как в сатирической «Службе кабаку» пародируется известная молитва «Святыи боже, святыи крепкий, свя-тыи бессмертный, помилуй нас»: «Свяже хмель, свяже крепче, свяже пьяных и всех пьющих помилуй нас голянских».
Несмотря на то что сатирический дух властвовал в древнерусской литературе от самого ее зарождения, сатира как жанр сложилась в ней только в XVII веке. Академик Д. С. Лихачев отмечает: «Никогда еще ни до XVII века, ни после русская литература не была столь пестра в жанровом отношении. Здесь столкнулись две литературные системы: одна отмиравшая, средневековая, другая зарождающаяся – нового времени».
Новая система была связана с барокко, первым в России литературным направлением. Исходный принцип барочной эстетики – сопряжение несоизмеримых или полюсных понятий и вещей – основывался на теории остроумия (acumen) и благоприятствовал скорейшему появлению эпиграммы, для которой к тому времени созрела и общественно-историческая обстановка
Если в национальные литературы стран Запада эпиграмма пришла через латынь, то у восточных славян активно действовали сразу два языковых фактора: та же латынь и книжно-славянский язык, на котором в несколько отличающихся одна от другой редакциях писали и украинцы, и белорусы, и русские. И. Н. Голенищев-Кутузов справедливо говорил: «Комплекс польско-украинско-русской культуры XVI–XVII веков не следует разбивать, исключая взаимные влияния, охраняя призрачные границы «самобытности», гораздо важнее братская связь на Востоке славянских народов. Вспомним лучше свободные дары на поприще школьного дела, образования, красноречия и пиитики, поступавшие на северо-восток из Украины и Белоруссии».
Если это положение развить применительно к эпиграмме, то нельзя не заметить, что в украинской литературе она появилась в конце XVI столетия, что ей отдали дань почти все украинские поэты XVII – первой половины XVIII века, связанные с киевской школой, и что в этом жанре особенно ярко блеснул Иван Величковский (ум. 1701), который переводил на книжно-славянский язык неолатинского поэта из Англии Джона Оуэна и сочинил много оригинальных эпиграмм (они сохранились в рукописных сборниках 1670—80-х годов). Что-то из стихов наверняка попадало в Московию хотя бы через Киево-Могилянскую академию, поставлявшую культурные кадры всему восточнославянскому региону.
А у белоруса Симеона Полоцкого, царем Алексеем Михайловичем приглашенного в Москву на постоянное жительство, находим первые эпиграмматические опыты, созданные под небом России. Его «Вертоград многоцветный» и по названию, и по содержанию примыкает к барочным
9
«Садам» современных ему польских поэтов Кохановского и Потоцкого, которые также вырастили немало фрашек (фраш-ка в Польше – род эпиграммы). Не следует только забывать, что в те времена унаследованная от античности эпиграмма понималась шире, чем сегодня. По тогдашним представлениям, у Симеона Полоцкого эпиграмм предостаточно, но в поисках истоков именно сатирической эпиграммы нам хочется знать, существовала она тогда или не существовала. Для этого проведем некоторые сопоставления. Возьмем двустишие Лермонтова «Тот самый человек пустой, // Кто весь наполнен сам собой», одну из надписей Карамзина на статуе Купидона «Любовь – анатомист: где сердце у тебя,// Узнаешь, полюбя» и двустишие Симеона Полоцкого «Огонь есть со сеном – инок со женами, //Не угасимый многими водами». Приведенное выше двустишие Лермонтова и два ему подобных («Есть люди странные…» и «Стыдить лжеца…») включены в только что переизданную «Библиотекой поэта» (Большая серия) «Русскую эпиграмму». Однако того же типа карамзинские «Надписи на статую Купидона» (см. на с. 93) и весь Симеон Полоцкий оказались за пределами книги, поскольку «Библиотека поэта» решила изъять из предшествующего издания все, что не подходит под понятие сатирической эпиграммы.
Сразу возникает вопрос: что подходит и что не подходит под понятие сатирической эпиграммы? Наша «Краткая литературная энциклопедия» (т. 8, стлб. 914) в числе ее признаков, кроме краткости и сатиричности, о чем уже говорили и мы, называет конкретность (т. е. «стихи на случай»). Этот третий признак ни к одному из только что приведенных стихотворений не подходит. Но, на наш взгляд, он вовсе не обязателен. Согласно зарубежным энциклопедиям, эпиграммой называется, как правило, небольшое стихотворение, изящно и афористично выражающее какую-нибудь мысль и заканчивающееся пуантом, в настоящее время чаще всего сатирического характера. Исходя из такого определения, думается, самого правильного, рассмотренные стихотворения следует признать юмористическими (карамзинские «Надписи на статую Купидона») и сатирическими эпиграммами (Лермонтов и Симеон Полоцкий)
Если даже кто-то с нами не согласится и в качестве абсолютного доказательства потребует сатирических «стихов на случай» в рамках XVII века, то и здесь найдутся примеры. Это хотя бы разговор философа Диогена с его учениками о том, как его хоронить, у Симеона Полоцкого и у Евфимия Чудовского двустишие по случаю выхода в свет сборника проповедей Симеона Полоцкого «Обед душевный».
Любопытно еще вот что: эти стихотворения XVII века дают представление о двух основных типах сатирических эпиграмм, на которые, по нашему мнению, делится рассматриваемый жанр. К одному типу принадлежат эпиграммы-остроты. Они предельно кратки, как, например, двустишие Евфимия Чудовского. В качестве пуанта в них используются разные намеки, каламбуры, игра слов и другие хитроумные приемы. За молниеносность их можно было бы назвать блиц-эпиграммами. В XVII веке их успешно применял на практике и ратовал за них в теории законодатель французского Парнаса Буало. В своем трактате «Поэтическое искусство» он резюмировал:
Стих эпиграммы сжат, но правила легки:
В ней иногда всего острота в две строки.
(Перевод Э. Липецкой)
Немецкий просветитель Лессинг обосновал иной тип эпиграммы. Свои наблюдения он проводил в XVIII веке, но материалом ему служило творчество многих эпиграмматистов, начиная с Марциала. Идеалом эпиграммы Лессинг считал эпиграмматическую сказку (от французского термина conte épigrammatique). Он обратил внимание, что она обладает мини-сюжетом, чем несколько напоминает басню. Однако между эпиграмматической сказкой и басней существует различие: композиционно той и другой свойственно двухчастное построение, но в басне вторая часть логически вытекает из первой (вспомним хотя бы эзоповский сюжет с вороной и лисицей), в эпиграмматической же сказке после всех перипетий должен последовать неожиданный «выстрел» (пуант). Чтобы поразить жертву с наибольшим эффектом, автор ведет читателя в ложном направлении и лишь в заключительной фразе, иногда даже в последнем слове, вдруг поворачивает вспять то, что развивалось естественно и, казалось бы, благополучно для адресата эпиграммы. Если эпиграмматическую сказку сравнить с детективом, то нетрудно заметить, что в детективе требуется установить, как произошло убийство, а в эпиграмматической сказке автор, наоборот, пытается скрыть, каким образом будет поражена его жертва.
Чтобы замаскировать свои намерения и надлежащим образом подготовить пуант, автору эпиграмматической сказки бывает необходимо восемь и более строк. В упомянутом выше стихотворении Симеона Полоцкого «Диоген» их даже четырнадцать. Иногда возникает спор: что по художественным качествам выше – блиц-эпиграмма или эпиграмматическая сказка? Ответить непросто. Во всяком случае, из двух крупнейших французских острословов – Жана-Батиста Руссо и Понса-Дени Экушар-Лебрена – первый успешно сочинял исключительно эпиграмматические сказки, второй же не менее успешно сыпал как из рога изобилия эпиграммы-остроты.
Интересно суждение Пушкина об этих типах эпиграмм. На примере творчества Баратынского он отметил, что эпиграмма-острота «скоро стареет и, живее действуя в первую минуту, как и всякое острое слово, теряет силу при повторении», между тем в эпиграмме Баратынского, «менее тесной, сатирическая мысль приемлет оборот то сказочный, то драматический и развивается свободнее, сильнее. Улыбнувшись ей как острому слову, мы с наслаждением перечитываем ее как произведение искусства».
Возвращаясь к русской эпиграмме XVII века, нужно отметить и переводы из иностранных сатириков, потому что в России художественный перевод как самостоятельная ветвь обособился лишь во второй половине XIX века. Мы и сегодня, например, басенные переводы Крылова из Лафонтена и переводные баллады Жуковского воспринимаем как оригинальную отечественную поэзию. Большой интерес представляют недавно обнаруженные анонимные переводы на русский язык эпиграмм крупнейшего польского поэта XVI столетия Яна Кохановского. Тут уместно упомянуть и о Максиме Греке, жившем в первой половине XVI века. Он перевел с греческого (это был его родной язык) эпиграмму поэта I века Леонида Александрийского и переадресовал ее астрологу Николаю Немчину, высмеяв его несбывшееся предсказание о «конце света».
Перейдем теперь к XVIII веку. В области эпиграмматики в эту эпоху интересной личностью предстает Феофан Прокопович. Сподвижник Петра I, украинец по национальности, он, по словам его младшего современника К. А. Кондратовича, «не выпущавший почти из рук Марцияла, и оному подражавший, и сочинивший многия Епиграммы как латинския, так и российския», содействовал дальнейшему развитию отечественной эпиграммы. Прекрасное знание латыни помогло ему осмыслить эпиграмму теоретически, потому что тогда в Европе имели хождение всевозможные трактаты по поэтике и по риторике на латинском языке, в которых непременно затрагивались эпиграммы – в поэтике как жанр, в риторике как фигуры остроумного построения речи. В ранний период творческой деятельности, будучи преподавателем Киево-Могилянской академии, Феофан Прокопович создал свой собственный курс лекций «О поэтическом искусстве: («De arte poética», 1705) и «О риторическом искусстве» («De arte rhetorica», 1706). В первом трактате четыре главы посвящены эпиграмматическому жанру (кн. III), а кроме того, в главе «Об эпитафии» он касается также эпиграмматических эпитафий.
В узком кругу монахов и ученых эпиграмма принимала отвлеченно-книжный характер, входили в моду «Куриозные» вирши (акростихи; палиндромы, или «рачьи стихи», смысл которых не нарушается при чтении их и слева направо, и справа налево; стихотворения с эхорифмами, так называемые «симфонические стихи» и другие). Феофан Прокопович отверг их как ничего не дающие для пользы отечества. Назвав их «трудными пустяками», он стремился сделать эпиграммы общественно значимыми. От невинной шутки они поднялись у него до высот политического звучания. Так, после драматических событий, происшедших в Польше в 1734 году, Феофан Прокопович с убийственным сарказмом отзывается «О Станиславе Лещинском, дважды от Короны Полской отверженном»; с негодованием вспоминает «О папском суде над Галилеем», защищая учение итальянского астронома, правда с деистических позиций; издевается над столпом церковной реакции архиепископом ростовским Георгием Дашковым, у которого претензии большие (он хотел стать первенствующим членом Синода), а оснований для этого никаких, поскольку все его интересы сводятся к лошадям.
Вслед за Феофаном Прокоповичем заметно проявил себя как эпиграмматист остросоциального плана один из основоположников русского классицизма и новой сатирической поэзии Антиох Кантемир. Его уже не удовлетворяли только латинские образцы. Это было время, когда Франция вступила в золотой век своей эпиграммы, а французы стяжали славу лучших острословов мира. Кантемир перевел на русский язык четыре сатиры Буало и его эпиграмму «Любитель часов». К заимствованиям Кантемир относился творчески: в сатирах Буало он русифицировал сюжеты и характеры персонажей. Скромно оценивая свой талант, он в четверостишии «Автор о себе» гордился тем, что его муза через общение с чужеземными поэтами свободно заговорила по-русски:
Что дал Гораций, занял у француза.
О, коль собою бедна моя муза!
Да верна; ума хоть пределы узки,
Что взял по-галльски – заплатил по-русски.
Эпиграмму, как эстафетную палочку, подхватили создатели новой поэтической системы в русском языке – Тредиаковский и Ломоносов. Тредиаковский-теоретик рассматривал эпиграмму с позиций строгого жанрового деления, свойственного классицизму; по сравнению с Феофаном Прокоповичем, трактовавшим жанр эпиграммы весьма широко, он в значительно большей степени соотносит ее с сатирическим содержанием. Начиная с XVIII века для русской эпиграммы античные каноны – уже пройденный этап, и она теперь готова развиваться в русле общеевропейской эпиграмматики.
С середины XVIII века классицизм в России завоевывает ведущее положение. Его яркий представитель – А. П. Сумароков – особенно успешно выступал в эпиграмматическом жанре и, в отличие от предшественников, под эпиграммой склонен был понимать исключительно сатирическое произведение. В знаменитой «Эпистоле II. О стихотворстве» (1748) он, в частности, четко формулирует самую суть жанра эпиграммы:
Они тогда живут, красой своей богаты,
Когда сочинены остры и узловаты;
Быть должны коротки, и сила их вся в том,
Чтоб нечто вымолвить с издевкою о ком.
Под узловатой эпиграммой Сумароков имел в виду сатирическое стихотворение с пуантом. В таком духе он и сочинил свыше сотни эпиграмм и эпиграмматических эпитафий. Дворянин, «первый член общества», он оберегал свои сословные привилегии; однако видя, что косность, крючкотворство, взяточничество, награждение высшими чинами людей хотя и знатных, но ничтожных грозят «общему благоденствию», поэт клеймил порок в любом его обличив («Мздоимец», «На пожалование высокопоставленному лицу ордена Золотого Руна» и др.). Сумароков особенно преследовал судей неправедных, судейских чиновников; это «крапивное семя» он жестоко высмеивал и в прозе, и в стихах, в том числе эпиграмматических («Эпитафия подьячему», «Стряпчий», «Судьи приказных дел у нас не помечали…» и др.).
Российская действительность XVIII столетия заставила обратиться к эпиграмме и такого поэта-философа, как Гаврила Романович Державин. В эпиграмматическом роде он написал не много, но это была подлинно державинская пророческая эпиграмма, в основе которой – суровое предупреждение (memento morí! – помни о смерти!). Только так воспринимается его стихотворение «На смерть собачки Милушки», в котором, коснувшись истории казни Людовика XVI, поэт исподволь обращается ко всем коронованным особам: «Не все ль судьб игрушка – // Собачки и цари?»
На таких же высоких нотах звучат некоторые эпиграммы крупнейшего баснописца XVIII века И. И. Хемницера и драматурга и поэта В. В. Капниста. Хемницер не ограничивается отвлеченной критикой монархов и без обиняков указывает на русских императриц в связи с распространенным тогда предположением, что вольтеровскую «Историю государства Российского при Петре Великом» инспирировали Елизавета и Екатерина II. В эпиграмме на создание этой «Истории» Хемницер, как бы оправдывая Вольтера, лукаво вопрошает: «Ну, виноват ли он, когда его дарили //И просили, // Чтоб вместо правды ложь он иногда писал?» И уж совсем дерзко намекает на Екатерину II Капнист в рукописном цикле «Встречные мысли»: «А сколько было в свете жен, // На мужниных сидевших тронах!»
Для эпохи русского классицизма все же наиболее характерным оставалось осмеяние общечеловеческих пороков без указания конкретных лиц. «Героям» обычно давались условные имена – Клит, Клав, Бавий, Альциндор. Подчас в самом имени раскрывался тот или иной ущерб: любителя выпить нарекали Хмельниным, скупого – Скрягиным, бездарного писателя – Мараловым и т. д. На рубеже XVIII–XIX веков классицистические каноны стали тесны для эпиграммы, нравоучительный тон мешал ей в полной мере проявить природную живость, сатирический темперамент, эмоциональность. И вот из потаенных недр оппозиционно настроенного дворянства и разночинных групп выплеснулась наружу серия инвектив против отдельных чиновников и офицеров, против' породившей их бюрократии, против церкви, а подчас против знати и царей. Такие эпиграммы не могли быть напечатаны. Они тайно передавались из уст в уста, а наиболее удачные нашли прибежище в рукописных сборниках тех лет. Одновременно возникли по духу близкие эпиграмме сатирические и водевильные «куплеты».
Эпиграммы, созданные в период сентиментализма и романтизма, заиграли новыми красками. Идейный вождь сентименталистов, один из гуманнейших и самых просвещенных людей своего времени Н. М. Карамзин не обошел вниманием любимый русским искусством жанр эпиграммы и обогатил его новым содержанием. Автор «Бедной Лизы» заметно усиливает эмоциональный строй эпиграммы, приглушая, однако, ее сатирическое звучание; за образец он берет альбомные стихи, вошедшие в моду еще в XVIII веке. Карамзин украсил рифмами многие философские афоризмы, тем самым сделав их выразительнее и доходчивее. Если же рассматривать его рифмованные афоризмы вместе с нерифмованными, то они далеко не идилличны. Чего стоит, например, такая его сентенция о придворной среде: «Больше лиц, нежели голов; а душ еще меньше».
К сожалению, его последователи – «карамзинисты» (В. А. Жуковский, В. Л. Пушкин и др.) стремятся придать эпиграмме исключительно салонный характер, иначе говоря, свести ее к тем «трудным пустякам», которые осудил еще Феофан Прокопович.
Русская эпиграмма совершила стремительный взлет, когда к ней прикоснулся Пушкин. Гениальный поэт стал теоретиком и истолкователем капризного жанра «окогченной летуньи», как метко окрестил эпиграмму Баратынский. Пушкин взял на вооружение весь арсенал накопленных до него приемов и, овладев оружием классического образца еще в лицейские годы, затем придал эпиграмме новые боевые свойства.
Так, пользуясь классицистической традицией обыгрывания имен, он проводит эту игру не по давно обкатанной схеме (глупый человек – Глупон, женщина-обольстительница – Прелеста и т. д.), а находит точные смысловые созвучия между фамилиями своих адресатов и отрицательными чертами их характера: Каченовский вследствие его журналистской драчливости ассоциируется с кочергой, и поэт назвал его Кочерговским; Булгарина за его приспособленчество и частую смену взглядов он сравнил с флюгером и нарек Флюгариным, да еще за доносы и пронырливость дает ему позорное прозвище Видок Фиглярин (см. примеч. к с. 132).
Однако ярче всего пушкинская новизна проявилась в эпиграммах-портретах. Если сравнить две эпиграммы на Аракчеева – одну, написанную Баратынским, а другую – Пушкиным, то, отдавая должное Баратынскому, который создал законченный тип верноподданного «слуги царя», легко заметить, насколько глубже пушкинское постижение того же типа, выпестованного николаевским режимом. Аракчеев Баратынского может быть соотнесен с любым временщиком, а у пушкинского Аракчеева мы видим не только личину, свойственную царским сатрапам («Всей России притеснитель», «Полон злобы, полон мести»), но и черты, присущие исключительно Аракчееву, своеобразному «феномену» зла и жестокости. Курсивом выделяя слова «Преданный без лести», поэт, с одной стороны, усиливает индивидуализацию Аракчеева через девиз, который тот сочинил для своего герба, а с другой, дает возможность в общем контексте всю фразу воспринять на слух, как «Преданный бес лести», что приводит к уничтожающей «героя» игре слов.
Но, пожалуй, наиболее искусной в своей нетрадиционно-сти является эпиграмма Пушкина на другого высокого сановника, наместника Крыма М. С. Воронцова. Казалось бы, это четверостишие развивается аналогично одной из миниатюр Вяземского в его «Поэтическом венке Шутовского» (Шаховского), комедию которого «По л у барские затеи…» вместе с другими его пьесами Вяземский неожиданно называет «затеями полного глупца». Между тем в пушкинской характеристике Воронцова первые пять ключевых слов эпиграммы намеренно приведены в логическое противоречие как по своему внутреннему, двухкомпонентному сочетанию («Полу-милорд, полу-купец» и т. д.), так и в смысловом соотношении друг с другом («полу-мудрец, полу-невежда» и т. д.). И это еще не все. В стихотворении есть второй план, намекающий на то, что самолюбивый и тщеславный Воронцов в ту пору страстно и безрезультатно ждал производства в «полного генерала» – генерал-аншефа.
Острые эпиграммы не всегда для их творцов проходили безнаказанно. Не последнюю роль сыграли они и в трагической судьбе Пушкина. Царь не простил поэту (наряду с другими «прегрешениями») эпиграмматических стрел, направленных в тех, кто окружал его священную особу, и даже в него лично. Зато дар эпиграмматиста, блеск и острота ума высоко ценились в передовых кругах России. Эти качества, мятежная искрометность служили своеобразной визитной карточкой гражданственности. Эпиграмма с восторгом принималась среди декабристов, в обществе «Зеленая лампа». К ней охотно прибегали в беседах и спорах выдающиеся ученые и деятели культуры тех лет.
Из блистательной когорты эпиграмматистов пушкинского времени наиболее представительными, кроме самого Пушкина, были его друг, душа петербургских салонов С. А. Соболевский, а также Е. А. Баратынский и П. А. Вяземский. Мы уже познакомились с оценкой, которую Пушкин дал Баратынскому. Что касается Вяземского, он более других русских поэтов размышлял о судьбах эпиграмматического жанра.
В молодости следовавший принципам Карамзина с его абстрактно-философскими и альбомными стихами, П. А. Вяземский с 1820-х годов первым наметил другой, перспективный путь развития жанра. Поэт стал разрабатывать эпиграмматическую сказку как удобную форму реалистического отражения мира. Ее объем позволял Вяземскому хотя бы бегло наметить индивидуальные черты осмеиваемого и одновременно типизировать его. Теперь перед читателем вставал не ходульный герой, не лекарь или судья вне времени и пространства, а человек своей страны, живо очерченный в определенных исторических обстоятельствах.
Поэты первых трех десятилетий XIX века, каждый внеся посильную лепту, подняли русскую эпиграмму на невиданную до того высоту. Велик и ее сатирический диапазон – от изящной тонкой шутки, меткой насмешки, глубокой иронии и сарказма до разящей громоподобной эпиграммы-приговора, смертоносного политического оружия. Такая эпиграмма вершит суд в веках, невзирая на чины и звания, осуждая своих «героев» на бессмертие позора. С этим несмываемым клеймом живут в памяти потомков вдохновители реакции, мракобесы типа Булгарина, Коцебу, Каченовского, как и осужденные на вечное посрамление правдолюбами последующих поколений продажный журналист и издатель Катков, шеф жандармов Плеве, оберпрокурор синода Победоносцев, приближенный царя, авантюрист Распутин и, наконец, сами цари.








