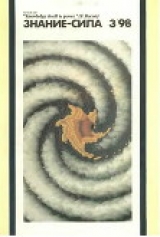
Текст книги "Знание-сила, 1998 № 03 (849)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Газеты и журналы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Проверка и перепроверка научных открытий обычно все ставят на места – это очень важный момент научного исследования. Воспроизводимость результата – вот что отличает научное открытие от ошибки.
Слабая вооруженность средствами наблюдения, недостаток информации зачастую провоцировали фантазию астрономов.
Спутник Меркурия, 1974
27 марта 1974 года американский космический корабль «Марниер-10» пролетал вблизи Меркурия. И вдруг одни из его инструментов зарегистрировал мощное ультрафиолетовое излучение там, где его и быть не должно. На следующий день оно пропало, а через три дня появилось вновь, причем исходило оно явно не от Меркурия.
Астрономы знали, что излучение таких длин воли не может долго путешествовать по Вселенной. Откуда же оно? Неужели у Меркурия есть спутник?..
Быстро вычислили, что объект движется со скоростью около четырех километров в секунду, что для спутника вполне приемлемо. Созвали общий сбор экспертов и стали готовиться к пресс-конференции, а наиболее прыткие газеты уже трубили о сенсации...

Вверху слева: Меркурий проходит по диску Солнца (снимок 1907 года)
Внизу слева: Нептун со своим спутником Тритоном (указан стрелкой)
Внизу справа: Зарисовка поверхности Марса, сделанная в 1926 году
Однако эксперты опровергли слухи о спутнике. Оказалось, что на самом деле ультрафиолетовые лучи поглощаются в межзвездной среде не до конца, и «Маринер» обнаружил всего лишь излучение от одной из звезд. Зато таким образом была открыта целая новая область в астрономии, и небо стали наблюдать в ультрафиолетовых лучах. Хороший пример того, как в научной работе высокого уровня даже ошибка и заблуждение приводят в конце концов к полезному результату.
Спутник Венеры, 1672—1892
В 1672 году один из выдающихся астрономов всех времен Джованни Доменико Кассини заметил рядом с Венерой «компаньона». Опытный ученый решил не торопиться и описал открытие лишь через четырнадцать лет, когда заметил объект вторично. Его радиус был в 4 раза меньше, чем у Венеры, и он показывал аналогичные фазы. Позднее этот же объект видели Джеймс Шорт в 1740, Андреас Манер в 1759, Жозеф Луи Лагранж в 1761 (он заявил, что плоскость орбиты спутника перпендикулярна эклиптике). Вообще же в 1761 году объект был замечен 18 раз пятью исследователями. Особенно интересно было наблюдение голландца Шонтева от б июня того же года: он видел проход Венеры по диску Солнца, и ее сопровождал маленький черный диск на краю. Однако были и свидетельства того, что спутника нет.
Назревал конфликт между видевшими и невидевшими. В 1766 году директор венской обсерватории отец Хелл (неплохое имечко для святого отца – а переводе означает ад!) опубликовал обширное исследование, где писал, что все наблюдения спутника – не более чем оптические иллюзии, поскольку Венера так ярко светит, что отражается в глазу и дает добавочный маленький диск. «Видевшие» не соглашались с ним. Немецкий ученый Иоганн Ламберт опубликовал дашые об орбите спутника в годовом отчете Берлинского общества астрономов.
В 1768 году спутник видел Христиан Хорребоу из Копенгагена и не видел знаменитейший Вильям Гершель. В 1884 году директор брюссельской обсерватории Хузо предложил иную гипотезу. Он тщательно проанализировал все наблюдения за спутником и обнаружил, что лишь три из 1080 дней наблюдении спутник находился вблизи Венеры. Хузо сделал вывод, что это самостоятельная планета, вращающаяся вокруг Солицн с периодом 283 дня и иногда оказывающаяся рядом с Венерой. И даже название ей придумал.
Всего через три года после этого -крещения» Бельгийская Академия наук опубликовала обширнейший труд, где было проанализировано каждое наблюдение «спутника». Оказалось, что почти все «открыватели» приняли за спутник какую-нибудь из звезд, находившихся тогда вблизи Венеры. Это были такие звезды, как Хи Ориона, М Таури, 71 Ориона, Тета Либры.
После этого фундаментального труда лишь однажды – 13 августе 1892 года – американский астроном Эдуард Барнард заметил некий объект около Венеры. Скорее всего, он наблюдал астероид.
С тех пор богиня красоты существует в гордом одиночестве.
Вторая Луна, 1846 – наши дни
В 1846 году директор обсерватории в Тулузе Фредерик Нети объявил, что открыт второй спутник Земли. Это сделали французские астрономы Лебон и Дасье из Тулузы 21 марта. Орбита нового спутника сильно вытянута: она достигает в апогее 3570 километров и всего 11 – в перигее.
Во время сообщения в аудитории находился известный астроном Леверье. Он заметил, что на такой малой высоте спутнику должно мешать сопротивление воздуха. Однако точках данных об атмосфере тогда не было и замечание осталось без ответа.
Пети был буквально одержим своей идеей более пятнадцати лет, но многие астрономы относились к ней очень скептически. И тут плохую службу науке сослужил Жюль Верн. Он прочел работу Пети и вставил рассказ о ней в свой роман «С Земли на Луну». Это произведение прочли миллионы людей, и мысль о второй Луне укоренилась в их головах, как нечто само собой разумеющееся. Сотни астрономов-любителей искали ее с тех пор и многие – находили.
В 1922 году английский астроном Пикеринг опубликовал работу, где показал, что даже трехметровый спутник па такой малой высоте должен быть виден невооруженным глазом. Если же мы не видим его, значит эта пресловутая Луна размером еще меньше. Статья появилась в популярном журнале, ее прочли тысячи читателей и пыл поисков угас. Это к вопросу о полезности научно-популярной литературы.
Были и другие «находки». В 1898 году Георг Валтмат из Гамбурга напророчил целое семейство Лун па расстоянии около миллиона километров от Земли. Его прогноз основывался на рассказах одного его друга, видевшего эти «луны» в Гренландии, когда они «ночью сняли, как Солнце». Валтмат предсказал, что со второго по четвертое февраля 1898 года эти спутники должны пройти по диску Солнца. Интерес к астрономии в Германии тогда был столь велик, что директор одной из почт в пригороде Гамбурга заставил всю свою семью и подчиненных в количестве двенадцати человек наблюдать за Солнцем незащищенными глазами. Представляете, какая чудесная была картина!
Естественно, «наблюдатели» не могли разочаровать своего строгого отца и печальника и желаемые объекты были увидены. К счастью, в то же время за Солнцем наблюдали специалисты в Австрии и Германии и не заметили там ничего, кроме обычных солнечных пятен. Однако Валтмат продолжал выступать со своими предсказаниями. В конце концов некоторые из немецких астрологов включили его вторую Луну в свои гороскопы и она встречается там по сей день под названием Лилит.
Интересно, что Земля вполне способна заполучить второй спутник, правда, на достаточно короткий срок: попавший в верхние слон атмосферы метеорит может потерять скорость и быть захваченным на орбиту вокруг Земли. Но из-за того, что он каждый раз будет «чиркать» по атмосфере, долго вращаться ему не удастся – сотня оборотов, полторы сотни часов. И такие случаи зафиксированы. Может быть, нечто подобное наблюдал и Пети.
Кроме перечисленных, было еще несколько правдоподобных гипотез. Прежде всего, у самой Луны мог быть спутник, который ошибочно принимали за спутник Земли. Его искали, но не нашли, да вдобавок поле тяготения у Луны очень слабое и орбита его была бы очень нестабильной.
Мог быть так называемый Троянский спутник – в точности на орбите Луны, но летящий позади или впереди нее. О наблюдении такого объекта сообщили в 1956 году польские астрономы Кордилевский и Милковский. Они видели, правда, не спутник, а светлое пятно, которое, по их мнению, было облаком пыли. Вторично наблюдали его в марте и апреле 1961 года. Как позднее выяснилось, этим пятном мог быть отблеск Солнца.
Вековые попытки отыскать вторую Луну неизменно кончаются неудачей, но энтузиасты не унимаются. Американский астроном Джон Баргби утверждал, что видел не менее десяти небольших спутников между 1966 и 1969 годами. По его разумению, это были остатки большого тела, распавшегося в декабре 1955 года. Его выводы были основаны прежде всего на необъясненных нарушениях в движении искусственных спутников. Однако на рассчитанных нм орбитах некоторые из спутников должны быть заметны простым глазом, а их не видно...
Единственное, что можно сказать: кто следующий?
Спутники Марса, 1610, 1643, 1727, 1747, 1877
Впервые предположение, что у Марса есть спутники, сделал Иоганн Кеплер и 1610 году. Ои пытался разгадать зашифрованное Галилеем сообщение о кольце Сатурна и решил, что Галилей нашел спутники Марса.
В 1643 монах-капуцин Антон Мария Ширл утверждал, что видел семь «лун» у Марса. Сейчас можно с уверенностью сказать, что он принял за спутники звезды рядом с Марсом, потому что тогдашним телескопам сильно не хватало мощности для наблюдения спутников Марса.
В 1727 году Джонатан Свифт в своих «Путешествиях Гулливера» написал о двух маленьких спутниках Марса, известных астрономам Лилипутии. Период их вращения был 10 часов и 21,5 часа. В 1750 году эти «луны» с успехом перекочевали в «Мнкромегас» Вольтера.
В 1747 году немецкий капитан Киндерман утверждал, что видел «луну» Марса 10 июля 1744 года. Он сообщил, что период ее обращения вокруг Марса составлял 59 часов 50 минут и 6 секунд. Подобная точность может восхищать даже при современном развитии наблюдательной техники!
Когда наконец в 1877 году американец Асаф Холл действительно открыл Фобос и Деймос, их периоды оказались равны 7 часам 39 минутам и 30 часам 18 минутам – достаточно близко к тому, что за полтора века до того опубликовал Свифт, ссылаясь на лилипутов.
Спутник Юпитера, 1975—1980.
Шесть «лун» Урана, 1787.
Спутники Сатурна, 1861 – наши дни
В 1975 году Чарльз Коваль из Паломарской обсерватории сфотографировал объект, похожий на спутник Юпитера. Порядковый номер его должен был быть 14. Его видели еще несколько раз, но потом он исчез и не появлялся.
Еще в 1787 году Вильям Гершель сообщил об открытии шести спутников у Урана. Позднее лишь два из них оказались реальными – Титания и Оберои, остальные скорее всего были звездами.
В апреле 1861 Германн Голдшмидт открыл девятый спутник Сатурна, который он назвал Харон. Однако открытие не подтвердилось в других наблюдениях, и о нем забыли. А настоящий девятый спутник – Феба – открыл англичанин Пикеринг в 1898 году. Это был первый спутник, открытый при помощи фотографирования.
В 1905 году уже Пикеринг обманулся, решив, что нашел десятый спутник – Темнс. Его никогда больше не вцдели, но из уважения к имени открывателя он продолжал появляться в астрономических изданиях вплоть до шестидесятых годов.
В 1966 году Дольфус открыл истинную десятую «луну» Сатурна – Янус. Он очень слабо виден, и заметить его можно лишь в момент поворота колец боком к нам. Во время следующего такого поворота было найдено еще несколько спутников Сатурна, а сам Янус оказался состоящим из двух близко расположенных спутников – второй назвали Эпиметис. Они интересны тем, что регулярно обмениваются орбитами. Наблюдения кораблей «Вояджер» подтвердили все эти открытия.
Планета X, 1841 – наши дни
Наиболее обширна историография поисков десятой планеты в Солнечной системе.
В 1841 году Джон Адамс занялся исследованиями отклонений в движении Урана. В 1845 году У. Леверье независимо стал работать в том же направлении. Адамс пришел к выводу, что возмущения орбиты Урана вызывает неизвестная планета, и представил свои расчеты в Гринвичскую обсерваторию. Но имя его никому не было известно и па него попросту не обратили внимания. К Леверье во Франции прислушивались, но там не было телескопа нужной силы для наблюдения планеты. Тогда Леверье обратился в Берлин, где вечером 23 сентября 1846 года И. Галле со своим ассистентом нашли Нептун. В наши дни и Адамс, и Леверье заслуженно считаются первооткрывателями Нептуна. Так была найдена восьмая планета.
30 сентября 1846 года Леверье объявил, что, может быть, есть и еще одна планета за Нептуном, по это оказался Тритон – самый большой спутник Нептуна. Его нашли 10 октября того же года.
После этого в 1879 году Фламмарион, а в 1880 Форбс, анализируя траектории комет, пришли к выводу, что в их движение вносит возмущение неоткрытая планета, а то и две. Их помещали и на расстоянии 45 астрономических единиц (расстояние от Земли до Солнца), и на 60, и на 100. В поиск включился и Гайло из Парижа, и Джексон из Америки (он назвал планету Океаном), и Григулл из Германии, и Лау из Копенгагена. Каждый предлагал собственные расчеты, и общественность никак не могла прийти к единому мнению.
С 1908 по 1932 год уже Пикеринг предложил семь гипотетических планет за Нептуном. Одна из них имела массу в двадцать тысяч земных масс! И лишь в январе 1930 года юный астроном-любитель из Канзаса Клайд Томбо обнаружил девятую планету – Плутон – на одной из своих фотопластинок. Она оказалась совсем небольшой, в тысячную долю земной массы (это выяснилось совсем недавно, в 1979 году). Но, может, это еще не конец?..[* Подробнее о Плутоне – в статье Б. Силкина «Плюс кольцо Койпера»// «Знание – сила», 1996, № 12.]
Томбо продолжал еще лет пятнадцать педантично обследовать небеса в поисках более далеких планет. Он нашел новое скопление галактик, пять новых звездных скоплений, один суперкластер из тысячи восьмисот галактик, несколько более мелких галактических кластеров, новую комету и около восьми сотен астероидов, но... планеты не было.
Одно перечисление того, как питались назвать Плутон, заслуживает внимания: Атлас, Артемида, Персей, Вулкан, Тантал, Идана, Хронос. Газетчики предлагали Минерву, Озириса, Бахуса, Аполлона, Эребуса. Имя Плутон предложила одинадцатилетняя школьница из Оксфорда.
После этого все продолжалось по известному сценарию: астрономы стали находить отклонения в движении комет и предлагать десятую планету. Во всяком случае, был привлечен интерес к окраинам Солнечной системы, и открытия не заставили себя ждать. Было найдено несколько астероидов. Одни из них – Хирон, обнаруженный в 1987 году, – был вначале объявлен десятой планетой, но ненадолго. Это одни из самых далеких астероидов – 14 астрономических единиц, и довольно большой – 50 километров в поперечнике.
В девяностые годы ученые нашли еще целый ряд астероидов за орбитой Нептуна. Поиски продолжаются!
Немезцда – компаньон Солнца, 1985 – наши дни
В 1985 году Даниэль Витмнр и Джон Матезе из университета в Южной Луизиане предположили, что у нашего Солнца есть компаньон – звезда по имени Немезида. Она не яркая, гораздо меньше Солнца, это может быть коричневый карлик (тело размером с планету). Немезида вращается по эллиптической орбите с периодом в тридцать миллионов лет и, проходя через облако Оорта, увлекает за собой кометы.
Никаких ранних наблюдений этой звезды нет, есть лишь свидетельства, что примерно через каждые тридцать миллионов лет на Земле происходят мощные катаклизмы. Наиболее известный из них – исчезновение динозавров около 75 миллионов лет назад.
Пока эту звезду найти не удалось. Но, может быть, опа уже есть в обширных звездных каталогах, надо только отыскать ее там по смещению относительно других, неподвижных звезд...
Однако сама история может звучать красиво: «Есть второе невидимое Солнце на небесах, Солнце-Демон. Много лет назад оно уже нападало на наше Солнце. На Землю сыпался огненный дождь, а потом была долгая зима. Умерло все живое на Земле. Солнце-Демои приходило много раз. Оно придет еще». •
ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ
Предложенная А. Д. Сахаровым и Я. Б. Зельдовичем модель космического динамо – механизма, порождающего магнитное поле звезд, – математически сводится к преобразованиям, которые вы видите на рисунке, заимствованном из одной работы В. И. Арнольда: из сферы извлекается полноторие (бублик вместе с его внутренностью), растягивается вдвое, складывается в два витка и затем возвращается на свое место в сферу.
Юлии ДАНИЛОВ

Рисунок Ю. Сарафанова
Рафаил Нудельман
Кто там шагает левой?

Как устроена Вселенная, мы знаем. Как устроен атом, мы знаем. А о том, как работает то, посредством него мы все это знаем, мы не знаем практически ничего.
Вдруг стало модным говорить о «правом мозге» Журналы публикуют пространные статьи, издательства выпускают книги, новоявленные специалисты торопятся с рецептами. Довольно жить законом, данным Адамом и Евой! Кто там шагает левой? Правой, правой, правой!
Развивайте свой правый мозг! Прижимайте телефонную трубку к левому уху. Привязывайте свою правую руку на неделю к туловищу! Не употребляйте слова «нет»! Говорите только «да»! Рисуя, заштриховывайте поле вокруг предмета, а не сам предмет! Следуйте нашим указаниям, и вы станете человеком с «полномозговым мышлением»! Выполняйте наши упражнения, и вы разовьете свои правомозговые творческие «P-модусы»! У вас проблемы с интуицией, пространственным воображением, чувством ритма или эмоциями? Проверочный комплекс «Думай всем мозгом» позволит вам проверить, какой вы мозговик – правый или левый! Ответьте на все вопросы... сложите цифры ответов... прибавьте... разделите... сядьте... расслабьтесь... включите правое полушарие... теперь включите левое... теперь включите оба. Спокойной ночи, приятных сновидений. Ваши мозги в надежных руках.
О том, как работает мозг, мы знаем обидно мало. Лауреат Нобелевской премии Френсис Крик (тот самый, что вместе с Джеймсом Уотсоном открыл двойную спиральную структуру ДНК) полагает, что осознавание нами своего мыслящего «я» порождается реверберацией: на импульсы в одной части мозга откликается «эхо» в другой; импульсы – это мышление, а «эхо» – это мы сами, стоящие в стороне и сознающие, что мы мыслим, следовательно, существуем. Лауреат Нобелевской премии Роджер Пенроуз (тот самый, который вместе со Стивеном Хокингом создал теорию «черных дыр» и «Большого взрыва») убежден, что мозг – не просто компьютер, а «квантово-механический и релятивистский компьютер», главным отличием которого является интуитивное ощущение «асимметрии времени».
Джениз Стэнфорд открыл, что даже у людей одной и той же профессии доминантными бывают разное полушария мозга.
Великий Сперри с коллегами (Нобелевская премия 1981 года за изучение рассеченного мозга) утверждает, что независимо от того, как именно работает мозг, два его полушария заняты разными делами: левое заведует логическим мышлением и речью, правое – интуицией и эмоциями. Может быть, левое – обычный компьютер, а правое – тот самый «квантово-механический»? Может быть, то, что происходит в одном полушарии, «реверберирует» как раз в другом и порождает наше ощущение собственного «я»? Откуда вообще взялось это разделение функций?
Американские лингвисты Мак-Нойладж, Студдерт-Кеннеди и Линдблом высказывают гипотезу, что оно возникло в результате случайной мутации еще в первобытные времена. Где же скрыто наше «человеческое, слишком человеческое»? Психиатр Венди Хеллер отвергает мысль, будто «человеческое» содержится в левом полушарии, а «животное» – в правом. Человек – это разум плюс интуиция! Восстановим правое полушарие в его правах и достоинстве! Восстановили. И вот уже книжные прилавки завалены книгами с манящими названиями: «Да здравствует правое полушарие!», «Долой диктат левого мозга!», «Занимайтесь правомозговым сексом!». Если б еще показали, как...
Впрочем, шутки в сторону. Откуда взялась эта «правомозговая мода», захлестнувшая популярную и прикладную психологию? Анна Харингтон, работающая в Германии, утверждает, что эта мода вообще не имеет ничего общего с наукой.
Она не пытается опровергнуть открытия Сперри. Она стремится показать, как и почему те или иные научные открытия попадают в сферу напряженного общественного внимания. Как и почему одни попадают в мясорубку моды и выходят из нее в виде полуграмотного сенсационного фарша, а другие, напротив, в эту мясорубку не попадают, «не удостаиваются»? Дело, говорит она, не в самих открытиях, а.. в том, какой общественной, социальной, интеллектуальной функцией они скрыто наделяются нами самими. Модным становится то, что подспудно связано с общественными настроениями, интеллектуальными традициями, явными или тайными предрассудками и моральными предпочтениями, издревле присущими нашему обществу.
Наука, конечно, стремится к объективной истине, но даже ученые не свободны от индивидуальных, культурных и философских предпочтений. Корни истории с «двойным мозгом» восходят еще к предпочтениям «национального» толка, а именно – к антиклерикализму французских мыслителей XVII века, которые энергично стремились ниспровергнуть религиозные догмы о «мозге как вместилище души» и низвести эти спиритуальные претензии к чистой физиологии и химии. Существенную роль сыграл также «мужской шовинизм» – в том смысле, что мужская половина человечества рассматривалась как норма, отталкиваясь от которой следует измерять все «отклонения». Но попытки разделения мозга по функциям диктовались не только этими неосознанными представлениями. На них повлияли также укорененные представления о пространстве (столь же неосознанные предпочтения «переднего» «заднему»), равно как и представления расовые (предпочтение «светлого» «темному»). Все «светлое», «прогрессивное», «истинно человеческое» должно поэтому содержаться «впереди», то есть в передних долях мозга; все «темное», «дикарское», «варварское» – «сзади», во мраке задних долей.
Вот почему французский исследователь Пьер Гратиоле делил человечество по признаку развития тех или иных мозговых долей – на «фронтальные расы» (европейцев), «промежуточные расы» (монголоидов) и «заднемозговые расы» (естественно, негров). Однако такие «бинарные оппозиции» могут быть не только «задне-передними», но и «право-левыми». С тех самых пор, как было открыто, что наш мозг является билатеральным, состоящим из правого и левого полушарий, не прекращались попытки приписать «светлое», «человеческое» одной его стороне, а «темное», «звериное» – другой. Именно это неосознанное стремление лежало в основе таких популярных литературных мотивов, как сюжет знаменитого стивенсоновского «Доктора Джекиля и мистера Хайда» с его двойной – расщепленной на добрую и злобную, человеческую и звериную, Божественную и сатанинскую – личностью. В сущности, ученые XIX века пытались всего лишь выразить в биологических терминах древнее представление о том, что человек состоит из антагонистических противоположностей. Из сил Хаоса, управляемых силами Духа. Из подсознания, над которым возвышается на своем троне сознание. На этом пути экспериментальная нейрология зачастую превращалась в метафорическую политологию. Английский физиолог Маршалл Холл сравнивал мозг с монархом, восседающим в церебруме и принимающим «послов», каковыми являются сигналы нервных окончаний. Знаменитый создатель френологии Франц-Йозеф Галль связывал моральные и интеллектуальные черты личности с теми или иными завитушками мозга, отражающимися в строении черепа. Немецкий философ Ланге описывал мозг как «парламент маленьких человечков». Галль тоже не чурался этой метафоры. Каждая функция мозга, утверждал он, одинаково подведомственна обоим полушариям, и поэтому мозг в целом напоминает «двухпалатный парламент».
Нормальный мозг работает абсолютно симметрично, упорядоченно, «конституционно»; всякое нарушение такой гармонии – это «бунт», отклонение от нормы, безумие. Первый серьезный перенос френологических идей на нейрологическую почву осуществил французский нейроанатом Поль Брока. Он не просто принял как данное, что различные «завитушки» извилин соответствуют различным мозговым функциям, но попытался на деле связать те или иные участки мозга с теми или иными функциями. Изучая людей, утративших речь в результате травматических повреждений мозга, он сумел установить, что способность к артикулированной речи локализована в третьей фронтальной конволюции левого мозгового полушария. Продолжая эти исследования, он выдвинул гипотезу, что передняя лобная доля левого полушария развивалась в ходе эволюции быстрее, чем передняя лобная доля правого, и потому перехватила у него все интеллектуальные и моторные функции. «Большинство людей являются естественными «левомозговиками» и «праворучниками», провозгласил он в 1865 году.
В действительности он хотел всего лишь констатировать обнаруженную им асимметрию человеческого мозга. Но поскольку наше мышление склонно упорядочивать все факты в определенной иерархии, утверждения Брока были тут же переосмыслены в том духе, что левое полушарие «главнее» правого. Ведь оно заведует «интеллектом», а что может быть «выше» и «главнее», чем интеллект?!
Теория Брока породила целый ряд социальных и даже политических спекуляций. Утверждалось, что чем выше развит данный биологический вид (отдельная раса или даже пол), тем асимметричнее у него мозг. Асимметрия мозга – ключ к определению превосходства одних над другими. «Человек – самое асимметричное из всех животных, – провозглашал один автор, – и именно поэтому он и самое высшее из них». «Женщины и низшие расы более «симметричны» в своих мозговых полушариях, чем белые мужчины», – провозглашал другой. Сам Брока однажды обмолвился, что «асимметрия мозга выражена у белых сильнее, чем у негров». Медицинская энциклопедия 1892 года писала, что «женские головы более симметричны, чем мужские». Французский антрополог (и создатель «психологии масс») Гюстав Ле-Бон считал, что мозг парижанки имеет больше сходства с мозгом гориллы, чем с мозгом мужчины. Интеллигентная женщина, говорил он, – это аномалия, вроде двухголовой гориллы.
Сговорившись на том, что левая часть мозга командует такими «истинно человеческими» функциями, как артикулированная речь, логический интеллект и действия изготовляющей орудия правой руки, популяризаторы теории Брока столь же единодушно отнесли на долю правой половины мозга заведование смутными эмоциями, пассивным сном, бессознательными и инстинктивными процессами, криминальными наклонностями и просто безумием. Правое полушарие переняло все те функции, которыми прежде наделялась «задняя часть» мозга, а проще говоря – все, связанное с «темным», злым, «больным» или безумным. Поведение больных с поврежденным левым полушарием, которые в ужасе смотрели на свои произвольно дергающиеся конечности или прислушивались к «голосам», звучавшим в их ушах, только подтверждало такое разделение. Те же французы не преминули тотчас объявить левое полушарие «мужским», а правое «женским». Многие популяризаторы стали утверждать, что такие «женские особенности», как склонность к подчинению, комплекс интеллектуальной неполноценности и общая эмоциональная неустойчивость, обусловлены переразвитием у женщин правого полушария.
Американские авторы пошли еще дальше, и сегодня в книге «Полномозговое мышление» можно встретить высказываемые на полном серьезе утверждения, будто «американские индейцы, негры и испаноязычные характеризуются, как правило, правомозговыми моральными ценностями», а «в речи низших социоэкономических классов обнаруживается больше ритмических и образных элементов, присущих правому полушарию». Сперри и его сотрудники и последователи нисколько не повинны в том, что их открытия легли на столь густо унавоженную почву. Эти ученые всего только стремились поглубже исследовать реальные свойства обоих мозговых полушарий, объективное распределение функций между ними и общие законы деятельности мозга. Более того, как пишет Венди Хеллер, их открытия отнюдь не сводятся к однозначному разделению правого и левого полушарий: установлено, что правое полушарие способно на многие функции, которые обычно приписываются левому (оно может распознавать предметы, обладает рудиментарной способностью к речи, участвует в процессе чтения и понимания прочитанного и так далее), а кроме того, обычно действует согласованно с левым, дополняя и обогащая его работу.


Коллаж А. Добрицына
Тем не менее достаточно было исследователям намекнуть, что правое полушарие более способно к пространственному восприятию, интуитивному схватыванию общего абриса, продуцированию образов и тому подобным действиям, как законодатели моды тут же объявили, что открыто вместилище творчества и интуиции. Даже это, говорит Хеллер, не соответствует действительности и является всего лишь ее вульгарным упрощением. Больные с поврежденным правым полушарием рисуют ничуть не хуже и не менее выразительно, чем нормальные люди. Но врожденная склонность располагать все наши понятия парами и оппозициями, обязательно противопоставляя, к примеру, левое и правое, верхнее и нижнее, переднее и заднее, светлое и темное, логическое и интуитивное, интеллект и творчество, эта склонность берет свое, и вот уже «правый мозг» входит в моду, вот он уже становится бешено популярным, вот уже о нем пишутся книги и статьи, вот уже раздаются призывы «восстановить его в правах».
Во всей этой шумихе вокруг «правого мозга» наверняка отразилось свойственное нашей эпохе разочарование в интеллекте и поворот ко всему интуитивному, подсознательному, неосознанно творческому с мистическими корнями и обертонами. Нынешняя истерическая мода на «правый мозг» – одно из проявлений духа нашего времени. Но, по мнению Анны Харингтон, здесь обнаруживается и нечто большее. Когда-то Жак Деррида писал о «неустойчивости» основных понятий западной метафизики. Хотя все ее излюбленные «бинарные оппозиции», все эти левое-правое, верхнее-нижнее, мужское-женское и так далее кажутся как раз отражением симметрии и выражением равновесия, в действительности в них всегда предполагается некая скрытая иерархия: мы просто затрудняемся помыслить какую-либо пару, не приписав (пусть неосознанно) одному ее элементу более важную роль, чем другому. Поэтому наше коллективное мышление, получающее воплощение в тенденциях интеллектуальной моды, непрерывно колеблется. С момента открытия асимметрии мозга мы были попросту обречены на приписывание главенства либо левому, либо правому полушарию.
Сам же выбор диктовался господствующими тенденциями культуры; в рациональном и позитивистском XIX веке неизбежным оказалось превознесение «вместилища интеллекта»; в нашем увлеченном всем подсознательным веке настало время моды на «хранилище творческого инстинкта». Откуда уже рукой подать до «правомозгового», «истинно творческого» секса.
Наша собственная склонность к мышлению в дуальных оппозициях играет с нами дурные шутки: закрепляясь в культурных стереотипах, она дает обществу возможность исподволь навязывать нам свои моральные, социальные и даже сексуальные предпочтения – под видом норм, подкрепленных «авторитетом науки». Только действительность намного сложнее, чем это рисует соблазнительное своей простотой и всеобщностью противопоставление правого и левого полушарий. •








