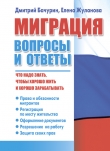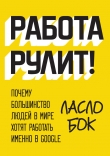Текст книги "Русская жизнь. Понаехавшие (апрель 2008)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Дмитрий Данилов
Продолговатое двухэтажное строение с двумя входами
Последние бараки столицы

Вот определение барака, которое дал писатель Асар Эппель, знаток и певец барачной Москвы:
«Барак есть продолговатое двухэтажное строение с двумя входами по фасадной стороне, двумя деревянными лестницами на второй этаж и низко сидящее на грунте. Это плохо выбеленная постройка под черного цвета толевым покровом, в которой ходят, сидят, лежат и из которой выглядывают люди.
Длину барака установить сейчас будет нелегко, а ширину вспомним просто. Поскольку штукатуреные стены внутри себя всего-навсего сруб, то барачный торец не мог быть шире семи или восьми метров; вернее сказать, ровно таким и был – это долгота строевого бревна. Значит, в сказанные метры укладывались длинные стенки двух комнат плюс ширина коридора. Кладем на последний полтора – и на каждую комнату остается по два с половиной метра. Все правильно! По ее длине сразу поместится рабфаковская койка – два метра, а в изножье или изголовье койки – тумбочка, в которой рабфаковец мог держать свой «Анти-Дюринг» или зачитанную книжонку с волнующим, но мелкотравчатым названием «Без черемухи»«. (Из рассказа «Бутерброды с красной икрой».)
Раньше бараков в Москве было очень много. Видимо-невидимо. И в центре, и на окраинах. Вокруг фабрик и заводов, у железнодорожных станций, просто на пустующих местах. Больше, конечно, на окраинах. Целые огромные барачные районы.
В бараках жили, в основном, люди приезжие. Человек приезжал работать на московское предприятие, ему давали комнату длиной два с половиной метра, человек устанавливал там кровать, жил, плодился и размножался, читал «Анти-Дюринга» или книжонку «Без черемухи».
Рано или поздно человек получал отдельную квартиру или комнату в коммуналке, и барак, в котором он жил, сносили. Человек мог считать, что операция по покорению Москвы закончилась его, человека, триумфом, и что его человеческая жизнь удалась.
Еще в 80– е в Москве оставались бараки. Помню, году в 85-м мы со школьными друзьями гуляли по центру и в одном дворике на Сретенке обнаружили барак. Он стоял себе в окружении высоких городских домов, вокруг кипела барачная жизнь -копошились в пыли дети, висело на веревке белье, на лавочке у входа в барак сидела бабушка в платочке. Но прошло еще несколько лет, и бараки в столице извели почти под корень.
Почти – потому что сейчас на территории Москвы, по крайней мере, в пределах МКАД, существует три барака, в которых продолжают жить люди. Есть еще несколько зданий барачного типа в Коптево и рядом с метро «Водный стадион», но они не жилые – там располагаются какие-то мелкие конторы. Такие данные приводит в своем блоге московский краевед Николай Калашников, и у меня нет оснований ему не доверять – лучше него, пожалуй, никто не разбирается в столичных пятиэтажках, девятиэтажках и бараках.
Итак, три уцелевших московских барака.
Профсоюзная улица, дом 123, санаторий «Узкое»
Я подошел к дому 123, и на меня залаяли собаки. Очень громко и злобно. Собак было несколько, и лаяли они изнутри дома. Невидимые злые собаки. Штуки четыре, судя по лаю.
Из лестничного окна панически выпрыгнула облезлая кошка.
Постоял немного. Как-то не хочется входить внутрь из-за этого лая. К счастью, дверь открылась, и из дома вышла пожилая женщина с двумя большими наполненными неизвестно чем полиэтиленовыми пакетами в руках. Не обращая на меня внимания, она подошла к стоящей недалеко от крыльца маленькой четырехколесной тележке, которую, судя по всему, сделали из детской коляски. На тележке – два больших пластиковых бака. Уложила пакеты в баки, вывезла тележку на асфальтовую тропинку, покатила к выходу на дорогу, туда, где стоял я. Все это – молча, глядя в землю.
– Здравствуйте, – сказал я.
Молча, глядя в землю, подошла ко мне практически вплотную, остановилась, подняла голову и сказала:
– Здравствуйте. Что хотели? Вам кого? – и смотрит очень внимательно в глаза.
Объясняю цель визита. Журналист, хочу про ваш дом написать. Таких в Москве почти не осталось.
– Вообще-то, у меня времени мало. Некогда мне тут.
Далее последовали скупые, отрывочные ответы на вопросы. Дом 1927 года постройки. Селили тут много кого – и деревенских местных, когда деревню сносили, и приезжих работников санатория. Сейчас и москвичи тоже живут. Разные люди. А можно поподробнее о людях? А чего о них говорить, люди и люди. Разные, говорю, люди. А вы давно здесь живете? Ну, как вам сказать. (Пауза.) С тысяча девятьсот пятьдесят третьего года. Зовут меня Мария. А отчество? Это необязательно. Просто Мария. Нет, не москвичка, какая же я москвичка. Приехала работать в санатории. А откуда? (Снова пауза.) Да какая вам-то разница. Приехала, и все. И всю жизнь здесь проработала, в санатории в этом.
Собаки продолжают оглушительно лаять. Разговор явно не клеится.
Только я хотел спросить, кем Мария работала в санатории, как из дома вышла другая женщина.
– Людмила Владимировна, к нам тут журналист приехал, поговорите с ним, про дом наш хочет написать, что-то зачастили к нам журналисты, вот вам Людмила Владимировна все расскажет, а я пойду, некогда, некогда мне.
И покатила свою тележку в сторону приземистых служебных строений бывшей усадьбы, а ныне санатория «Узкое».
– Да, Дмитрий, дом у нас замечательный.
Дом и вправду не лишен некоторого очарования. Деревянный, из бревен, обшитых сверху «вагонкой», двухэтажный. С одной стороны – барак, с другой – не совсем типичный. С элементами конструктивизма (естественно, двадцать седьмой год). Дом состоит из двух больших кубических объемов, соединенных более узким объемом. Два входа, но не с фасада, как в классическом описании Асара Эппеля, а с торцов. Внутри раньше был типичный барак с коридорной системой, но лет двадцать назад внутреннее пространство разгородили на отдельные квартиры, по шесть на каждой лестнице, по три на этаже.
Людмила Владимировна не из приезжих, москвичка, поменялась в этот дом семнадцать лет назад. Почему, спрашиваю. Что, так сказать, подвигло?
– Ну, как вам сказать… Здесь такое чудесное место!
Может быть, на самом деле у Людмилы Владимировны были какие-то другие, более приземленные причины для переезда в Узкое, но место – да, необыкновенное. Огромный, на километры вокруг, лес. Сосны. Холмы. Белый чистый снег, поскрипывающий при ходьбе по нему. Тишина – звуки города сюда не доносятся. Разве что собаки по-прежнему продолжают издавать свои собачьи звуки, но уже не такие громкие, как раньше. Людмила Владимировна водит меня по окружающим дом остаткам барского парка. Вот аллея, ее посадили еще в девятнадцатом веке (два ровных ряда деревьев, в значительной степени обезображенных расположенным рядом уродливым металлическим забором). Другая аллея – из специально выращенных «раздвоенных» лип – садово-парковый шедевр. Искусственный пруд (углубление в земле, заполненное снегом, льдом, какими-то обломками деревьев; вообще, окрестности дома довольно запущены). Высокая белая церковь, хорошо отреставрированная, действующая.
Все это великолепие вместе с домом 123, санаторием и обширнейшей прилегающей территорией принадлежит Академии наук. У Академии имеется намерение продать дом 123 и окрестные угодья неким частным владельцам – желающие уже вроде бы есть. Дом в этом случае, естественно, пойдет под снос, жильцов расселят, на освободившемся месте построят что-нибудь элитно-эксклюзивное.
– Жалко, конечно, дом. С одной стороны, нам всем квартиры нормальные, может быть, дадут, здесь все-таки в бытовом плане трудно жить. С другой – дом хороший, красивый, крепкий, крыша новая, в подвале не так давно ремонт сделали. Стоять бы ему еще и стоять. Лучше бы его церковь купила. У нас тут церковь хорошая, службы каждый день, батюшка очень приятный. Купили бы наш дом и сделали бы там воскресную школу, например.
Входим в подъезд. Все деревянное. Лестница с сильно истертыми, но на вид еще вполне крепкими ступенями. Деревянные перила. Чисто, светло. На всю высоту лестницы – огромное вертикальное окно с красивым частым деревянным переплетом.
– Это все – и лестница, и перила, и окно – двадцать седьмого года, как построили, так и не меняли. Я же говорю, крепкий дом, на совесть построен. Вы извините, я вас в квартиру пригласить не могу, у меня четыре собаки. Они посторонних не любят. Вы уж простите.
Из– за двери одной из квартир доносится приглушенный коллективный лай. Да, пожалуй, не стоит.
Благодарю, прощаюсь, направляюсь к конечной остановке 49-го автобуса – единственного транспортного средства, связывающего это уединенное место с городом. Откуда-то издалека слышен негромкий металлический скрип. Сквозь стволы деревьев видно, как Мария, глядя в землю, катит свою тележку с пустыми пластиковыми баками по направлению к дому 123.
Улица Петра Алексеева, дом 5а
В Москве, как уже было сказано, осталось три действующих барака, и два из них располагаются на одной тихой улочке, отходящей перпендикулярно от респектабельного Можайского шоссе. Бараки стоят ровно друг напротив друга. Один большой, другой поменьше.
Дом пять а – длинный, одноэтажный, деревянный, зеленый. Старый, смиренный, усталый. К входу в дом пристроено застекленное крыльцо, внутри заметно присутствие человека. Вхожу. У окна курит симпатичная черноволосая женщина. Назовем ее условным именем – Светлана – настоящее она назвать почему-то отказалась – «да ну, зачем, мало ли что, знаете». Это не очень понятно, но да будет исполнена воля моей собеседницы, пусть она будет Светланой.
Приехала в Москву в 1982 году из небольшого поселочка недалеко от Боровска Калужской области. С конкретной целью – работать ткачихой на ткацкой фабрике «Октябрь» (фабрика, теперь уже бывшая, в двух шагах). В советское время это была знаменитая фабрика. Что называется, гремела на всю страну. Предприятие специализировалось на выпуске высококачественных костюмных тканей, из которых, в частности, шили костюмы для членов Политбюро. Высокие, стабильные зарплаты. Мощная «социалка». Жила в соседнем общежитии, современном, вполне благоустроенном. Семья, дети. Детский сад, школа. Завидная участь.
В начале 90-х, понятное дело, все стало рушиться. Скоропостижная приватизация, невыплаты зарплат, сворачивание производства, сдача площадей в аренду. Как везде. Общежитие расселили, приспособили под что-то коммерческое. Светлане сначала дали комнату в другом общежитии, в Солнцево, а через пару лет – поселили в этот барак, в дом пять а. Вскоре фабрика окончательно встала, пришлось уволиться. Сейчас Светлана работает на каком-то заводе неподалеку (она произносит длинную аббревиатуру, которая моментально вылетает из моей памяти).
– Знаете, я сейчас думаю: зря я в Москву уехала. Нет, уезжать так и так надо было – у нас в поселке ловить нечего, никакой работы нормальной, ни жилья, ничего. Вот только надо было не в Москву ехать, а в Обнинск. Наши многие туда уехали и довольны – все уже жилье нормальное получили давно, и работа есть, город красивый, много новых домов строят. Надо было мне тоже в Обнинск ехать. Молодая была, позарилась на Москву. Хотелось в столице жить, в большом городе. Вот, живу. Зарплата копеечная, денег в обрез, дети уже большие, школу заканчивают, сплошные траты на них. Живем в комнате. За коммунальные услуги мы тут платим от трех до пяти тысяч в месяц.
От названных сумм я впал в легкое остолбенение. Почему так много?
– А хозяева так решили.
Кто владеет домом, Светлана не знает. По крайней мере, говорит, что не знает. Фабрика давно дом продала, потом его еще несколько раз перепродали. И вот сейчас им кто-то владеет (не город). И этот кто-то требует от трех до пяти тысяч в месяц. С обитателей тесных комнаток в одноэтажном бараке. В случае неуплаты инициируется процесс выселения (хотя до этого пока не доходило).
За открытой дверью во всей своей красе простирается Коридор. Длинный, кажущийся бесконечным. По бокам – двери, двери. Кухня общая. Санузел (там можно воспользоваться туалетом и принять душ) – тоже общий. У стен и на стенах стоит и висит дикое количество разных предметов – велосипеды, сундуки, какие-то баки, тазы.
– А перспективы есть?
– Перспективы… Пока никаких перспектив. Ничего нам не говорят, ничего не обещают.
Светлана улыбается спокойной, отрешенной улыбкой человека, который долгое время на что-то надеялся, а потом перестал.
– А вот этот дом напротив – он тоже фабричный? Что там?
– Там все то же самое, что у нас, да, тоже наши фабричные живут. Только там отдельные квартиры сделали, там еще как-то жить можно, не то что у нас…
Улица Петра Алексеева, дом 10
Я ходил вдоль дома десять взад-вперед, ходил… Массивное двухэтажное строение, толстые потемневшие бревна, по стенам струятся желтые газовые трубы, образуя странно красивый узор. Уютно светятся окна. На многих окнах – стеклопакеты. Два подъезда, железные двери, кодовые замки. Кажется, такой домина спокойно простоит еще лет сто. Очень крепкий и основательный, что не характерно для бараков.
Проходит десять, двадцать минут. За все это время в дом не вошел и из дома не вышел ни один человек. Вечер, становится холодно. Ладно, видать, не судьба.
Респектабельная Можайка сияет огнями. К остановке то и дело подкатываются большие красивые белые автобусы. Они едут из Одинцово к Киевскому вокзалу. Магазины, машины. Оживление. Какие еще бараки, никаких бараков не было и нет, забудьте.
На другой стороне шоссе возвышаются два новых жилых дома. Один уже построен, другой спешно достраивают. Суетятся строители, поворачиваются из стороны в сторону высоченные краны. На балконе растяжка, каких в Москве тысячи: «Продаются квартиры в этом доме». И телефон.
Максим Семеляк
Время и место
Беспредельный быт университетского общежития в начале девяностых
Если меня когда-нибудь попросят заполнить графу с условным названием «мои университеты», я внесу туда помимо полагающейся мне по рангу аббревиатуры МГУ еще и три заглавных буквы Д С В. Так сокращенно называлось (и по сей день зовется) серое здание в минутах ходьбы от метро «Проспект Вернадского» – 22-этажная башня мышиного цвета, похожая на воткнутый в землю контейнер инопланетной и не слишком развитой цивилизации. (Почти как у Слуцкого: «Город похож на бред малокультурного фантаста».)
Я никогда там, собственно, не жил – всего лишь бывал частыми и продолжительными наездами в период с 1991-го по 1993-й. Как раз в этот промежуток времени мне по возрасту и состоянию здоровья полагалось отправляться в армию. От этой неоднозначной необходимости меня избавила военная кафедра МГУ. И в некотором пародийном смысле моей армией стал ДСВ.
В самом слове «общежитие» мне слышалось что-то святоотеческое с одной стороны и безупречно блатное с другой (общага, общак, etc). Так оно приблизительно и оказалось. Начать с того, что никакого студенчества с его идиотскими среднестатистическими гулянками на Татьянин день я там, в общем-то, не увидел. В свои семнадцать непьющих лет я сразу угодил в компанию довольно матерых пьяниц, словоплетов и музыкантов, самый младший из которых был старше меня на три года. Время в ДСВ не то чтобы совсем останавливалось, но здорово притормаживало – люди ходили в студентах десятилетиями, а дипломы, такое ощущение, защищали в первую очередь от самих себя.
Я довольно быстро научился засыпать на полу в одежде, разбавлять спирт водой из туалетного бачка, закусывать этот спирт одной только аскорбиновой кислотой, петь песню «Воды в подвале», подхватывать цитаты из Лоуренса Стерна и Фрэнка Заппы, питаться исключительно гарнирами в столовой на минус втором этаже, находить контакт с любой человеческой особью, всем восхищаться и ничему не удивляться.
Университетское общежитие соединяло в себе черты гостиницы, богадельни, сквота, фаланстера и дурдома. Здесь невесть на каких основаниях находила себе приют самая разномастная земнородная публика – от липовых священнослужителей до вполне реальных разбойников. На стенах красовались надписи Nothing is real и Hic Bibitur, а женщины носили прозвища Сатрап, Редактор и Прапорщик. Вообще, события, происходившие в ДСВ, можно исчерпывающим образом описать загадочной строчкой из М. Науменко – «Все было так, как бывает в мансардах».
Филологи тогда занимали четыре этажа – с восьмого по двенадцатый (сейчас, для сравнения, – один) – и у меня складывалось ощущение, что филология вообще есть скрытый двигатель здешней жизни. Тут декламировали стихи Струйского и Боброва; пели лимерики, типа «Как-то Анна Андревна Ахматова е…анулась в метро с эскалатора, но все вышло удачно – очнулась на даче в объятьях Расула Гамзатова»; размахивали рыцарскими романами; и даже фамилия коменданта была Чхартишвили. За словом в карман никто особенно не лез. Однажды комендантша этажа вломилась поутру в одну из комнат, где обнаружила чудовищный даже по местным меркам хаос, пару похмельных полутрупов и стайку вполне благопристойных девиц, пытающихся придать помещению вид, хотя бы отдаленно напоминающий о жилье. Комендантша всплеснула руками: «Девушки! Ну ладно уж, эти двое алкаши, но вы-то что забыли в этом гадюшнике?» Один из похмельных полутрупов на мгновение оторвал голову от матраса и веско парировал: «Это не гадюшник, а серпентарий!»
Вечерний быт ДСВ казался превосходным дополнением к утренней ученической программе. Гельдерлин и спирт, античная риторика и обваливание друг друга в муке и варенье – все это сплелось воедино. Быт был предельно аскетичным, но осязаемым до боли в руках. В этих стенах слово становилось плотью просто потому, что ничего другого ему не оставалось. Плоть была некормленой, кособокой и шелудивой, но алхимический процесс ее становления был налицо.
Период 91-93-го годов был едва ли не самым беспредельным в истории ДСВ. В советские времена по зданию еще хаживали оперотряды, выуживая малочисленных нелегалов и просто бретеров (так, например, в советское время один из моих старших приятелей напился в честь дня рождения Ленина, уселся на стул и с оглушительным грохотом обскакал на нем весь этаж по периметру – за что был незамедлительно изгнан из университета, а также из рядов КПСС). Во второй половине девяностых уже понятные коммерческие соображения свели на нет ряд местных анархических свобод и порядков. Году же в 92-м сюда можно было просто войти с улицы и если не поселиться навеки, то уж точно творить все что душе угодно, – по крайней мере, со стороны складывалось именно такое ощущение.
Филология, как водится, шла рука об руку с чудовищным и каким-то даже дидактическим пьянством. Как раз наступила эпоха известного спирта с идиотским престольным названием. Круглосуточный ларек напротив ДСВ тоже носил вполне торжественное имя – «Перспектива». Много и не вовремя пили и от нечего делать, слушать и закусывать – пели. Еды на столах я не припоминаю вообще, хотя, впрочем, будущий главный русский кулинарный критик А. А. Зимин уже в те времена предпринимал робкие попытки запуска своего гастрономического шапито под предположительным названием «Кухня общежития», изготавливая салат «Зимний», который складывался из дряхлого лука, помоечной картошки и якобы растительного масла и пользовался грандиозным успехом. Вообще, на еду (как, впрочем, и на одежду) здесь никто не обращал внимания. Афоризм будущего преподавателя МГУ В. Л. Коровина, однажды в приказном порядке изгнанного из ДСВ за выбрасывание из окон двенадцатого этажа железных коек, гласил: «Давайте поскорее съедим всю закуску, чтобы потом можно было пить не отвлекаясь».
Гости и постояльцы, которых уже трудно было различить, весело скитались с пластиковыми канистрами в вечных поисках разливного пива, которое водилось на улицах Строителей, Коштоянца и Кравченко. (Собственно, на Кравченко было даже два ларька – в том, что подальше, на пересечении с Ленинским, пиво было получше и подороже.) Однажды канистр и банок под рукой не оказалось, тогда пришлось отправляться в поход с тазиком для белья, взяли пива, принесли и вылакали его, стоя на четвереньках. Вообще, нечто подобное ДСВешным хроникам недурно описано в мемуарах Романа Неумоева: «Пили молча, безо всяких эмоций, смеяться не могли, говорить было не о чем, но всех пронизывало какое-то доставляющее мрачное удовлетворение чувство безысходного единства и сознание своей правоты».
На минус первом этаже находился так называемый «инженерник» – техническая подсобка с разнообразным концертным оборудованием. Концерты, в самом деле, случались – в диапазоне от «Аквариума» до «Чердака офицера». Однако куда более значительные представления устраивались непосредственно в «инженернике», где всем заправлял общий знакомый. Кто-нибудь непременно повисал на гигантских колонках, и силой звука каких-нибудь Jethro Tull его отбрасывало чуть не в другой конец комнаты. Однажды мы во всю мощь этих колонок прослушали целый альбом весьма передовой по меркам 92-го года Диаманды Галас. Ее кассету, помнится, приволок один из самых знаменитых обитателей ДСВ, у которого в записной книжке был телефон академика Сахарова, за душой – бездны, а в творческой биографии – неоконченный роман «Эпилятор», картина «Владимир Ильич Ленин в душе, вид снизу» и многое другое.
Колонки постепенно пропили.
Компании из ДСВ, в общем, не тянули на звание ни тусовки, ни тем паче богемы. Это было несколько иное образование. Богема предполагает творческие амбиции, болезненную яркость, свойскую идеологию, разнообразие увеселений, элементарную фешенебельность, наконец, – ничего такого в ДСВ с его вынужденной соборностью и некоторой скованностью движений и помыслов, скорее всего, не было. И тем не менее там присутствовала некая, что ли, насущность. Потому что все-таки это был в первую очередь дом. И отчаянная беспредметность круглосуточных чудачеств была оправдана ощущением нелепого, временного, никуда не годного, но все же жилища. Крыша над головой была в конечном итоге пафосом, идеологией и прощением всему – и постояльцам в собачьих ошейниках, и самому оглушительному в мире исполнению All along the watchtower на кафельном полу ночной кухни, и тесному лифту-каземату, тяжело ползущему от этажа к этажу (однажды в нем перевозили умершего накануне ночью студента-философа; лифт был маленький, и труп пришлось везти стоймя – к вящему ужасу заходящих на каждом этаже первокурсниц. Один из перевозчиков-добровольцев, кстати, имел при этом кличку Суицид, которая впоследствии сменилась на прозвище Добрейший).
На днях я проезжал мимо ДСВ – впервые за черт знает сколько лет. Башня мышиного цвета сегодня теряется за новой постройкой – тридцать свежеотстроенных этажей легко затмевают исторические двадцать два. Ларька «Перспектива», разумеется, давно уже нет. О былом времени напоминает только трава – живая и жухлая, она стелется возле здания на манер истоптанного ковра, ровно как и пятнадцать лет назад. У бюро пропусков висит объявление «За нарушение правил оформления и пребывания гостей в корпусе запретить пользование компьютерным классом ДСВ студенту Ян Чан Чжу». Внутрь меня, разумеется, не пустили. Я потоптался немного вокруг, посмотрел на висящий на стене серый телефон, явно помнящий те еще крики. И отчетливо вспомнил, как однажды звукач того самого «инженерника» (звали его, кстати, Юрий Сидоров, чего уж там) проснулся в комнате с полным набором похмельных драм и таким же полным отсутствием денег, а также идей их обретения. Вдруг в дверь заколотили. Сидоров из последних сил поинтересовался, кто. Оказалось, один болван, успевший преизрядно всех утомить за прошлые сутки. «А деньги у тебя есть?» – устало осведомился Ю. С. «Есть, Юра, есть, открывай!» – ликовал глупый голос за дверью. «Просунь под дверь и уходи», – резюмировал Сидоров и гордо перевернулся на другой бок.
Если когда-нибудь ДСВ обзаведется мемориальной доской, на ней непременно нужно выбить эту фразу.