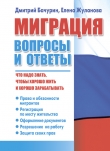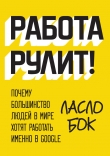Текст книги "Русская жизнь. Понаехавшие (апрель 2008)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Записали Мария Бахарева, Павел Пряников, Евгений Клименко и Алексей Крижевский
* ГРАЖДАНСТВО *
Олег Кашин
Богородский киберпанк
Двойное самоубийство в подмосковной деревне
I.
«Она была очень тяжелым человеком», – вздыхает тринадцатилетняя Аня из квартиры номер семь, когда я спрашиваю ее о Даше Лохмачевой. Молчит с минуту, а потом начинает рассказывать ужасы.
Ужасов, строго говоря, всего два – зато какие. Во-первых, когда Аня была в гостях у Даши, Даша съела целую банку варенья, а потом сказала своей маме, что варенье съела Аня. Во-вторых, когда Аня в следующий раз зашла к Даше, и девчонки пошли гулять, Даша забыла выключить воду в ванной, затопила всю квартиру, а маме сказала, что это Аня включила воду, и с тех пор Аню к Лохмачевым не пускали. В общем, Даша Лохмачева, несмотря на свои неполные пятнадцать лет, действительно была очень тяжелым человеком.
Я спрашиваю Аню, почему же тогда ее сосед, двадцатилетний Максим Парахин полюбил эту ужасную девочку. Аня вздрагивает: «Кого полюбил?»
II.
О том, что причиной двойного самоубийства стала несчастная любовь, в селе Богородском Рузского района Московской области знают все. Кто-то даже вспомнил, что Даша влюбилась в Максима еще давно, когда ей было шесть лет, и потом, как принято писать в желтой прессе, детская привязанность переросла в нечто большее.
А в ночь на 28 марта парня и девочку нашли мертвыми у вышки сотовой связи рядом с богородским кладбищем. Вышка обнесена колючей проволокой, и на этой проволоке висело тело Максима. А Даша лежала рядом, на земле.
Кто– то еще говорил, что влюбленные спрыгнули с вышки, взявшись за руки. Это, конечно, неправда, но все-таки очень красиво.
III.
«Кого полюбил?» – спрашивает меня Аня, и я тоже вздрагиваю, потому что в Богородском все знают о том, что случилось с двумя влюбленными. Услышав имя Даши, Аня смеется: «Ой, ну бросьте, какая там любовь».
Максим работал в Москве, охранял супермаркет. Работа была – сутки через трое, то есть каждые три дня Максим садился на автобус, ехал в Тучково, потом полтора часа на электричке и потом еще полчаса на метро. Приезжал домой, отсыпался, а потом заходил к Ане за новыми компьютерными играми и рассказывал ей о своей личной жизни. «Девчонки его любили, – объясняет Аня, – а он их как-то презирал. Хвастался мне – а я вот с этой трахался, и с вот этой, и еще вон с той, которая из Николаевки».
Богородское находится в самом конце дороги, отходящей от Минского шоссе, у поворота на знаменитое Петрищево – там на повороте еще памятник Зое Космодемьянской стоит. Вдоль дороги – маленькие деревни с одинаковыми названиями – Ново-Николаевка, Ново-Ивановка, Ново-Михайловка. Даша была из Ново-Ивановки.
«Они познакомились на танцах в субботу, а в четверг вечером уже прыгнули. Я не думаю, что у них там все серьезно было, Максим после тех танцев успел мне про двух других девчонок рассказать, а в Ивановку он в те дни не ездил», – в любовь с первого взгляда Аня явно не верит.
IV.
Дом Лохмачевых в Ново-Ивановке стоит прямо у заброшенной водонапорной башни, где любят тусоваться местные подростки. О том, что на танцах в Богородском Даша познакомилась с «та-а-аким парнем», она рассказала и Диме, и другому Диме, и Ивану. «Она даже говорила, что она от него беременна, но это она, по-моему, неправду говорила, – рассказывает один из Дим. – Я даже не знаю, виделись они после танцев или нет. Знаю, что по аське каждую ночь переписывались».
Водонапорная башня, наверное, в судьбе Даши какую-то роль сыграла – лет с десяти она часто говорила, что ей надоело жить, и однажды она заберется на эту башню и спрыгнет с нее, и тогда все поймут, кого они потеряли. «Просто у нее родители давно развелись, – объясняет другой Дима, – и она так свою мать шантажировала, когда ей чего-то хотелось. Вредная была очень».
Строго говоря, даже если бы Даша действительно собралась спрыгнуть с этой башни, у нее вряд ли бы получилось – даже поздно ночью в башне обязательно кто-то есть. Иван, например, прячет в башне от дождя мопед своего старшего брата – ну и вообще место людное. Если бы в окрестностях не было вышек сотовой связи, то прыгать было бы больше неоткуда.
V.
Галя, мать Максима, работала продавщицей в магазине; сейчас взяла отпуск, общаться ни с кем не хочет. Ее сменщица (свои фамилию и имя она назвала, но просила не публиковать) тоже говорит, что не хочет общаться, но выглядит это примерно так: «Не спрашивайте у меня ничего, все равно я вам не расскажу, что…» – и далее подробный рассказ обо всем, что произошло вечером 27 марта.
Во– первых, Максим в тот вечер несколько раз заходил в магазин за пивом -очевидно, для себя и для Даши, потому что при вскрытии было установлено, что и он, и она в момент смерти находились в состоянии среднего опьянения.
Во– вторых, называть гибель Даши и Максима двойным самоубийством, вероятно, не стоит -да, Даша покончила с собой, более того – прежде чем подняться на вышку, она позвонила своему отцу и сказала, что он ее больше никогда не увидит и она хочет с ним попрощаться, а Максим уже после того, как Даша спрыгнула с вышки, позвонил в милицию и сообщил, что Даша покончила с собой – насчет себя самого он ничего такого не говорил. Более того, у Максима, когда его нашли, была сломана рука, и судмедэксперты считают, что руку он сломал, пытаясь ухватиться за балку вышки – то есть пытался спастись, а с собой кончать не собирался. «Но это они так говорят, – заключает продавщица, – а я вот что думаю: прыгнул-то он все-таки сам. Решил, что затаскают потом, будут думать, что он ее убил».
Дальше женщина пускается в рассуждения по поводу причин случившегося. Танцы в клубе – только по субботам, в остальные дни клуб закрыт, и у молодежи, кроме пива, никаких развлечений нет, и даже если учесть, что пива подросткам в магазине не продают, они все равно как-то достают и его, и даже самогон, а Максим вообще был совершеннолетний, поэтому он имел право покупать пиво.
VI.
На сайте «Одинцово-инфо» через два дня после случившегося про Дашу и Максима написали, конечно, что они Ромео и Джульетта, и напарница матери Максима даже поругалась на форуме этого сайта с автором заметки: объясняла, что никакие они не несчастные влюбленные, а просто пьяные дети, которых некому было воспитывать. Но в сообщениях женщины был мат, и модератор их постирал, ну и пускай.
Собственно, вот вся история – мальчик познакомился с девочкой на танцах, потом четыре дня трепались по ICQ, потом напились пива и то ли спрыгнули, то ли упали с двадцатипятиметровой железной вышки. Понятно, что про Ромео и Джульетту из Богородского еще долго будут писать в газетах, а потом, когда родители погибших придут в себя, им наверняка обеспечено участие в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, и Бог бы с ним.
Сильнее всех неочевидных параллелей с шекспировским сюжетом здесь цепляет другое. Давно уже не редкое, вполне распространенное сочетание непроходимого дальнеподмосковного упадка (совхоз развалился, в лесах вокруг – сплошь заброшенные пионерлагеря, мода на коттеджные поселки до этих краев еще не дошла, потому что до Москвы все-таки далеко; подростки пьют самогон и пиво, рассекают на мопедах старших братьев, по субботам ходят в клуб на танцы – все как тридцать и сорок лет назад) и такой конкретной современности – ICQ-переписка, ругань на интернет-форумах (та продавщица, которая оставляла свои сообщения в форуме, – деклассированная тетка с двумя выбитыми передними зубами; она же – один из сорока миллионов интернет-пользователей, которыми сегодня так принято гордиться), предсмертные звонки по мобильному родителям и в милицию – ну и сама эта чертова вышка сотовой связи в десяти метрах от кладбища, на котором Дашу с Максимом и похоронили. Натуральный деревенский киберпанк, какая-то совсем новая, до сих пор мало кому понятная и мало кем изученная Россия.
Михаил Харитонов
Уехать из Мариуполя
Человек провинции в поисках центра

Стасик – хотя кому Стасик, а кому и Станислав Янович, – сидел в президиуме и посасывал черешок вересковой трубки. Трубка стоила долларов триста. Лицо стоило миллион долларов, то ли краденых, то ли фальшивых. Вполоборота, пожалуй, фальшивых, а посмотреть в глаза ежели – все-таки краденых. Из какого-нибудь бюджетного фонда.
Я сказал это Князькову. Тот глянул на меня с неприязненным удивлением и слегка отодвинулся.
Я только вздохнул. Князьков был, в сущности, неплохой парень. Но, вопреки фамилии, холоп.
Холоп, если чего – это не какой-то там подлец, черная душа. Нет. Просто человек, всегда и во всех случаях принимающий сторону сильного, особенно – если сильный силен официально, законно начальствует. Холоп любит всякое начальство и усердствует перед ним. Правда, холоп – плохой подчиненный, скверный слуга. У хорошего слуги есть две добродетели: верность своему хозяину и трудолюбие. У холопа нет своего хозяина, он и работать не любит. Он любит выказывать усердие – причем перед любым, в ком видит силу. Холопу мечтается, что начальник усердие оценит, освободит холопа от работы и возьмет к себе – приедаться, прикармливаться. За это холоп готов терпеть любые неудобства и тем более унижения. К тому же услуга его хоть и некузявиста, зато ничего не стоит. Более того, если холоп получит вдруг какую награду за усердствование, то теряется и начинает гадать, что начальник-то, небось, ненастоящий.
Стас был настоящим начальником, во всяком случае, он так держался. Этого было достаточно, чтобы Князьков его держал за человека, а меня – за врага человека.
Врагов начальства холоп не понимает и чурается. В лучшем случае считает дураками, в худшем – ненавидит как нарушителей правильного порядка. Чаще всего старается держаться от них подальше, отодвигаться, как отодвинулся от меня Князьков. Впрочем, есть опасная разновидность холопов, которых кличут холуями: те любят сами напасть на нарушителя – опять же не столько покорыстоваться, а просто чтобы почувствовать свою причастность к силе и власти: «Ну кто тут на нас с хозяином, вот мы вам сейчас». В таком случае холуй может насвоевольничать, напасть без команды, и не на того, на кого следует. Хотя окоротить холуя проще простого, цук – и вся недолга. Но спускать с поводка холуев иногда все-таки приходится, иначе негулянные зверушки начинают скучать… При Станиславе Яновиче уже завелась пара холуев, но в зале их не было.
Князьков же был все-таки безобидный, беззлобный человек. Он просто боялся, что я замажу его соучастием в неуважении того, кто в силе, вот и показывал – нет-нет-нет, я тут ни при чем.
А само действо было небезынтересным. Это был так называемый кон, он же конвент – так называют профессиональные сборища работников меча и магии, робота и звездолета, то есть литераторов фантастического жанра.
Вручалась премия, присуждаемая то ли от имени, то ли под эгидой, а может и под омофором литобъединения консервативных писателей-фантастов. Консервативная фантастика – это по тем временам (уже не ельцинским, но еще близким) звучало вызывающе оксюморонно. Для закрепления эффекта фантасты-консерваторы поименовали свою организацию «Траншеей». Это был радикальный жест. К тому же других активов, кроме радикальных жестов, у объединения все равно не было. За ним не стояло ни спонсорских денег, ни контактов с какой-нибудь всесильной мэрией или хотя бы влиятельной управой, да и в фэнтезюшной тусовке оно не воспринималось всерьез.
Так что неудивительно, что церемония происходила в подмосковном пансионате, драном, как пенсионерская кошка.
Зато возня вокруг премии была настоящей, это сообщало номинациям цену.
И мой сборничек был тоже номинирован, и меня даже предупредили, что чегой-тоть дадут, какую-нибудь «Малую Траншею» второй степени, как интересному обещающему молодняку, лахедре желтохвостой.
А вот Стасик был кем угодно, но не лахедрой.
I.
Станислав Янович Зеньковский сам был не прост, и не из простой семьи. Отец его был генерал, не нынешний, советский. Генералов тогда было мало. Мама, в свою очередь, имела серьезные связи во всяких кругах и сферах. В Мариуполь их занесло хитрым путем – до того семейство обитало в Восточной Европе, так что маленький Стасик родился то ли в Германии, то ли в Венгрии, а потом еще успел попутешествовать с семьей. Так что по складу своему он никогда не был мариупольским провинциалом. Это важная черта – она есть у многих покорителей столиц.
Отдельная смешная строчка – про кровь. Русской крови в нем было ноль целых ноль десятых. Это не мешало ему измладу быть отчаянным патриотом своего Отечества – как не помешало впоследствии перестать им быть.
В советском Мариуполе было тепло, но скучно, не было места подвигу. Стас довольно быстро перезнакомился со всеми сколько-нибудь интересными для себя людьми – тогда он музицировал, пытался собрать группу, дать жару и показать класс, но не сложилось, не нашли бас-гитариста или просто надоело. Когда забрали в армию, не сопротивлялся, даже порадовался: он чуял, что нужно куда-нибудь вырываться.
Послали его, однако, в Афган.
О военных своих подвигах Стас – отдадим должное – предпочитал не особо распространяться, хотя в известных ситуациях – когда надо было произвести впечатление – пил «за тех, кто в стропах», и в биографических справках аккуратно указывал воинскую профессию. Причина была простой и очень достойной: он не собирался этим заниматься дальше. У него были на жизнь другие планы.
Книжки он читать любил, но насчет писать самому – задумался не прежде, чем попробовал себя в торговле пиломатериалами (и чуть не сел, спасибо, папа поднял связи). Потом поработал инструктором в местном фитнес-центре, откуда пришлось срочно делать ноги (по его словам, местный авторитет заподозрил его в связи со своей лялькой, Стас как-то отмазался, а могло выйти совсем даже нехорошо). Потом вляпался в какие-то перевозки, «фуры», и все что-то не сходилось, несмотря на боевую лихость. Мешала также украинизация, в ту пору не такая свирепая, как сейчас, но все-таки неприятная.
Но главным было даже не стечение неприятных обстоятельств. Зеньковскому все было скучно. Нет, хуже того, он чувствовал, что засыхает. Надо было что-то делать.
Умные люди говорили одно: если у тебя кризис – перебирайся в Москву.
II.
Москва. Покажите мне то, что в этой Москве можно любить. Нет, не надо кошелек расстегивать. Это-то понятно. За этим тянутся в Москву поезда, набитые смуглыми людьми, плохо говорящими по-русски. Они знают, куда едут и чего хотят от этого города. Их встретят на вокзале, поведут, подселят, проинструктируют, дадут – кому метлу в руки, кому битый «Москвич», кому прилавок, в зависимости от ситуации. Некоторые так и будут шваркать метлой в черной зимней ночи, замерзая под стенами панельных девятиэтажек. Другие приподнимаются, богатеют, покупают квартиры и завозят родню. Некоторые занимаются нехорошими вещами, иногда попадаются. Их выкупают важные, иссиня выбритые уважаемые люди, владельцы торговых центров, рынков, клубов. Все они, от дворника до самого уважаемого человека, твердо знают: Москва – это деньги, доступные женщины, хорошие вещи, Шереметьево-2. Чего еще надо.
Надо понять. Зачем в Москву русскому человеку, которого тут не ждут, который не хочет рыть землю носом, извлекая пользу? Зачем – рискуя, оставляя семью, работу, какое-то с трудом и муками завоеванное положение, место под низким, но все-таки солнцем?
Едут за жизнью. Как сказал один такой понаехавший – из Кишинева, жил в Красноярске, приехал поступать в МГУ на филфак: «Жить в Москве невозможно, но жизнь есть только в Москве».
Это точно. Жить в Москве нельзя, особенно если ты никто и звать тебя никак, и надо цепляться за каждую трещинку, чтобы не вынесло в черную зимнюю ночь. Но жизнь – только здесь. Больше ее в России нет. Говорят, ее видели в Петербурге, но Петербург весь выдумка, приехать туда по-настоящему нельзя, разве только Шевчуку вроде бы удалось на каком-то специальном поезде, на медном волке через гремучую Ладогу. Закрытый, холодный, тесный социум – во всяком случае, так кажется со стороны.
А вот в Москву, как ее ни кляни, приехать все-таки можно.
Впрочем, попробуем обойтись без поэзии, перейдем на бытовую социологию. Понятно, что именно Москва является крупнейшим – можно сказать, единственным – центром в России, где сосредоточена львиная доля человеческой активности, начиная экономической и кончая культурной. Здесь находятся Газпром и МГУ, здесь выпивается львиная доля поставляемого в страну французского шампанского и публикуется основная масса непопсовой литературы. Здесь можно сходить в Третьяковскую галерею и потом в стриптиз-бар, где тоже кое-что показывают. Но главное: в Москве – жизнь.
То есть, иными словами, продуктивное общение.
III.
Посидеть, покалякать, по водочке, еще по одной. Этого хватает, даже за Полярным кругом. Русские – довольно общительный народ, несмотря на холодную северную кровь. Но есть общение и общение – разница тонкая, но на практике очень ощутимая. Примерно как между торговлей в прибыль и торговлей в убыток. Вроде тот же прилавок, те же помидоры, те же покупатели. В конце дня ящики пустые, в кармане пачка мятых денег. Все решает соотношение – сколько стоили помидоры, сколько их осталось, сколько превратилось в мятые бумажки, сколько этих бумажек надо отдать. Выходит плюс или минус. Если постоянно получается минус – дело швах.
Общение – тоже обмен, пусть и словами. Но обмениваться можно по-разному. Например, обмен матюгами, обмен жалобами и обмен идеями – это разные обмены. У обменявшихся матюгами («Ты мля» – «Да пошел ты»), даже если дело не дошло до мордобоя, как минимум, портится настроение. Это, так сказать, взаимное разорение. У обменявшихся жалобами торговлишка так себе. В лучшем случае она выходит на ноль: несколько повышается настроение (не у меня одного все плохо), но понижается отношение к миру в целом (оба думают: у всех все плохо, в каком же дерьмище мы живем). У обменявшихся идеями, особенно если идеи подходят друг к другу, может завязаться и какое-нибудь общее дело. Но даже если не завязывается – все равно оба уходят окрыленные (оба думают: меня наконец-то поняли, а я услышал офигенскую вещь). Это и есть продуктивное общение: игра с положительной суммой.
Перебивочка, но важная. На что тратится эта прибыль? Вообще-то по-разному. Хорошее знакомство можно при известной ловкости превратить и в деньги. Но главное не это. Невидимый прибыток от общения идет на личностный рост.
Не, ну я понимаю, что такие слова всерьез говорить нельзя. Мы тут все взрослые циничные дяди, «личностный рост» – это из попсовых книжечек для девочек-чувствашек, томимых недотрахитом, да? А вот не надо, не надо морщить нос. Это словосочетание довольно точно описывает некую вещь. Личность – вполне себе существует, ее не Черчилль в восемнадцатом году придумал, она вообще у людей есть, даже у охранников в супермаркете, вы только представьте себе. И она, личность, бывает разного, так сказать, размера. Маленькая, побольше, большая. Кстати, это не имеет отношения к тому, «хорошая» она или нет. Плохой человек может иметь очень развитую личность, а хороший – малюсенькую. Правда, и добро от него будет малюсенькое, не добро, а так, доброта… Но это в сторону.
Так вот. Личность питается опытом, а растет от продуктивного общения. В той среде, где есть витамины и удобрения. Для кого-то это накуренная кухня, для кого-то – подвал, для кого-то – клубная зала. Впрочем, главное – люди. Те, с кем общение получается, выходит в плюс. Тогда человек, так сказать, растет. Становится интереснее, умнее, иногда даже лучше. И наоборот – если этого нет, он начинает загибаться. В самом прямом смысле этого слова: спинка горбится, глазки тухнут, все начинает валиться из рук. Потому что скукоживается внутренняя сущность. На каком-то этапе – необратимо. Остается пить и смотреть телевизор.
Теперь внимание. Снова вспомним про – «послать», пожаловаться и обменяться идеями. Заметьте: послать по матери можно кого угодно, тут выбор богатейший, «любого бери». Пожаловаться на жизнь можно только другу или хотя бы знакомому. Найти человека, чтобы поговорить об интересном – о, это задача. Такого надо поискать.
Если же для выхода в плюс нужен не один человек, а несколько, задача становится чертовски сложной. Нужно приложить усилия, потыркаться, найти контакты, познакомиться, стать своим. Все это неудобно, отнимает время, стоит денег, и довольно часто печени, ибо в России пьют водку… Но главное, опять же, простите, усилия души. Ну да, опять пошлость, ну скажите иначе, вы же поняли.
Не теряйте нить: мы подходим к главному.