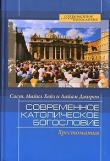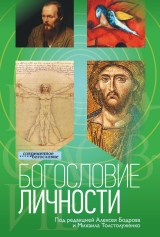
Текст книги "Богословие личности"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Николай Бердяев, как он сам признается, был кем угодно, только не систематическим мыслителем. В его работах не найти аналитического разбора понятия личности. Что там можно найти – и поэтому следует искать – это силу и глубину, которых он обычно достигает, задавая фундаментальные вопросы, его упор на нескольких сильных идеях, могущих радикально изменить наш обычный способ мышления.
Бердяев считает, что личность состоит из двух «метафизических элементов»: творчества и свободы.
В книге «Смысл творчества» (1916), которая носит поясняющий подзаголовок «Опыт оправдания человека», трансцендентность человеческой личности достигается через акт творчества, который не только являет истинный образ Божий в человеке (идея, заимствованная у Несмелова), но также реализует обожествление человека. Другими словами, преобразует индивида в личность:
Творческий акт всегда есть освобождение и преодоление… Человеческая природа в первооснове своей через Абсолютного Человека – Христа уже стала природой Нового Адама и воссоединилась с природой Божественной – она не смеет уже чувствовать себя оторванной и уединенной… Только переживающий в себе все мировое и все мировым, только победивший в себе эгоистическое стремление к самоспасению и самолюбивое рефлектирование над своими силами, только освободившийся от себя отдельного и оторванного силен быть творцом и лицом[253]253
Николай Бердяев, Смысл творчества. (Опыт оправдания человека), М.: Изд-во Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1916 («Введение»).
[Закрыть].
Клеман подчеркивает эсхатологический характер бердяевского «богочеловечества», которое открывает человека Богу в ответ на откровение Бога человеку:
Ни Бог больше не против человека, ни человек больше не против Бога, но рождение Бога в человеке и рождение человека в Боге, поскольку человек не может найти Бога нигде, кроме своей истинной человечности[254]254
Clément, Berdiaev, p. 33.
[Закрыть].
Но творчество предполагает свободу. Опять же, мы имеет здесь дело не просто с материальными условиями для свободы (свобода действий, перемещений, выбора…). Творчество предполагает свободу, поскольку и творчество, и свобода укоренены в Боге и зашифрованы в самом существе человека. Только свободное творчество выходит из плоскости «объективированного» существования (интересной чертой бердяевской мысли является его постоянное обращение к богословским спекуляциям).
В этом отношении свобода даже предшествует трансцендентальным атрибутам бытия: bonum, verum, pulchrum. Своей идее примата свободы над бытием («учение о свободе на грани бытия») Бердяев обязан метафизике позднего Шеллинга. Но он открыл свой путь к этой мысли через чтение западной мистики (Якоб Бёме) и Достоевского. Как он писал в своей монографии о великом русском писателе:
Истина делает человека свободным, но человек должен свободно принять Истину… Свобода не может быть отождествлена с добром, с истиной, с совершенством. Свобода имеет свою самобытную природу, свобода есть свобода, а не добро. И всякое смешение и отождествление свободы с самим добром и совершенством есть отрицание свободы, есть признание путей принуждения и насилия[255]255
Миросозерцание Достоевского, Париж, 1923 (гл. III, «Свобода»).
[Закрыть].
Только будучи укорененным в свободе, добро может быть в действительности добрым, а правда – правдивой. Я не сказал бы: «…а красота – красивой», – поскольку красота, как учит Достоевский, остается «загадкой»: фактически она сохраняет структурную двоякость радикальной свободы, которая может порождать как добро, так и зло. Можно найти интересное развитие этой идеи у Луиджи Парейсона.
Наиболее интересное развитие идей Бердяева о свободе в связи с личностью можно найти в его крупных работах: «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики» (1931) и «О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии» (1939). Историософские последствия персонализма представлены в его последней книге «Опыт эсхатологической метафизики» (1947).
Бердяев повторяет суждение Шелера: «Ни в какое другое историческое время человек не оказывался столь проблематичным, как ныне»[256]256
M. Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, 1928, цит. по: Н. Бердяев, О назначении человека (1931), М.: Аст, 2006. С. 76.
[Закрыть]. Здесь мы действительно находим проблему современности: не Бог, не божественная личность требуют исследования, но именно человечество. Личность обладает духовной ценностью, наивысшей иерархической ценностью внутри этого мира. Более того: ее ценность предполагает сверхличные ценности. «Личность есть носитель и творец сверхличных ценностей», она существует, только если сверхличные ценности существуют, и ее существование предполагает существование Божье[257]257
Н. Бердяев, О назначении человека. С. 93.
[Закрыть].
Эта самотрансценденция достигается через творчество и свободу. Человеческая свобода участвует в нетварной свободе Бога. Здесь, возможно, мы найдем выход из «онтотеологии». Личность – которая представляет собой свободное творчество – присутствует прежде бытия, покуда свобода предшествует бытию:
Личность первичнее бытия. Это есть основа персонализма. <…> Свобода безосновна, не определена и не порождена бытием <…> Поэтому только существует свобода, существует личность. Примат свободы над бытием есть также примат духа над бытием. Бытие – статично, дух – динамичен. Дух не есть бытие. О духе нельзя мыслить интеллектуально как об объекте, дух есть субъект и субъективность, есть свобода и творческий акт[258]258
Н. Бердяев, О рабстве и свободе человека (1939), М.: Аст, 2006. С. 86–87.
[Закрыть].
Прежде обсуждения подхода Бердяева может быть полезно указать на постоянство его метода. В его обзоре «Науки о человеке» Несмелова (1909) он писал: «К вере нельзя придти философским путем, но после пережитого акта веры возможен и необходим христианский гнозис»[259]259
Н. А. Бердяев, Типы религиозной мысли в России, Париж: Ymca-Press. С. 303.
[Закрыть]. Философия Бердяева, которую он в другом месте сам определял как «мистический реализм», есть свободное и творческое размышление внутри христианского опыта веры. Дает ли такой подход настоящее понимание христианской концепции личности? Здесь мы сталкиваемся с серьезной критикой мышления Бердяева.
Василий Зеньковский в своей «Истории русской философии», помимо общей оценки, дает резкую критику как метода, так и основной аргументации, касающейся основных понятий Бердяева – творчества и свободы.
Во-первых, утверждает Зеньковский, имеется противоречие между творчеством как свободным актом духа, направленным на освобождение человека «от мира и высвобождение всего его творчества», и объективацией творческой активности в определенных произведениях (включая моральные поступки), неизбежно связанной с этим миром. Парадоксально, что «…результаты творческого акта, его воплощения попадают во власть законов объективации мира»[260]260
Н. А. Бердяев, Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация, Париж: Ymca-Press 1947. С. 159, 162, 166, 167.
[Закрыть]. Но в этом случае, как замечает Зеньковский, «творчество теряет смысл»:
… Не помогает и утверждение Бердяева, что «всякий творческий моральный акт есть, по существу, конец этого мира, основанного (!) на поругании добра» [Опыт эсхатологической метафизики. С. 163]. Если, как пишет тут же Бердяев, «всякий творческий акт (моральный, художественный и т. д.) есть акт наступления конца мира, взлет в иной, новый план существования», то ведь все это остается фиктивным, ибо «результаты» творческих актов внедряют нас обратно в мир (падший) и тем его лишь укрепляют…[261]261
V. V. Zenkovsky, A History of Russian Philosophy II, London, 1953, p. 771. В. В. Зеньковский, Христианская философия, М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 765.
[Закрыть].
Во-вторых, русский историк философии замечает парадоксальный солипсистский результат бердяевского персонализма, в основе которого лежит доктрина «свободы прежде бытия», поскольку «наша собственная природа не может быть источником нашей свободы». Для Зеньковского, первичность свободы ведет Бердяева дальше, «к ослаблению связи человека с Богом», так как «человек есть дитя Божие, но и свободы»… над которой бессилен Бог». Бердяевский «антииерархический персонализм» по существу… обособляет, а не соединяет людей, и так как личность «первичнее бытия», не рождается из «лона бытия», то момент плюрализма здесь налицо… Чтобы смягчить эту тенденцию к изоляции одной личности от другой и дать обоснование для «этики творцов», Бердяев вводит понятие «коммюнитарности», или «общности». Собственно, «окончательное преодоление одиночества» (солипсизма! – В. З.) происходит… лишь в мистическом опыте[262]262
Zenkovsky, A History of Russian Philosophy II, pp. 778–779; Зеньковский, Христианская философия. С. 771–772.
[Закрыть].
Итак, с одной стороны, понятие творчества при более близком рассмотрении оказывается неспособным избежать объективации и, следовательно, обеспечить основание трансцендентности личности (как сам Бердяев уверяет, «Объективация есть в первую очередь деперсонализация»[263]263
Бердяев, Опыт эсхатологической метафизики. С. 73.
[Закрыть]). С другой стороны, предельный характер свободы стремится к изоляции одной личности от другой. Хотя Бердяев и признает, что «эгоцентризм разрушает человека»[264]264
Бердяев, О рабстве и свободе человека. С. 47.
[Закрыть], его недоверие к любой форме институционализации («иерархическому персонализму»), которая бы организовывала социальные взаимоотношения между людьми, привело его к концепции личности, очень близкой к лейбницевым монадам. Все эти противоречия оказываются устранимыми, как кажется, только на мистическом уровне.
Можно задаться вопросом, имеется ли теоретическая процедура исправления этих нежелательных результатов? Проблема, вероятно, лежит в понятии тварного мира, который Бердяев рассматривает обычно в отрицательном ключе, в его падшем состоянии. Если мир – не место для свободного развития человеческой деятельности, для соучастия человека в творческой работе Бога, но только для пассивного ограничения его творчества, тогда любой объективный результат его творчества ниспадает снова в мертвый мир вещей, и никакая трансформация или преображение материи не наступают в историческое время, но только в его конце, когда в историю вторгается эсхатологическое время. То же самое можно сказать об исторических взаимоотношениях между личностями: любая форма социального порядка будет в конце концов ограничением метафизической свободы личности, и только апокалиптическая эра Духа сможет разрешить внутреннее противоречие между двумя противоположными полюсами свободы (единого) и единства (многого)[265]265
Бердяев, О рабстве и свободе человека. С. 22–23.
[Закрыть].
В более раннем разборе книги Бердяева «Смысл творчества»[266]266
В. В. Зеньковский, «Проблема творчества: (По поводу книги Н. А. Бердяева “Смысл творчества. Опыт оправдания человека”)», в: Христианская мысль, 1916, № 9. С. 124–148.
[Закрыть]
Зеньковский упрекнул автора за непонимание аутентичной церковной традиции, так как он не делает различий между христианством как «вечным идеалом, данным нам в Евангелии, и его историческим воплощением»[267]267
Цит. по изд. В. В. Зеньковский, Собрание сочинений. Том 1. О русской философии и литературе. Статьи, очерки и рецензии. 1912–1961, М.: Русский путь, 2008. С. 93.
[Закрыть]. Можно утверждать, что только правильное понимание церковного общения позволяет преодолеть замкнутость индивида в себе. Именно то, что Бердяев не смог выявить, как различные люди соотносятся друг с другом в свободной общности своих целей, критиковал Зеньковский в бердяевском подходе к личности. За пределами этой идеи находится богословский спор о соборности.
Является ли поэтому христианская философия личности неосуществимой без богословия?
Два богословских подхода к тайне личности: Сергей Булгаков и Владимир ЛосскийСуществуют два способа обращаться с религиозной проблематикой личности: либо можно сконцентрироваться на трагической ситуации человека в мире и затем рассмотреть его открытость трансценденции (этот способ был избран экзистенциализмом и самим Бердяевым), либо можно вывести антропологию из богословия, коль скоро Бог сотворил человека по своему образу и подобию (Быт 1:27). Этот последний подход можно рассматривать как альтернативную основу христианского персонализма, где отправной точкой служит божественная личность, а не опыт. Это было отправной точкой как для Сергея Булгакова, так и для Владимира Лосского[268]268
Альтернативной и весьма стимулирующей философию личности была философия Карсавина, который сумел сохранить и святоотеческое понимание личности (божественной / человеческой), и софиологическую интерпретацию взаимоотношений между человеком и Богом, см. Dominic Rubin, “Lev Karsavin: Personhood as the fullness of being and Orthodox thought”, paper delivered at the conference Theology of Person in Eastern and Western Christianity, Bose, Italy, 21–24 October 2010. Что касается вторичной литературы по Булгакову и Лосскому, я упомяну лишь несколько важных работ: C. Evtuhov, The Cross and the Sickle. Sergei Bulgakov and the Fate of Russian Religious Philosophy,1890–1920. Ithaca: Cornell University Press, 1997; P. Valliere, Modern Russian Theology: Bukharev, Soloviev, Bulgakov: Orthodox Theology in a New Key. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2000; Vladimir Lossky, “théologhien orthodox” // La vie spirituelle: ascétique et mystique n. 730 (1999) [texts by M. Stavrou, N. Ozoline, J. Colosimo, O. Clément, M. de Gandillac, É. Behr-Sigel, D. Allchin, B. Bobrinskoy, C. Aslanoff]; Р. Уильямс [R. Williams], Богословие В. Н. Лосского. Изложение и критика, К.: Дух и Лiтера. 2009.
[Закрыть]. Мы рассмотрим те аспекты их конкурировавших богословских учений о личности, которые могут пролить свет на два основных вопроса, поднятых при нашем анализе философии Бердяева: 1) как может творчество личности внутри мира открыть пути к трансцендированию самого мира? Другими словами, как мы можем понять трансценденцию личности? 2) Как следует понимать абсолютную свободу личности, чтобы избежать солипсизма?
Имеется, однако, фундаментальное богословское различие между этими двумя авторами. Булгаков, пытаясь объяснить возможность «богочеловечества», ищет позитивный («катафатический») метод, чтобы объяснить четыре негативных определения Халкедонского ороса. Он находит такой метод в идее Софии, которая обладает двойственностью состава: нетварная (София как οὐσία θεου) и тварная (человечество и творение Божье, Матерь Божья как эсхатологический образ церкви). Чтобы избежать пантеизма, ключевым понятием для Булгакова является ипостасность, возможность стать личностью, своего рода «материнская утроба» личности, но еще не реализованная вполне как личность. Динамическое соотношение между ипостасью и ипостасностью присутствует как в Боге, так и в человеке и соответствует двойственной Софии, земной и небесной.
Критика Булгакова Лосским приводится в движение существенно бескомпромиссным методологическим вызовом всякому богословию, которое не апофатично в своем смысловом ядре: апофатизм, по Лосскому, является не диалектическим моментом богословской аргументации (как в томистской традиции), но функциональной чертой любого богословского дискурса, который никогда не сможет постигнуть внутреннюю сущность Бога, но лишь Его деяния (ενεργιαι; апофатизм Лосского жестко связан с его паламитской интерпретацией Псевдо-Дионисия Ареопагита)[269]269
Различие между богословскими концепциями Булгакова и Лосского глубже, чем хорошо известная доктринальная (и идеологическая) полемика по «софиологии» тридцатых гг., см. В. Лосский, Спор о Софии, Париж, 1936; Н. Т. Энеева, Спор о софиологии в русском зарубежье, М., 2001; A. Arjakovsky, Essai sur le père Serge Bulgakov (1871–1944). Philosophe et théologien chrétien, Parole et silence, Paris 2006, pp. 99-125.
[Закрыть].
Эти два богословских подхода привели к двум различным концепциям человеческой личности.
Для Булгакова сам Бог, наряду с природой и личностью, обладает вечной способностью становиться личностью как Его собственное самооткровение, как полный дар и полная рецепция личностности через другого, как сила любви.
… в области духа, наряду с ипостасию и природой его, определяется еще одно возможное состояние – ипостасность. Это есть способность ипостасироваться, принадлежать ипостаси, быть ее раскрытием, отдаваться ей. Это – особое ипостасное состояние не через свою, но через иную ипостась, ипостасирование через самоотдание. Это – сила любви…[270]270
С. Н. Булгаков, «Ипостась и ипостасность (Scholia к “Свету Невечернему”)» 9, в: Первообраз и образ. II, М.-СПб.: Искусcтво – Инапресс, 1999. С. 318.
[Закрыть]
По аналогии с божественным миром, софианская ипостасность внутри творения находит свою автономную сингулярность в человеческой личности («человек есть живое средоточение мира, владыка мира, “бог” его [в предназначении]»). Человеческая личность есть кульминация процесса персонификации, начатого в сотворенном мире через Софию. Неизреченное и непознаваемое деяние любви Божьей вызывает к бытию образ Его, даруя этому образу Его ипостасность, то есть Бог создает из ничего новую, сотворенную ипостась, и эта ипостась есть человек[271]271
Там же. С. 319.
[Закрыть].
В булгаковской перспективе всякое противоречие или противопоставление между человеческим творчеством и объективным миром (как в бердяевской мысли) устраняется, поскольку и творчество, и объективный мир имеют общий «софианский» фундамент, и оба стремятся к конечной, «полной» персонификации:
Бог имеет Софию у Себя, или в Себе, как свое откровение, тварь имеет ее над собой как свое основание… Поэтому всякое тварное творчество не абсолютно, ибо оно не из себя, оно определено софийностью его природы. Тварная ипостась есть только ипостасирующий центр самосущей природы, которую она призвана раскрывать, или вмещать, в своем сознании и творчестве [272]272
Там же. С. 322.
[Закрыть].
Для Лосского, вся концептуальная структура булгаковской софиологии, которая в конце концов зависит от философской схемы, мешает Булгакову прояснить трансцендентность Бога по отношению к миру и, следовательно, трансцендентность личности, которая остается слишком сильно связанной с природой. «Софианская личность», возражает Лосский, есть в действительности «природная личность», которая не может избежать детерминизма.
Единственный путь к христианской концепции личности пролегает через настоящее («апофатическое») понимание христологической догмы. Ипостась Христа не может быть сведена ни к Его божественной, ни к Его человеческой природе. Здесь присутствует неприводимый апофатический момент, который связывает тайну Христа с тайной каждой человеческой личности. Неадекватность определения личности, данного Боэцием – «индивид с разумной сущностью»,[273]273
“Persona proprie dicitur naturae rationalis individua substantia”, PL 64, 1343C.
[Закрыть] – таится в самом дерзновении объяснить то, что остается необъяснимым: уникальность каждого человека превосходит любое определение «человеческой природы». Личность – это бесконечная открытость другим, бесконечная возможность выходить за пределы собственного «Я», превосходить свою природу[274]274
«… la personne signifie l’irréductibilité de l’homme à sa nature … quelqu’un qui se distingue de sa propre nature, de quelqu’un qui dépasse sa nature, tout en la contenant, qui la fait exister comme nature humaine par ce dépassement et, cependant, n’existe pas en luimême, en dehors de la nature qu’il ‘enhypostasie’ et qu’il dépasse sans cesse»: V. Lossky, «La notion théologique de la personne humaine», in: Id., A l’image et à la ressemblance de Dieu, Paris: Aubier, 1967, p. 118.
[Закрыть]. Лосский утверждает здесь, что «неприводимость ипостаси к человеческому индивидууму» есть общая черта (греческого) святоотеческого богословия, хотя сам он осторожно упоминает здесь хайдеггеровский «экстатический характер присутствия»[275]275
Ibid. Р. Вильямс показывает, что это утверждение неверно, и предполагает, что Лосский исходно развивал послеавгустиновскую традицию. Богословие В. Н. Лосского. С. 116–138.
[Закрыть].
После грехопадения человек неспособен исполнить собственное призвание стать личностью: совершать поступки совершенного самотрансцендирования, самоотречения и самопожертвования. Только Христос, совершенный и божественный образ Божий, завершая путем своего послушания Отцу то, что оставило незавершенным падение Адама, восстанавливает в человеческой природе совершенное подобие Бога. В самом деле, искупление, осуществленное Христом, завершается Духом Святым, который дарит разнообразие и уникальность каждой человеческой личности. Лосский настаивает на двойной икономии Христа и Духа Святого: только связь их двоих обеспечивает как единство, так и свободу, преобразование природы и освящение множества личностей. Если действие Христа объединяет, утверждает Лосский, то действие Духа Святого разнообразит:
Христос становится единым образом присвоения для общей природы человечества; Дух Святой сообщает каждой личности, созданной по образу Божию, возможность в общей природе осуществлять уподобление. Один взаимодарствует Свою Ипостась природе, Другой сообщает Свое Божество личностям. Таким образом дело Христа единит людей, дело Духа их различает. Впрочем одно и невозможно без другого; единство природы осуществляется в личностях; что же до личностей, то они могут достигнуть своего совершенства, могут во всей полноте стать личностными только в единстве природы, переставая быть “индивидами”, живущими для самих себя, имеющими свою собственную “индивидуальную” природу и свою собственную волю[276]276
V. Lossky, Théologiemystiquedel’Églised’Orient, Aubier, Paris, 1944, p. 163.
[Закрыть].
Абсолютная свобода человека осуществляется Христом, и, только сообщаясь с мистическим телом Христовым в Духе Святом, снова обретают люди свою неуничтожимую личность. Это, в свою очередь, избегает как природного детерминизма (духовная личность поистине трансцендирует природу), так и солипсизма (разные личности объединены в божественно-человеческом Теле Христовом, Церкви).
Герменевтика личности: парейсоновская онтология свободыБогословские подходы как Булгакова, так и Лосского выбирают в качестве своих исходных точек христологическую догму: первый пытался объяснить позитивно содержание догмы, чтобы вывести особенности человеческой личности, другой настаивал на апофатической форме догмы, которая также применяется к человеку. Их богословский метод покоится на все еще платоновской (эссенциалистской) концепции «природы», хотя и понимаемой динамически («софиански» у Булгакова и «паламитски» у Лосского). Как кажется, в этих теориях теряется бездонный характер свободы, возможность выбора зла, непредсказуемая сила отрицания и разрушения. Они не принимают в должное внимание трагический характер человеческой истории. Великим уроком Достоевского было открытие неведомой бездны человеческого сердца. Бердяев выразил это антиметафизическое открытие, сказав, что «свобода предшествует бытию». То, что было необходимо для продвижения вперед в этом направлении, – другой метод: не платоновский эссенциализм, который ищет метафизическое обоснование «личности», но герменевтика существования, которая открывает новые пути для смысла и понимания внутри противоречий.
Наверно неслучайно, что итальянский философ, который размышлял более всего над «проклятыми вопросами», поставленными русскими мыслителями, вышеупомянутый Луиджи Парейсон, в свои поздние годы сформулировал свой философский метод как «герменевтику религиозного опыта»[277]277
Я приведу здесь две его посмертные книги: Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, Torino: Einaudi 1993; Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza, 1995.
[Закрыть]. Комментируя полярные высказывания Майстера Экхарта о Боге – «Бог есть ничто» и «кроме Бога ничего нет»,[278]278
„Gott ist warhafftig nicht …ein Tunkles nicht“; „Gott ist das ärmste Ding“; „Die Gottheit ist die Wüste“, с одной стороны, и с другой: “extra ipsum nihil est, Niht ûzer Gote enist”.
[Закрыть] – Парейсон замечает, что, если мы примем эти высказывания в строгом метафизическом смысле, они утверждают либо радикальный нигилизм, либо полный пантеизм. Можно рассмотреть их в качестве выражений негативного богословия. Но для Парейсона важно именно философское понимание религиозного (мистического) опыта, которое они несомненно сообщают.
Единственный способ говорить об этом религиозном опыте философски, то есть прояснить общечеловеческий смысл религиозного сознания и его универсальное значение, – это герменевтика: «В герменевтике философии религиозного сознания… любое утверждение носит одновременно философский и религиозный характер: покуда мифологический дискурс обращается к религиозному сознанию, то герменевтика говорит к философскому уму. Данность религии – это одновременно и содержание веры, и проблема смысла, будь то личного или церковного, философского или универсального»[279]279
Ontologia della libertà, p. 237.
[Закрыть].
Именно таким образом следует понимать его интерпретацию Достоевского, на которую глубоко повлияли работы Бердяева, Соловьева и Евдокимова[280]280
Парейсон цитирует здесь французские и итальянские переводы Шестова и Булгакова: L. Šestov, La philosophie de la tragedie, Paris: Éditions de la Pléiade 1926; N. Berdjajev, La concezione di Dostoevskij, Torino: Einaudi 1945; P. Evdokimov, Dostoievskij et le problème du mal, Valence, 1942. Среди других богословов он также цитирует E. Thurneysen, Dostojevskij, Roma: Doxa, 1929; R. Guardini, Il mondo religioso di Dostoevskij, Brescia: Morcelliana, 1951.
[Закрыть]. В самом сердце романов Достоевского Парейсон видит диалектику свободы между двумя полюсами: свободы как послушания («послушание бытию, скромное служение правде и действительности») и свободы как бунта: «бунта против Бога, борьбы с Вечным, предательства правды»[281]281
Dostoevskij, p. 24.
[Закрыть]. Здесь – антропология Достоевского и его пневматология (Парейсон тут снова обращается к Бердяеву). Но следует быть аккуратным, чтобы не превратить диалектику свободы в диалектику необходимости. Двойственный характер свободы неискореним. «Божественны ли идеи или демоничны» (а идеи Достоевского – личности, они всегда воплощены), «это неважно, если нет свободы, с помощью которой можно выбирать между теми и другими»[282]282
Dostoevskij, p. 115.
[Закрыть]. Но критическая важность свободы полностью обнаруживается в ее связи со злом (у Парейсона мы находим утверждение, что «свобода неотождествима с Благом»). И здесь мы подходим к наиболее оригинальному спекулятивному предложению Парейсона.
Достоевский открыл способ исследования исходного звена цепочки, связывающей свободу и ничто. Философия всегда с подозрением смотрела в сторону свободы, взятой в чистом виде. Истинная и глубокая свобода пугает человека, как превосходно продемонстрировала «Легенда о Великом инквизиторе».
Свобода фактически двусмысленна, замечает Парейсон, и наверное она – наиболее двусмысленная вещь среди всех человеческих вещей. И ее двусмысленность берется – как у Бердяева – из ее исходности: свобода «не предполагает заранее ничего, даже разума, что могло бы обеспечить критерий для различения между добром и злом». Человек из подполья, однако, показал, что разум был бы неспособен дать такой критерий[283]283
Dostoevskij, p. 132.
[Закрыть]. Поскольку свобода радикальна, первична, исходна, она также должна быть абсолютной, неограниченной, произвольной – но это в точности суть качества свободы как демонического бунта. Страшным открытием Достоевского было, согласно Парейсону, что именно такова свобода, данная Христом: Он, «смиривший Себя даже до смерти» (Флп 2:8), дал людям неограниченную внутреннюю свободу. Бремя выбора между бунтом и свободным послушанием ныне в руках каждого человека, высший судия свободы – теперь сама свобода. Неограниченный характера дара Христова проявляется ясно в словах Великого инквизитора, сказанных Иисусу:
Вместо твердого древнего закона, – свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою…
Здесь Парейсон делает важное замечание: «Образ Христов, – пишет он, – не прописывает себя сам в человеческий разум, но взывает к человеческой свободе»[284]284
“Ora, l’immagine del Cristo non è un’evidenza che s’impone alla mente, bensì un appello rivolto alla libertà”. Ibid.
[Закрыть]. Истинный образ Божий, Иисус Христос, также есть истинный образ человека, и изначальный источник обоих есть свобода. Поскольку Христос победил искушения в пустыне, отказавшись от принуждения человечества к правде через чудо, тайну и авторитет, но свободно выбрав быть покорным только своему Отцу, он восстановил человеческую свободу, спасая ее от исходного дурного выбора. Но это, в свою очередь, означает, что Бог сам выбрал свободу и что искать Бога надо в свободе:
Бог запрашивает свободу и дает ее: это трагедия человека, в том смысле, что каждое его решение становится чем-то вроде пари…; но это также и трагедия Бога, который принимает только свободное приятие, и поэтому сам себя подвергает человеческой свободе»[285]285
Dostoevskij, p. 135.
[Закрыть].
Человеческая личность достигает совершенства во Христе, и она полагается в конце концов на свободу. Любая эссенциалистская концепция «образа Божьего» – как бы его не понимать – определенно преодолена. Только в рамках герменевтического подхода можно было достигнуть данного результата.
Здесь Парейсон получает концептуальные инструменты для дальнейшего развития герменевтической онтологии свободы. В начале была свобода. Свобода есть первый шаг, первичный акт без всякой подготовки: она врывается снаружи, непредсказуемым и внезапным взрывом. Это то, что итальянский философ называет «ничто свободы»:
Свобода есть первое начало, первое начинание… Она происходит сама от себя: начало свободы есть свобода. <…> Никакое ожидание ее не задерживает, никакое приготовление ей не предшествует. Она есть чистое вторжение, непредвиденная и внезапная, как взрыв. <…> Этот внезапный характер и есть «ничто свободы». Свобода состоит в отношениях с ничто уже в тот самый момент, в который она утверждается[286]286
Ontologia della libertà, p. 470.
[Закрыть].
Здесь, признает Парейсон, мы сталкиваемся с наиболее сложной стороной проблемы свободы: ее приверженностью отрицанию. Контакт между свободой и ничто изначально был испытан самим Богом, в момент, когда Он восхотел быть, а не уйти в небытие; вот почему свобода предшествует бытию: поскольку она есть абсолютный первичный акт – как начало, так и выбор, которыми Бог выводит себя и полагает себя как исходную позитивность. Парейсон договаривается даже до «зла в Боге» как «возможности всегда присутствующей и всегда отброшенной и превзойденной». Исходный выбор Бога был между бытием и небытием, но этот выбор имел свою цену: ни к чему не сводимое предсуществование свободы, ее неизбежное трагическое присутствие. Только философия свободы, а не философия бытия может проиллюстрировать контакт между свободой и ничто[287]287
Ibid., p. 471.
[Закрыть].
Интересно, что здесь мы находим те же философские истоки, что и у Бердяева: Майстер Экхарт, Якоб Бёме и, в частности, Ф. Шеллинг, которого Парейсон называет предтечей современного экзистенциализма[288]288
Ibid., p. 471.
[Закрыть].
Трагическая сторона личности открывается в сострадании Бога и человека. Страдание определяет общий дух солидарности между Богом и человеком. Парейсон говорит, что твердыня трагической мысли – это то, что соработничество между Богом и человеком в благодати может произойти только после соработничества в страдании и что, парадоксальным образом, «без страданий мир кажется загадочным, а жизнь абсурдной»[289]289
Ontologia della libertà, p. 478.
[Закрыть], поскольку именно страдание открывает смысл свободы и тайну греха и искупления, погибели и спасения, в которые вовлечены Бог, человек и мир:
Это страдание, которое бросает в кризис всякую объективирующую и доказательную метафизику, всякую тщательную систему гармоничной и завершенной всеобщности, всякую философию бытия, занятую исключительно вопросом об основаниях. Само страдание содержит в себе смысл свободы и открывает секрет этой универсальной цепи, которая вовлекает Бога, человека, мир в одну трагическую историю зла и скорби, греха и искупления, гибели и спасения[290]290
Ibid.
[Закрыть].
В самой глубине человеческой личности мы находим, как Бог вовлечен в историю со всей ее трагической размерностью. Спасение – не абстрактная концепция, но конкретное и драматическое переживание.