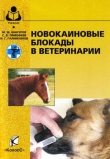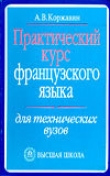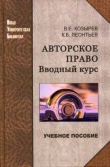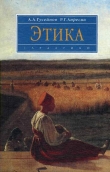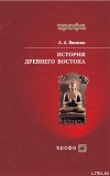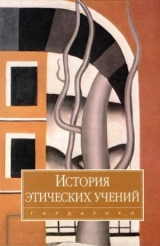
Текст книги "История этических учений"
Автор книги: авторов Коллектив
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 26 страниц]
Китайский термин “мин1” не обладает такой парой ни в смысле оппозиции “счастье – несчастье”, ни в смысле оппозиции “случайность – необходимость”, имея значение предопределения как благого дара свыше (т.е. дара благого Неба). И судьба как случайность, и судьба как необходимость суть формы несвободы, которая не может быть познана, но может быть лишь угадана; напротив, предопределение допускает возможность свободы (о чем свидетельствует, например, совмещение в христианстве идей предопределения и свободы воли) и познания: “И познаете истину, и истина сделает вас свободными” (Иоан., 8, 32).
Понятие “мин1” предполагает отсутствие абсолютной необходимости в двух смыслах: как возможность изменения самого предопределения (ср. с идеей Нового завета) и как возможность подчинения ему или уклонения от него (ср. с идеей свободы воли). Подобное осмысление широко представлено уже в таких древнейших памятниках китайской идеологии, как “Шу цзин”, “Ши цзин” и “Чжоу и”.
1 Слепота богини Фортуны выражает идею случайности, а другой ее атрибут – рог изобилия – идею счастья.
2 О неотвратимости судьбы-фатума свидетельствуют известные максимы: Fata vo-lentem ducunt, nolentem trahunt (Послушных судьба ведет, непослушных – тащит), Fata viam invenient (От судьбы не уйдешь).
3 Идею случайности счастья как судьбы выражают пословицы: “Глупому – счастье”, “Счастье, что трястье: на кого захочет, на того и нападет” (Даль В.И. Пословицы русского народа).
4 Значение “удача” в слове “судьба” выявляет выражение “не судьба” в смысле “неудача”, а значение “случайность” – выражения “на произвол судьбы” и “какими судьбами”. Вместе с тем “судьба”, как и moira, может означать нечто прямо противоположное, т.е. злую судьбину, например: “Судьба – злодейка”. Но такая судьба уже мыслится не случайной, а неизбежной, как неотвратимый рок, – “Судьбы не миновать” (ср. “Без року не умереть”), “И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет” (Пушкин А.С. Цыганы.).
5 Ср. “Охота смертная, да участь горькая”.
6 Связь “доли” по преимуществу с идеей счастливого жребия явствует из пословицы: “Где нет доли, тут и счастье невелико” (Далъ В.И. Пословицы русского народа), а также из весьма прозрачной этимологии этого слова.
103
В “Шy цзине (гл. 26/34) говорится о “новом предопределении (синь мин), а в “Ши цзине” (III, I, 1, 1) – об “обновлении предопределения” (мин вэй синь). Согласно “Шу цзину” (гл. 43/51), “Небо изменяет (гай) предопределение”; в “Чжоу и” (гексаграмма № 49 Гэ) “изменение предопределения” (гай мин) и синонимичная ему “смена предопределения” (гэминУ фигурируют в более и менее древних частях текста соответственно. В “Шу цзине” (гл. 29/37) высказано положение: “Предопределение не является постоянным” (вэй мин бу юн чан), а в “Ши цзине” (III, I, 1,5) – его аналог: “Небесное предопределение не постоянно” (тянь мин ми чан). Там же утверждается, что “великое предопределение” (да мин) государства может быть “низвергнуто” (цин1) (III, III, 1, 7) и небесное предопределение может не быть решающим фактором, поскольку “нет не имеющих [его] изначально, но мало кто может иметь [его] в конце” (III, III, 1, 1).
Видимо, идея потенциальной изменяемости и ассоциирующееся с волевым импульсом значение “приказ” у иероглифа “мин” послужили главным основанием для широко распространенной трактовки “тянь мин” как “небесной воли”. Нам такая трактовка представляется неадекватной хотя бы потому, что понятие “тянь мин” может быть противопоставлено, как это делали, например, монеты, понятию “тянь чжи”, т.е. собственно понятию “небесная воля” (“Мо-цзы”, гл. 26-28, 35-37). Воля в обычном понимании предполагает наличие конкретного субъекта воления (таково персонифицированное Небо у моистов), а предопределение-мин1 в стандартной конфуцианской трактовке – нет: “Если нет совершающих, а нечто совершается – это естественность (буквально: небо – тянь. – А.К.). Если нет доводящих до конца, а нечто доходит до конца – это предопределение” (“Мэн-цзы”, V А, 6).
Рациональность предопределения-мин1 и нефатальность взаимоотношений между ним и человеком выступает на первый план в рассуждениях Мэн-цзы: “Нет ничего, что не было бы предопределено (фэй мин), но следует воспринимать только правильное [предопределение]. Поэтому знающий предопределение не станет под нависшей [и готовой рухнуть] стеной. Умереть, исчерпав свой Путь-дао, – это правильное предопределение. Умереть же в колодках и оковах [преступника] – не есть правильное предопределение” (“Мэн-цзы”, VII А, 2) [2].
1 В современном китайском языке гэ мин трансформировалось в “революцию” (гэмин), а мин вэй am – в “реформы” (еэйсинь).
2 Ср.: “Всякий, делающий грех, есть раб греха”, а не свободный человек (Ин., 8, 34).
104
Мэн-цзы подчеркивал, что предопределение-мин – это внешняя заданность: “Добиваясь – достигаешь, отбрасывая – утрачиваешь, при этом добиваться – полезно для достижения, поскольку это касается заключенного в самом себе. Если же добиваться того, что обладает Путем-дао, и достигать того, что обладает предопределением, то добиваться – бесполезно для достижения, поскольку это касается заключенного вовне” (“Мэн-цзы”, VII А, 3). Как нечто внешнее предопределение-мин1 самим субъектом может быть либо “утверждаемо” – ли мин (“Мэн-цзы”, VII А, 1), либо “устраняемо” – фан мин (“Мэн-цзы”, I Б, 4).
Разъясняя смысл “утверждения предопределения” (ли мин), Ван Янмин особо подчеркивал активный и творческий характер этого акта: “Утвердить (ли4) – это “утвердить” из [выражения] “создать и утвердить” (чуан ли). Сюда же относятся выражения такого рода: “утвердить благодать”, “утвердить изречение”, “утвердить достижение”, “утвердить имя”. Во всех случаях “утверждение” означает, что прежде никогда не бывшее ныне начинает возникать и утверждаться” (“Чуань силу”, цз. 2) .
У Сюньцзы такой подход достиг апогея в тезисе об “ограничении небесного предопределения” – “чжи тянь мин” (“Сюньцзы”, гл. 17). А Дун Чжуншу компромиссно признал существование двух видов предопределения: “великого предопределения” (да мин), которое “телесно” (природно) – ти, и “изменяющегося предопределения” (бянь мин), которое “политично” (социально) – чжэн1 (“Чунь цю фань лу”, цз. 5, гл. 13).
Развитие подобных идей породило учение о трех типах предопределения, критически изложенное Ван Чуном. Согласно этому учению предопределение может быть либо безусловно счастливым (“правильное предопределение” – чжэн мин), либо безусловно несчастливым (“инцидентное предопределение” – цзао мин), либо счастливым или несчастливым в зависимости от добродетельности или недобродетельности поведения того, на кого оно нисходит (“соответственное предопределение” – суй мин) (“Лунь хэн”, гл. 6). Так в конфуцианстве были теоретически оформлены два полюса семантики “мин1”: предопределение как внешняя заданность, не зависящая от воздействий своего носителя (в этом смысле смерть есть мин1), и предопределение как внутренняя обусловленность, порождаемая всей совокупностью предыдущих поступков, т.е. жизненной линии своего носителя (в этом смысле смерть есть утрата мин1).
С конфуцианской точки зрения небесное предопределение реализовалось в следующих параметрах: верхний уровень – Космос (тянь ди), Поднебесная, государство; нижний – отдельная вещь (у), и в частности индивидуальная природа человека (жэнь син).
105
Утверждая возможность познания мищ, Мэн-цзы полностью следовал за Конфуцием, который говорил, что “не зная предопределения, нельзя стать благородным мужем” (“Лунь юй”, XX, 3) и что сам он “в пятьдесят [лет] узнал небесное предопределение” (“Лунь юй”, II, 4). Показательно при этом, что “познание небесного предопределения” Конфуций не считал высшей ступенью познания, заявляя, что в шестьдесят, а затем в семьдесят лет он достиг еще большего. Значимость предопределения для благородного мужа приравнивалась Конфуцием к значимости для него авторитета великих людей и высказываний совершенномудрых (“Лунь юй”, XVI, 8).
Последователи Конфуция, основываясь на принципе гомоморфизма макрокосма и микрокосма, осмыслили возможность познания и изменения человеком своей собственной природы как возможность познания “неба” и влияния на него: “Знающий свою [индивидуальную] природу знает небо” (Мэн-цзы”, VII А, 1); “Способный исчерпывающе [раскрыть] свою [индивидуальную] природу… может войти в триединство с небом и землей” (“Чжун юн”, § 22). Причем под “исчерпывающим раскрытием” подразумевалось совершенное знание истинной природы и вполне адекватное этому знанию поведение. Таким образом, в трактовке первых конфуцианцев путь к воздействию на природу в целом (тянь – “небо”) лежал через воздействие на индивидуальную природу (син2). И, следовательно, две формулы – “Чжуан юна” и “Чжоу и”, приведенные в начале данного параграфа, описывают два вида противоположно направленных связей между природой в целом и индивидуальной природой. Эту замкнутую круговую систему можно представить с помощью следующей схемы:
106
Две другие не менее фундаментальные формулы из “Чжун юна” и “Чжоу и” описывают этот процесс посредством понятий “Путь-дао” и “добро”: “То инь, то ян – это называется Путем-дао. Продолжение этого есть добро. Оформление этого есть природа (син2)” (“Си ци чжуанъ”, I, 4/5); “Руководствование [индивидуальной] природой (сит) называется Путем-дао)” (Чжун юн”, § 1). Эти формулы говорят о том, что представленная на нашей схеме циркуляция есть не что иное, как Путь-дао, атрибутом которого является добро-шань, а конечным модусом – индивидуальная природа-син2. Отсюда понятен тезис Чжу Си об онтологическом первенстве добра по отношению к природе. Соотношение между шань и син2, следовательно, мыслится так же, как соотношение между дао и дэ. Путь-дао несет с собою добро-шанъ, которое, как было показано в § 2 главы III, сопричастно благодати-дэ, в свою очередь являющейся “завершением” (дуанъ) индиви-дуаньной природы-син2 (“Ли-цзи, гл. 17/19).
Таким образом, хотя в качестве эквивалента иероглифа “мин1” в практике перевода и утвердилось слово “судьба”, несомое им понятие гораздо точнее выражает термин “предопределение”. В конфуцианстве понятие “мин” представляет идею рациональной и нефатальной, а потому доступной познанию и пониманию детерминированности, которая как благо даруется человеку свыше. Именно такое понимание мин2 и явилось одним из важнейших теоретических факторов, определивших доминирующее положение в конфуцианстве идеи сущностной доброты человеческой природы, поскольку последняя считалась предопределяемой благим “небом”.
ЛИТЕРАТУРА
Алексеев В.М. Китайская литература. М., 1978.
Антология даосской философии / Сост. В.В. Малявин и Б.Б. Виногродский. М., 1994.
Бамбуковые страницы: Антология древнекитайской литературы / Сост. И.С. Лисевич. М., 1994.
Бурое В. Г. Мировоззрение китайского мыслителя XVII века Ван Чуаныпаня. М., 1976.
Быков Ф.С. Зарождение общественно-политической и философской мысли в Китае. М., 1966.
Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970.
Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайского государства. М., 1983.
Вэн-цзы. Познание тайн. Дальнейшее развитие учения Лао-цзы. СПб., 1999.
Го Можо. Философы древнего Китая. М., 1961.
Го юй (Речи царств) / Пер. B.C. Таскина. М., 1987.
Гэ Хун. Баопу-цзы / Пер. Е.А. Торчинова. СПб., 1999.
Древнекитайская философия: В 2 т. М., 1972-1973.
Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990.
Жюльен Ф. Путь к цели: в обход и напрямик. Стратегия смысла в Китае и Греции. М., 2001.
Жюльен Ф. Трактат об эффективности. М.; СПб., 1999.
Зенгер X. фон. Стратагемы в китайском искусстве жить и выживать. М., 1995.
Иванов А.И. Материалы по китайской философии. Введение. Школа фа. Хань Фэй-цзы. СПб., 1912.
Избранные произведения прогрессивных китайских мыслителей нового времени (1840-1897). М., 1960.
Искусство властвовать // Ли Гоу. План обогащения государства. План усиления армии. План успокоения народа (XI в.) / Пер. З.Г. Лапина. Лю Шао. О человеческом существе (III в.) / Пер. Г.В. Зиновьева. М., 2001.
История китайской философии / Пер. B.C. Таскина. М., 1989.
Китайская военная стратегия / Сост. В.В. Малявин. М., 2002.
Китайская философия: Энциклопедический словарь. М., 1994.
Китайский эрос / Сост. А.И. Кобзев. М., 1993.
Китайские социальные утопии. М., 1987.
Книга правителя области Шан / Пер. Л.С. Переломова. М., 1993.
Кобзев А.И. “Великое учение” – конфуцианский катехизис // Историко-философский ежегодник. 1986. М., 1986.
Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002.
Кобзев А.И. Эрос за китайской стеной. М., 2002.
Конрад Н.И. Избранные труды. Синология. М., 1977.
Конфуцианство в Китае: проблемы теории и практики. М., 1982.
Кравцова М.Е. История культуры Китая. СПб., 1999.
Лапина З.Г. Политическая борьба в средневековом Китае. М., 1970.
Личность в традиционном Китае. М., 1992.
Люйши Чунъцю. Весны и осени господина Л юя. Лао-цзы. Дао цэ цзин (Трактат о Пути и Доблести) / Пер. ГА. Ткаченко. М., 2001.
Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000.
Мартынов А.С. Конфуцианство. “Лунь юй”. СПб., 2001.
Маслов А.А. Мистерия Дао. М., 1996.
Мэн-цзы / Пер. B.C. Колоколова. СПб., 1999.
От магической силы к моральному императиву: категория дэ в китайской культуре. М., 1998.
Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1981.
Переломов Л.С. Конфуций. “Лунь юй”. М., 1998.
Петров А.А. Ван Би. Из истории китайской философии. М.;Л., 1936.
Петров А.А. Ван Чун – древнекитайский материалист и просветитель. М., 1954.
Письмена на воде. Первые наставники чань в Китае / Сост. А.А. Маслов. М., 2000.
Позднеева Л.Д. (пер.). Атеисты, материалы, диалектики Древнего Китая.
Ян Чжу, Лецзы, Чжуан цзы. М., 1967.
Померанцева Л.Е. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве (“Хуайнаньцзы” – II в. до н.э.). М., 1979.
Китайский философ Мэн-цзы / Пер. П.С. Попов. М., 1998.
Проблема человека в традиционных китайских учениях. М., 1983.
Религии Китая: Хрестоматия/ Сост. Е.А. Торчинов. СПб., 2001.
Рубин А.В. Личность и власть в Древнем Китае. М., 1993.
Сыма Цянъ. Исторические записки (Ши цзи) / Пер. Р.В. Вяткина и B.C. Tacкина: В7 т. М., 1972-1996.
Торчинов Е.А. Даосизм. СПб., 1998.
У-цзин. Семь военных трактатов Древнего Китая. СПб., 1998.
Феоктистов В.Ф. Философские и общественно-политические взгляды Сюньцзы. М, 1976.
Фэн Юланъ. Краткая история китайской философии. СПб., 1998.
Чжан Бодуань. Главы о прозрении истины (У чжэнь пянь) / Пер. Е.А. Торчинова. СПб,, 1994.
Чжуан-цзы. Ле-цзы/ Пер. В.В. Малявина. М., 1995.
Этика и ритуал в традиционном Китае. М., 1988.
Ян Юн-го. История древнекитайской идеологии. М., 1957.
Раздел второй
ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИНДИЯ
Глава I
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ
Индия, создавшая вторую по значимости автохтонную философскую традицию мира после европейской, не знала, в отличие от последней, дисциплинарной структуры философии. Поэтому мы не располагаем здесь даже намеком на те схемы, в которых “этика” могла бы занять соответствующую нишу наряду с “логикой” и “физикой”, как то имело место после Ксенократа (396-314) и стоиков, или в качестве основания “практической” философии составить “оппозицию” философии “теоретической”, как то предложил Аристотель (384-322) и его последователи. Индийская мысль не представила нам и того единого термина, который реально соответствовал бы “этике”. Два наиболее, казалось бы, подходящих “кандидата” на эту роль, с которыми мы в дальнейшем будем работать, ей в качестве эквивалента не соответствуют: понятие дхарма наряду с этическим включает очень многое другое [1], а понятие шила является по объему, напротив, более узким. Поэтому наша задача заключается в реконструировании того, что в индийских мировоззренческих памятниках соответствует этическому. Реконструирование же, как важнейшая историко-философская процедура, может оказаться продуктивным только при одном условии – когда оно не становится модернизацией или, говоря по-другому, применением к тому или иному мировоззренческому материалу тех конструкций, которые ему не соответствуют, иными словами, “вчитыванием” в него того, чего в нем нет. Но признаки именно этой, очень распространенной у историков философии, болезни, обнаруживаются в значительном большинстве работ, посвященных традиционной индийской этике в целом, отдельным ее направлениям, а также тому, что можно назвать ее философским фундаментом. Начнем с последнего.
1 Дхарма в самом общем виде означает “порядок”, “норма”, “закон” существования и развития как космоса, так и социума, а также совокупность “обязанностей” индивида. Объем понятия дхарма в социальном измерении включает аспекты и “религии”, и “права”, и “морали”, но не исчерпывается ими и их, в свою очередь, не исчерпывает.
§ 1. “ЦЕННОСТИ”, БЛАГА И ЦЕЛИ
В течение уже более чем двухсотлетнего существования научного изучения истории индийской философии индологи пытаются ввести соответствующий материал в рамки европейских философских категорий, и эти попытки не только неизбежны (индологи, как европейские, так и индийские, в отличие от “традиционных ученых” пандитов, являются носителями европейской философской культуры), но и плодотворны: изучение специфики той или иной философской традиции возможно по определению только в контексте универсального – иначе невозможно говорить и о самой специфике. Проблема только в том, насколько те общефилософские метакатегории, которые выбираются для форматирования неевропейского философского материала, данному материалу реально соответствуют, иными словами, насколько родовые признаки той или иной избираемой метакатегории обнаруживают свое присутствие в тех неевропейских понятиях, которые посредством нее обобщаются.
Последние по крайней мере шестьдесят лет индологи предпочитают обобщать то, что они считают основаниями индийской “практической философии” (учения о целях человеческого существования и средствах их реализации) через “ценности”, “систему ценностей”, “иерархию ценностей” и прочие понятия аксиологического ряда. Более того, практика “перевода” в эти понятия индийских идей и концепций успела стать настолько распространенной и общепринятой, что оказались общепринятыми и производные словосочетания: “индуистские ценности”, “индийская аксиология” и т.п. При этом авторы работ по данной проблематике делятся, на мой взгляд, на две основные группы – те, кто считают нужным опираться на некоторые распространенные в современной философской культуре трактовки аксиологических терминов, и те, которые считают какие-либо обоснования употребления этих терминов в применении к своему материалу излишними. Начнем со вторых, поскольку их больше, чем первых, но ограничимся лишь несколькими показательными примерами.
111
Так, крупнейший современный американский историк индийской философии К. Поттер в своей фундаментальной статье, посвященной ньяя-вайшешике (из многотомной серии “Энциклопедия индийской философии”, одного из лучших монументальных изданий за всю историю индологии) в разделе “Теория ценностей” без всяких оговорок обещает читателю, что после краткого резюмирования общеиндуистских воззрений он “обратится к специфическим теориям ньяя-вайшешики, относящимся к природе освобождения и к другим характерным предметам индуистской теории ценностей – таким, как карма и трансмиграция, способности йогинов и риши, проблема соотношения человеческой и божественной свободы (курсив мой. – В.Ш.), а также сравнительное достоинство различных путей к освобождению” [1]. В томе же, посвященном адвайта-веданте, Поттер включает в ведан-тийскую “теорию ценностей” закабаление в сансаре (в том числе все ее стадии: смерть, “восхождение” тонкого тела, рай и ад, “схождение” на землю, рождение, жизнь), освобождение от нее (мокша), роль действия в освобождении и четыре стадии жизни (ашрамы) [2].
Значительно раньше, чем Поттер, и более “заинтересованно” об индийской системе ценностей писал видный индолог-философ М. Хириянна, который специально занимался традиционной индуистской схемой четырех человеческих целей (purusartha), обозначаемых, как хорошо известно, в качестве прибыли (артха), чувственных удовольствий (кама), религиозной заслуги (дхарма) и “освобождения” (мокша). То, что дхарма и мокша как “высшие ценности” составляют основания индийской религиозной философии, Хириянна считает само собой разумеющимся, но он не оставляет без внимания и две первые. “Эти две ценности артхи и камы, – писал Хириянна, – ищут не только люди, но и все одушевленные существа. Различие состоит только в том, что если человек стремится к ним сознательно, то остальные существа инстинктивно. В этом различении мы и находим характеристическую черту пурушартх или “человеческих ценностей”, т.е. то, что они представляют те цели, к которым человек сознательно стремится. Когда он к ним стремится по-другому, что иногда также бывает, они остаются ценностями, но перестают быть пуру-шартхами. Возможность стремиться к ним бессознательно обусловлена тем фактом, что человек сочетает в себе природу животного и самосознательного деятеля, иными словами тем, что он не только духовное, но и природное существо…” [3].
1 Encyclopedia of Indian Philosophies. Indian Metaphysics and Epistemology: The Tradition of Nyaya-Vaisesika up to Garigesa /, Ed. by Karl H. Potter. Delhi, 1977. P. 18.
2 Encyclopedia of Indian Philosophies. Advaita Vedanta up to Samkara and His Pupils / Ed. by Karl H. Potter. Delhi, 1981. Vol. III. P. 22-45.
3 The Cultural Heritage of India / Ed. by H. Bhattacharya. Calcutta, 1969. Vol. III. P. 646-647.
112
Третий пример дает нам А. Шарма, который является одним из признанных авторитетов в интересующей нас области и считает себя последователем Хириянны. Свое специальное исследование он начинает с перечисления основных словарных значений термина purusatha (по лексиконам М. Моньер-Вилльямса и Б. Апте), в которые входят: 1) человеческое усилие; 2) любой объект человеческого интереса; 3) любая из четырех перечисленных “человеческих целей”. Шарма различает, далее (ссылаясь также на У.К. Смита) три возможных уровня объемов этих понятий (в сторону расширения): артху можно трактовать не только как “благополучие”, но и как “экономические интересы”, а также и как любое целеполагание вообще; каму – как, соответственно, “желание”, “наполнение сексуальной, эмоциональной и артистической жизни” и как желание вообще; дхарму – как “нравственность”, “правильное поведение” и долг как таковой; мокшу – как “спасение”, “освобождение духа” и освобождение как таковое. Предложенная стратификация значений четырех “человеческих целей” резюмируется следующим выводом: “Эти четыре пурушартхи суть четыре класса ценностей, признаваемых в индуистской мысли, и потому они составляют основоположные строительные блоки индийской аксиологии” [1].
Априорная и безоговорочная трактовка четырех “человеческих целей” как “ценностей” становится иногда и критерием классификации всех жанров древнеиндийских текстов. Например, у известнейшего ведолога и индолога Р.Н. Дандекара ценность дхармы “организует” класс текстов дхармасутр и дхармашастр, артхи – ту традицию, от которой сохранились “Артхашастра” и “Нитишастра”, камы – тексты начиная с отдельных заговоров “Атхарваведы” и завершая “Камасутрой”, тогда как ценность мокши разрабатывалась в философских сутрах и комментариях к ним [2].
1 Sharma A. The Purusarthas: A Study in Hindu Axiology. Michigan State University, 1982. P. 1,20.
2 Dandekar R.N. Post-Vedic Literature // R.N. Dandekar. The Age of the Guptas and other Essavs. Delhi, 1982. P. 200-260.
Среди тех индологов, которые, рассуждая о ценностях индийских, пытались опереться на некоторые существующие европейские философские трактовки ценностей или, по крайней мере, признавали необходимость их учета, можно выделить Н. Никама. Осмысливая значение понятия purusartha, которое складывается из “человека” и “цели”, известный исследователь и популяризатор индийской культуры в каждом из этих двух составляющих обнаруживает ценностное. Человек наделен ценностями по определению потому, что быть че-
113
ловеческой личностью – уже значит обладать ценностью. Что же касается цели, то она укоренена в желании, и здесь “мы можем сказать, что все (курсив мой. – В.Ш.) вещи имеют ценность, поскольку они непосредственно соотносятся с сознательным удовлетворением [желания] – все вещи, которые “желаемы” и все, которые “желательны”. И то и другое суть ценности. Но индийская культура не совершает “натуралистической ошибки” и не говорит, что вещь “желательна”, потому что “желаема”” [1].
В отличие от подавляющего большинства авторов Шанти Натх Гупта учитывает концептуальные проблемы с “индийской аксиологией”, но пытается их обойти. Он открывает свою монографию “Индийское понятие ценностей” (1982) с уяснения значения слова “ценности” (по Оксфордскому словарю, согласно которому “ценность есть достоинство, полезность, желательность, а также качества, на которые опирается вышеназванное” [2]) и исторического экскурса в историю данного понятия в европейской философии, различая субъективистские концепции (определения ценности через психологические состояния индивидов у И. Бентама, Дж. С. Милля, Г. Сиджвика и Г. Спенсера) и объективистские (наиболее последовательная у Н. Гартмана, считающего, что ценности суть определенные сущности, в которых все сущее “участвует”), а также опыты разграничения ценностей “внутренних” и “инструментальных” (у В. Урбана) и прочие аксиологические дистинкции. Вывод, к которому приходит автор, казалось бы, не может оправдать название его книги: древние индийцы знали систему ценностей, но не знали самого понятия “ценностей” как такового. Поэтому “древнеиндийскую аксиологию” надо еще реконструировать. Первые ее признаки Гупта обнаруживает в “Миманса-сутрах” (I. 1. 1-4), где благо определяется как то, что приносит счастье (а потому критерием ценности выступает желательность или удовольствие [3]), а ее основную сферу – в дискуссии представителей различных дисциплин знания о том, какая из четырех “человеческих целей” имела приоритет над остальными (в “Артхашастре”, “Камасутре”, дхармашастрах) и как возможна их гармонизация в случае “конфликта ценностей” [4]. Среди параллелей индийской аксиологии с западной Гупта выделяет совпадение индийских концепций со схемами Э. Шпрангера, который различал типы человека “экономи-
1 Nikam N.A. Some Concepts of Indian Culture. Simla, 19G7. P. 55-5G.
2 Gupta Shanli Nath. The Indian Concept of Values. Manohar, 1978. P. 7.
3 Там же. P. 41.
4 Там же. Р. 43.
114
ческого”, “эстетического”, “социального” и “религиозного”, и с онтологической аксиологией Н. Гартмана – в том, что высшие ценности, духовные (дхарма и мокша) должны опираться на низшие, “материальные” (артха и кама) как на свой “онтологический базис” [1].
Как было уже отмечено, я ограничусь только несколькими экскурсами в “индийскую аксиологию”. Для тех, кого интересует более полный объем исследований в этой области, можно назвать публикации классиков этой проблематики – уже названного М. Хириянны [2], Нагараджи Рао [3], Т. М. П. Махадэвана [4], У. Гудвина [5], известного индийского философа Г. Малкани [6], У. Тэтинена [7], – не говоря о многих других, у которых идея о том, что пурушaртхи составляют основание индийской аксиологии принимается не в качестве предмета обсуждения, но исходного пункта всех дальнейших рассуждений.
1 Gupta Shanti Nanh. The Indian Concept of Values. Manohar. P. 28-29, 160.
2 См., к примеру: Hiriyanna M. The Indian conception of values // Annals of the Bhandarkar Oriental Institute (ABORI), 1938-1939, Vol. 19. P. 10-24; Hiriyanna M. The Quest after Perfection. Mysore, 1952, P. 89-93.
3 Rao P. Nagaraja. The Four Values of Indian Philosophy. Mysore, 1940; Rao P. Nagaraja. The four values in Hindu thought // Quarterly Journal of the Mythic Society. Bangalore, 1941. Vol. 32. P. 192-197.
4 Mahadevan T.M.P. The basis of social, ethical, and spiritual values in Indian Philosophy // Essays in East-West Philosophy Ed. by Ch.A. Moore. Honolulu, 1951. P. 317-335; Mahadevan T.M. P. Social, ethical, spiritual values in Indian philosophy / The Indian Mind / Ed. by ChA. Moore. Honolulu, 1967. P. 152-171.
5 Goodwin W.F. Ethics and value in Indian philosophy // Philosophy East and West (PEW), 1954. Vol. 4. P. 321-344.
6 См. к примеру: Malkani G.R. Spirituality – Eastern and Western // The Philosophical Quarterly, 1964. Vol. 37, № 2. P. 107.
7 См. к примеру: Thaetinen U. Indian Philosophy of Value. Turku, 1968.
Понять тех, кто разрабатывал “древнеиндийскую аксиологию” и продолжает делать это в настоящее время, считая что в Древней Индии она была чем-то само собой разумеющимся, отчасти можно. Во-первых, сам термин “ценности” (английское values) является в современной философской культуре безусловно престижным, и потому тем, для кого индийская “практическая философия” значима, выгодно этот термин в применении к ней употреблять. Во-вторых, он становится и все более “обесцененным”, так как уже давно проходит эпоху перехода из разряда философских терминов в строгом смысле слова в разряд “весомых” слов обыденного языка, а потому уже мало кто решится определить, к чему он может быть применим, а к чему не может.
115
В самом деле, для того, чтобы отнести к “ценностям” все перечисленное у Поттера, достаточно знать, что “ценности” – это вообще все престижное и “весомое”для человеческого существования, что предполагает, собственно говоря, и каждый нефилософ. Но индийской философией следует заниматься не только нефилософам, но и философам, а философ, окинув взглядом все перечисленное (напомним, что это “карма и трансмиграция, способности йогинов и риши, проблема соотношения человеческой и божественной свободы”, а также и рождение, и жизнь, и смерть) согласится с тем, что перечисленное можно отнести к “теории ценностей” только в том случае, если аксиология для нас ничем не отличается от антропологии, предметом которой является “все”. Если же этот философ имеет представление о собственно аксиологической литературе (первый по времени из известных нам экземпляров этой категории текстов – “Психологическое основоположение системы теории ценностей” А. Дёринга, изданный в 1892 г.), то он обратит внимание на то, что “теории ценностей” всегда предполагали в качестве отправного пункта исследование того, что такое сама “ценность” как таковая. А все те значимые предметы внимания индийских риши, которые перечисляет Поттер, ни в малейшей мере не предполагали теоретизирование на предмет ценностей (если он, конечно, не располагает такими памятниками, о которых индологи до сих пор еще ничего не слышали), как, впрочем, и само понятие “ценностей”. Поттер, конечно, предполагает, что они могли бы быть таковыми для нас, но тогда об этом надо было бы прямо так и сказать, что для философии ценностей XX в. такие-то и такие-то соображения “индийских риши” о рождении, жизни, смерти и избавлении от всех них могут представлять интерес (в данном случае мы уклонимся от обсуждения того, так это или не так), но не приписывать аксиологические изыскания самим древним индийцам. Если же он полагает, что объем понятия “теория ценности” может никак не совпадать в Европе и Индии, но экстраполирует эту чисто европейскую философскую дисциплину на то, что к ней не имеет никакого отношения, то его позиция была бы равнозначна, да и то лишь приблизительно, утверждению, будто лингвистика может быть в одном случае наукой о языке, а в другом – самим языком… [1].
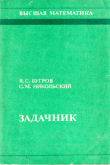


![Книга Психоаналитическая социология Эриха Фромма [Учебное пособие] автора Владимир Добреньков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-psihoanaliticheskaya-sociologiya-eriha-fromma-uchebnoe-posobie-274118.jpg)