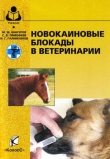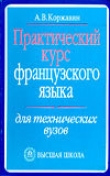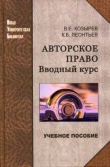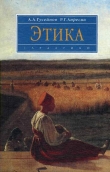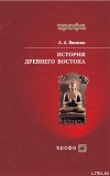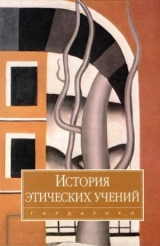
Текст книги "История этических учений"
Автор книги: авторов Коллектив
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 26 страниц]
§ 2. СООТНОШЕНИЕ ЭТИКИ И ПРАВА В АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Строгое размежевание сфер права и этики, характерное для западной цивилизации, не является отличительной чертой арабо-мусульманской культуры. Их соотношение следует понимать как отчасти совпадение, отчасти же ясно оформленное различие.
Общность культурно-исторических корней развития этики и фикха
Становление этической и религиозно-правовой мысли (фикх) в исламе происходило параллельно и было вызвано к жизни одной и той же культурно-исторической ситуацией. Переезд (хиджра) Мухаммеда со сподвижниками из Мекки в Медину в 622 г. стал переломным моментом в истории ислама: так образовалась мусульманская община (умма), и это событие столь значительно, что именно от него берет отсчет мусульманская эра. С этого момента вполне оформляется система авторитетов, принципиальная для ислама и состоящая из двух элементов: божественного И человеческого. Согласно исламским представлениям, Коран – это предвечное Божье слово, которое как таковое являет волю Бога непосредственно. Но в практической жизни по крайней мере не меньшее значение имеет авторитет Мухаммеда как главы общины: к нему обращаются за решением любых затруднительных вопросов, и его слова и поступки (их-то и фиксирует сунна) навсегда становятся законом для мусульман, фактически столь же неизменным, как неизменно Божье слово. Компактность уммы вре-
212
мен Мухаммеда гарантировала его личное участие в обсуждении любых проблем, а значит, и наличие авторитетного их разрешения. Кончина Мухаммеда и лавинообразный рост уммы в результате мусульманских завоеваний принципиально изменили ситуацию. Необходимо было найти нечто, что заняло бы место человеческого авторитета, стоящего рядом с авторитетом Божественного слова. Эта задача была решена по-разному в суннизме и шиизме. Опираясь на известный хадис, утверждающий, что умма не может единогласно (иджма) согласиться с заблуждением, мусульмане признают единогласное решение уммы непогрешимым. Единогласие могло бы стать своеобразной заменой пророческих установлений, хотя далеко не полным, однако оно может быть зафиксировано только теоретически: даже в нынешних условиях вряд ли технически осуществимо одновременное голосование всей без исключения уммы по какому-то вопросу. Поэтому реальное решение данной проблемы было другим. В суннизме это постановления, выносимые компетентными учеными в результате процедуры “соизмерения” (кияс) с какими-то другими, твердо установленными в авторитетных текстах (Коране и сунне). Фикх развивался также и в шиизме, однако место кияса, не признаваемого шиитами (за исключением очень ограниченного круга вопросов), заняло в нем то, что сами шииты называют “разум” (акль) и что представляет собой решение, выносимое имамом (главой шиитов) и считающееся непогрешимым.
Общность объекта и системы оценок в этике и фикха
Развитие фикха стимулировалось потребностью заменить авторитет Мухаммеда (хотя о буквальной замене речи, конечно, быть не может). Поэтому предмет фикха столь же тотален, как и предмет сунны: это любой вопрос реальной жизни, по которому может потребоваться нормативное решение. Этика также носит нормативный характер, и многие вопросы нравственности попали в сферу ведения факихов (ученых, занимающихся фикхом).
Частично совпадая с фикхом по своему предмету, этическая мысль в исламе подчас использует и сложившуюся в нем систему оценок. Это так называемые “пять категорий”: обязательное (ваджиб, фард), рекомендуемое (мандуб, сунна), безразличное (мубах), нерекомендуемое (макрух) и непозволительное (харам, махзур). Эта классификация-соотносится, с одной стороны, с приказанием (амр) и запретом (нахй), а с другой, с вопросом о загробном воздаянии (джаза), будь то награда (саваб) или наказание (икаб). Приказание и запрет определяются на основании коранического
213
текста или сунны и, как считается, выражают волю Законодателя. Комбинация двух сторон: предписанности/запрещенности и воздаяния – и определяет, к какой категории будет отнесен тот или иной поступок. Обязательны поступки, которые предписаны и выполнение которых вознаграждается, а невыполнение карается. Непозволительны те, которые запрещены и несовершение которых награждается, а совершение наказывается. Рекомендуемыми являются поступки, которые предписаны, совершение которых вознаграждается, но неисполнение которых не наказывается. К нерекомендуемым относятся те, от которых предписано воздерживаться, совершение которых не наказывается, но воздержание от которых вознаграждается. Что касается безразличных поступков, то к ним относятся такие, совершение или несовершение которых никак не нарушает волю Законодателя: относительно них не высказываются ни Коран, ни сунна, и человек с точки зрения фикха волен совершать или не совершать их.
Различия в объекте и системах оценок в этике и фикхе
Частичное совпадение этики и фикха по предмет)’ и системе оценок не означает их тождества. Этическая мысль ясно отделяет себя от фикха и в этих двух моментах, и, что важнее, в понимании своего предмета.
Категория “безразличное”, не подпадающая в фикхе под религиозно-юридические формы регулирования, включена в сферу этического рассмотрения: поступки, совершение или несовершение которых безразлично для законоведа, в этической мысли расцениваются как “добрые” (хасан) или “дурные” (кабих). “Доброе” и “дурное” составляют бинарную систему оценок, которая не является собственной системой оценок фикха и, хотя может фигурировать в рассуждениях факиха, выражает этическое, а не религиозно-правовое отношение к предмету обсуждения. Наконец, предметом этики является действие, неразрывно связанное с породившим его намерением (нийя). Хотя во многих случаях и факих не может вынести суждение о правовой норме, не зная мотивации поступка, однако связанность поступка и намерения не служит исключительным условием попадания в сферу компетенции правоведа, составляя собственную характеристику этической мысли.
214
Коллизии этики и права
Различия в понимании своего предмета и в системах оценок фикха и этики имеют своим следствием возможность коллизии между поведением согласно правовым и этическим нормам. В некоторых случаях причины этих коллизий имеют чисто логическую природу: пятеричная система оценок в фикхе несовместима со строгой дихотоми-зацией блага и зла, побуждения и удержания (более подробно см. гл. VI, § 2, п. 2). С другой стороны, этика не может игнорировать намерение, тогда как право во многих случаях не может не учитывать действие как таковое. Извинимость намерения и неизвинимость действия ведут в таких случаях к коллизии (см. разбор хадиса об абиссинце в гл. IV, § 2, п. 1).
Подобные коллизии этики и права, как правило, не рассматриваются как конфликт. Они разрешаются на основе выбора в пользу одной из сторон. При этом выбор трактуется не как избрание единственно истинной линии поведения и, следовательно, отрицание альтернативы как ложной. Это – предпочтение, отдаваемое одной из возможностей, но не уничтожающее другую и не отрицающее ее.
В первом случае (пятеричная система оценок в фикхе и дихотомия блага и зла) коллизия, если бы она трактовалась как конфликт, могла бы быть разрешена только логическим путем, за счет изменения одной из несовместимых систем оценок. Такая кардинальная реформа никогда не была предпринята, и мусульманская мысль предпочла мягкий вариант необязывающего побуждения, связанный с правовой системой оценок, и редко занимала строго ригористичную позицию, вытекающую из дихотомии добра и зла. Во втором случае (противоположные оценки намерения и вызванного им действия) оба варианта поведения допустимы и расцениваются положительно, так что речь идет о выборе между хорошим (поведение согласно правовым нормам) и лучшим (следование этическим побуждениям). Такой выбор в любом случае имеет положительный эффект. Для мусульманской мысли в целом характерно стремление не расценивать различия как конфликт, т.е. как несовместимость, и этому императиву она следует насколько возможно. Согласие, с этой точки зрения, всегда предпочтительнее, даже если оно обосновано не вполне последовательно, и пословица “худой мир лучше доброй ссоры” вполне соответствует этому умонастроению. Поэтому столкновения правового и этического отношений, если и случаются, не достигают, за очень редким исключением, степени конфликта ни в теории, ни на практике.
215
§ 3. СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ МУСУЛЬМАНСКОЙ ЭТИКИ
Архитектоника мусульманской этики как системы определяется двумя тесно связанными принципами. В своем крайне абстрактном выражении они могут быть названы принципом непосредственной связанности и принципом перевешивающего баланса. Эти принципы обосновывают важнейшие звенья этического рассуждения: понимание предмета этики и ее основных категорий, характер центральных этических проблем и направление их разрешения. С этими принципами связаны характерные и отличительные черты мусульманской этики. Они же определяют основные линии философской разработки этической проблематики в пределах мусульманской этики. Вместе с тем эти принципы не обусловливают ход рассуждения в пределах этики в мусульманских обществах, как это понятие было определено выше, поэтому следование им или их игнорирование служит надежным признаком размежевания этих двух сфер этической мысли в арабо-мусульманской цивилизации. С действием данных принципов мы будем знакомиться по мере рассмотрения мусульманской этики.
Глава II
НАМЕРЕНИЕ-И-ДЕЙСТВИЕ КАК ПРЕДМЕТ
МУСУЛЬМАНСКОЙ ЭТИКИ
§ 1. ПРЕДМЕТ МУСУЛЬМАНСКОЙ ЭТИКИ. НАМЕРЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ
Намерение и действие в непосредственной связанности
Принцип непосредственной связанности ярко проявляет себя в понимании предмета мусульманской этики. Он представлен намерением в его прямой и непосредственной связи с вызываемым им действием. Эти два элемента, намерение и действие, не могут рассматриваться отдельно друг от друга, и только во взаимной соотнесенности они имеют смысл. Намерение не является таковым, если не вызывает действие, причем действие должно наступать незамедлительно и не может откладываться на какой-либо срок. Подбирая синонимы для понятия “намерение”, арабо-мусульманские авторы чаще всего называют “твердую решимость” (ирада джазима) совершить действие или “целеустремленность” (касд). Последняя выражает целепо-лагающую природу намерения, что составляет его важнейшую черту.
Из непосредственной связанности намерения и действия вытекает фундаментальное положение мусульманской этики: действие оценивается только вкупе с вызвавшим его намерением. Ни действие, ни намерение не может быть оценено “как таковое”, и в мусульманской этике нельзя найти твердой и однозначной шкалы оценок намерений или действий. Изменение намерения влечет изменение этической (и религиозно-правовой) оценки действия, и вместе с тем намерение не может быть оценено без учета осуществляющего его действия.
В силу этого мусульманская этика не может быть названа ни этикой целей, ни этикой средств; ни этикой знания, ни этикой поступков. Она, если использовать эту терминологию, представляет собой этику целей-и-средств, знания-и-поступка, или, если выражаться в ее собственных терминах, этику намерений-и-действий.
217
Непосредственная связанность намерения и действия выражена в известном хадисе: “Посланник Божий (да благословит и приветствует его Бог!) сказал: “Поступки – по намерениям. Каждый получит то, к чему стремился: кто уходит (хиджра) во имя Бога и Его посланника, тот уходит во имя Бога и Его посланника, а кто – ради мирских целей или чтобы взять в жены женщину, тот уходит ради того, к чему ушел”” (аль-Буха-ри 52 [1]; хадис имеет многочисленные параллели).
1 Нумерация хадисов из “шести книг” приводится согласно CISCO (CD v. 2.0. GISCO (Sakhr), 1997), из остальных сборников – согласно ал-Мактаба ал-алфиййа ли-с-сунна ан-набавиййа (CDv. 1.5at-Turath, 1999).
Формула “поступки по намерениям” (аль-амаль би-н-нийят) стала едва ли не центральной в религиозно-правовой и этической мысли ислама. Достаточно сказать, что в фикхе намерение учитывается и при рассмотрении культовых действий (ибадат), таких, как омовение, молитва, выплата очистительной милостыни (закат), паломничество (хадж), пост, и при решении тех вопросов взаимоотношений людей (муамалят), в которых должно быть вынесено судебно-правовое решение, таких как сделки, брак, договоры и т.п. Общее положение при этом таково: правильное намерение должно непременно сопровождать любое действие, и даже если все “технические” детали действия соблюдены, но намерение отсутствовало или было неправильным, т.е. не соответствовало действию, то и действие считается несостоявшимся. Это положение распространяется не только на ритуально-культовые действия, но затрагивает и чисто юридические акты, такие, как развод или купля-продажа. Другое важное условие состоит в том, что намерение должно сохраняться до конца действия, т.е. сопровождать постоянно процесс его совершения. Если намерение нарушено или изменилось до того, как действие закончилось, такое действие также считается несостоявшимся. С этой точки зрения “дух” и “буква” закона никак не могут быть не только противопоставлены, но и вообще разделены: одно не имеет никакого смысла без другого.
Аномальные случаи нарушения структуры намерения-и-действия
Возможны случаи, когда правильное намерение имеет место, но действие не может состояться в силу внешних обстоятельств, которые блокируют его осуществление. Такие обстоятельства распадаются на две группы: во-первых, объективные непреодолимые препятствия (нечто вроде форс-мажора), неожиданно возникающие на пути осуществления действия; и во-вторых, некое другое действие, которое в силу изменившейся ситуации человек должен безусловно предпо-
218
честь тому, которое он твердо и искренне намеревался совершить. Среди таких, безусловно предпочитаемых, действий фигурируют, как правило, те, что связаны с сохранением жизни или здоровья – собственных, своих близких или вообще других членов уммы. То, что исламская мысль выражает в очень растяжимом понятии попечения об “интересах” (масалих) уммы (см. гл. IV, § 1, 2), имеет к этому непосредственное отношение. И для религиозно-правовой, и для этической мысли ислама жизнь и здоровье каждого члена уммы и жизнеспособность уммы в целом являются безусловным приоритетом, поэтому, если неожиданно изменившаяся ситуация требует от человека совершить действия, направленные на сохранение здоровья или жизни, он обязан оставить действие, которое намеревался совершить, и предпочесть ему то, что требуется в изменившейся ситуации. Из уже сказанного понятно, что изменение ситуации, делающее совершение изначально задуманного действия невозможным, должно быть именно неожиданным, т.е. таким, о котором человек не знал в тот момент, когда формировалось его изначальное намерение. Это принципиально, так как намерение, безусловно, должно быть не только твердым, т.е. прямо сопряженным с соответствующим действием, но и совершенно искренним. Если человек заранее знал, что внешние обстоятельства не позволят ему совершить задуманное действие, он в силу этого не мог сформировать правильное намерение. Понятие “ихлас” (преданность, искренность) имеет высокие коннотации в исламской мысли, и искренняя преданность цели действия крайне ценится, при том что сама цель, конечно же, должна быть достойной. Так понимаемая преданность прямо связана с формированием правильного намерения: искренность, отсутствие “задней мысли” и посторонних соображений является в данном случае непременным условием.
Итак, в тех случаях, когда намерение было правильным, а действие не могло совершиться по неожиданно возникшим и не зависящим от человека обстоятельствам, такое действие засчитывается как совершенное: структура “намерение/действие” является правильно выстроенной, несмотря на то, что само действие “реально” не произошло. Это еще раз показывает, что для мусульманской этики важно не намерение как таковое и не действие как таковое, а их непосредственная сопряженность, – а такая сопряженность имеет место в описанных случаях, когда действие не осуществляется при наличии правильного намерения. Следует отметить, что эта позиция характерна именно для этической, а не собственно правовой мысли ислама, которая вряд ли склонна игнорировать отсутствие действия как такового в тех случаях, когда именно с таким действием связано наступление правовых последствий.
219
Возможен и противоположный случай, когда действие совершается, не будучи вызвано каким-то намерением. Такие действия называются “напрасными” (абис). Выбор термина говорит сам за себя: “напрасный” характер действия тождествен его иррациональности. Для классической арабо-мусульманской мысли характерна убежденность в том, что действие – прерогатива живых и разумных существ. Этим двум условиям удовлетворяют только два класса действователей: с одной стороны, Бог, с другой, сойершеннолетние разумные люди. Кто обладает разумом, способен и к целеполаганию, и, напротив, без нормального зрелого разума не может быть сформировано правильное намерение. Что разумный действователь не может или, во всяком случае, не должен действовать без цели, разве что по забывчивости или по упущению, вполне очевидно для мусульманских авторов классической эпохи. Отсутствие намерения и напрасный характер действия всегда осуждаются. Богу ни в каких случаях не может быть приписано “напрасное” действие. То же касается действий Мухаммеда: в религиозной литературе подробнейшим образом обсуждаются все нюансы его движений и поступков, которым мог бы быть приписан “напрасный” характер, и последовательно доказывается, что они такого характера не носили.
Ибн Хаджар аль-Аскаляни (XIV-XV вв.) в комментарии к одному из хадисов из сборника аль-Бухари (5748) разбирает эпизод, в котором между делом упоминается, что Мухаммед в задумчивости постукивает прутиком по земле. Даже такая, казалось бы, пустяковая деталь поведения анализируется на предмет своего характера: Ибн Хаджар доказывает, что эти движения не относятся к “осуждаемой напраслине” (абас мазмум), поскольку, пишет он, прутик в данном случае – как будто посох, на который арабы имеют обычай опираться во время разговора. “Напрасным”, говорит он, было бы, например, втыкать нож в деревянную поверхность, поскольку помимо бессмысленности это занятие еще и наносит вред, ибо портит предмет.
Термин “абас” (“напрасный” характер) имеет и другое значение: игра, забава. Играющий или забавляющийся может преследовать определенную цель, а может и забывать о цели, но в любом случае его действия столь же бессмысленны, как и действие в отсутствие цели. Аль-Джассас (X в.) так определяет “игру” (ляаб): “это действие, цель
220
которого – зрелище и отдых, которое не имеет одобряемых (махмуд) последствий, а субъект которого не преследует иной цели, кроме развлечения и радости” (“Ахкам аль-кур’ан” (“Положения Корана”, т. 3, с. 246). Хотя цель, вообще говоря, присутствует, она явно бессмысленна с точки зрения этого автора: осмысленно только то, что дает какую-то пользу, а польза понимается как приносящая награду (саваб), в первую очередь загробную. Это понимание осмысленности и разумности поведения тесно связано с трактовкой характера блага и полезного в мусульманской этике.
Суммируя, можно сказать так: игры и забавы не приносят пользы, а потому неразумны, а значит, осуждаемы. Следование зову “страстей” (хаван) осуждается на том же основании: они не поддаются контролю разума и приносят человеку вред, а не пользу. Азартные игры тем более осуждаются, поскольку не просто не приносят пользы, как обычные игры, но и наносят очевидный материальный вред игроку и его близким. Однако что именно означает “осуждение” обычных (неазартных) игр, влечет оно категорический или некатегорический запрет, осталось спорным вопросом исламского права: это один из многочисленных и характерных примеров совпадения этической и правовой проблематики и одновременно сложности перевода этических категорий в правовые. Из числа осуждаемых игр и забав мусульманская мысль изымает три: стрельба из лука, верховая езда, игры с домочадцами, – считая их разрешенными или даже поощряемыми на основании известного хадиса.
“Посланник Божий (да благословит и приветствует его Бог!) сказал: “Благодаря одной стреле Бог введет в рай трех человек: сделавшего ее (если тот искал блага, изготавливая стрелу), стрелка и его помощника, подающего стрелы. Занимайтесь стрельбой и верховой ездой; по мне лучше, чтобы вы стреляли, нежели ездили верхом. Все, в чем мусульманин находит забаву, ложно (батыль), кроме трех вещей: стрельба из лука, выучка лошади и игра с домочадцами; это – истинное (хакк)”” (ат-Тирмизи 1561, параллель: Ибн Маджа 2801). Характерно добавление к процитированным словам, которое встречаем у ан-Насаи (3522): “…кто, выучившись стрелять из лука, оставит это занятие по собственному желанию, тот как будто пропустит одну из благодатей (ниама)” (параллель: Абу Дауд 3152). В этих словах подчеркнуто, что “истинное” прямо связано с приобретением блага и выгодой, тогда как “ложное” по меньшей мере не дает блага: если верховая езда, в которой наездник желает покрасоваться, или игры с домочадцами ради забавы просто дозволительны, то стрельба из лука в этом варианте хадиса рассматривается как поощряемое, похвальное занятие.
221
Истинное противопоставляется не только ложному, но и заблуждению (даляль). Опираясь на коранический аят: “Что же после истины, кроме заблуждения?” [10:33(32)] [1], некоторые авторы относят любые забавы и игры, кроме трех перечисленных, к заблуждению, а значит, к запретному. Особенно выделяется пение (некоторые правоведы даже запрещали продавать, покупать и держать рабынь-певичек, что не помешало распространению этого обычая при дворах многих правителей), а также игра в нарды и шахматы. В одном из хадисов в сборнике “аль-Мустадрак” аль-Хакима (наставника аль-Бейхаки, XI в.) пение названо “разговорной забавой” (ляхв аль-хадис; а значит, и отношение к нему такое же, как к любой другой “забаве”), а относительно игры в нарды известен хадис: “Пророк (да благословит и приветствует его Бог!) сказал: “Играющий в нарды как будто касается мяса и крови свиньи”” (Муслим 4193, параллели: Абу Дауд 4288, Ибн Маджа 3753); последние слова обычно толкуют как устанавливающие запрет на игру в нарды, поскольку она приравнивается в них к запрещенным мясу и крови свиньи. Вместе с тем правовой характер запрета игры в нарды и шахматы оставался в исламе предметом серьезных разногласий.
Итак, отсутствие намерения или действия расценивается как аномалия, нарушающая их непосредственную связанность. Но если отсутствие действия при наличии намерения извинимо, то отсутствие намерения или то, что к такому отсутствию приравнивается (пустая, “напрасная” цель), совершенно неизвинимы. Такое различие между намерением и действием вызвано тем, что действию может помешать что-то, не зависящее от человека, тогда как формирование намерения находится целиком в его власти: намерение и действие занимают разное положение в структуре “явное-скрытое”.
1 Коранический текст дан в переводах Г. С. Саблукова или И. Ю. Крачковского. Когда ни один из вариантов не подходит по контексту, мы даем свой перевод.
222
Намерение-и-действие как явное и скрытое
Действие осуществляется с помощью одной или нескольких частей тела, тогда как намерение, как считают арабо-мусульманские авторы, гнездится в сердце. Исходя из этого, соотношение намерения и действия описывают как соотношение “явного” (захир) и “скрытого” (батын). Эта пара категорий является едва ли не наиболее употребимой и универсальной в арабо-мусульманской теоретической мысли, и тенденция рассматривать всякий предмет как соотнесенность явной и скрытой сторон характерна и для философии, и за ее пределами. Следует иметь в виду, что соотношение между явным и скрытым, как оно понимается в арабо-мусульманской мысли, отличается от привычного нам соотношения между явлением и сущностью прежде всего и по преимуществу тем, что ни явное, ни скрытое в отдельности не составляют истину или суть вещи или события (как это можно сказать о сущности в противоположность явлению), а потому ни одно из них не может игнорироваться как менее важное. Признаком истинности для арабо-мусульманской мысли служит правильное соотношение между явным и скрытым, когда одно точно соответствует другому. Именно таково соотношение между правильными намерением и действием. Пара категорий “явное-скрытое” в таком соотношении служит конкретизацией принципа непосредственной связанности, фундаментального для мусульманской этики.
§ 2. ПРАВИЛЬНОСТЬ НАМЕРЕНИЯ-И-ДЕЙСТВИЯ
Поскольку именно правильно соотносящиеся намерение и действие реализуют принцип непосредственной связанности, отражающей истинность вещи, категория “правильность” (сихха) стоит очень близко к категории “истинность” как в религиозно-правовой, так и в этической мысли ислама. Квалификация “правильное” (сахих), даваемая намерению и действию, выражает не “техническую” сторону дела, не соблюдение “формальностей”. Это комплексная оценка, учитывающая все стороны. Прежде всего она выражает правильность соотношения между намерением и действием, поэтому “правильным” оказывается не намерение как таковое и не действие как таковое, а намерение-и-действие, т.е. их сочетание. Если действие выполнено неправильно, значит, и намерение было неправильным; и, напротив, если намерение неправильно, то и действие не будет считаться правильным, даже если формально оно выполнено совершенно точно.
223
Правильными считаются те намерения-и-действия, которые оцениваются как положительные, а не отрицательные в бинарных системах классификации, принятых в мусульманской этике.
§ 3. ОСНОВНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ НАМЕРЕНИЙ-И-ДЕЙСТВИЙ В МУСУЛЬМАНСКОЙ ЭТИКЕ -
В классической арабо-мусульманской литературе встречаются три основных типа классификации намерений-и-действий: утилитарный, апроприаторный и аффективный. Первый, наиболее распространенный и очевидный, оперирует понятиями “благо” (хайр) и “зло” (шарр), как они понимаются в мусульманской доктринальной и этической мысли, и близкой по смыслу парой “польза” (манфаа) и “вред” (дарар). Второй рассматривает намерения-и-действия как “пригодные” (маслаха) или, напротив, “пагубные” (мафсада) для человека. Третий соотносит намерения-и-действия с “состояниями” (ахваль, ед.ч. халь) души, которые сопровождают формирование намерения и выполнение действия, и ее “предрасположенностями” (ахляк) к выполнению определенных действий.
Эти три типа классификации не противоречат один другому. Напротив, они дают принципиально схожие результаты, и расхождение между ними, хотя и возможно, является скорее исключением. Дело в том, что все классификации имеют общее основание – представление о том, что вероучение и Закон даны людям ради их пользы и блага, дабы помочь им избежать любого вреда, что они поэтому содержат именно то, что наиболее пригодно для людей в земной и загробной жизни, что наилучшим образом обеспечивает их интересы и нацелено на удаление всякой пагубы, тогда как состояния души и ее предрасположенности к действиям оцениваются как хорошие или дурные в зависимости от того, способствуют они (как, к примеру, стыдливость или богобоязненность) или нет (как заносчивость и гордость) принятию исламского вероучения и, следовательно, формированию намерений-и-действий, направленных на полезное и пригодное для человека. Оценка намерения-и-действия связана, таким образом, с центральными понятиями этики: благо и зло, интересы человека, его душевные качества и их влияние на его поведение.
Глава III
БЛАГО И ЗЛО. УТИЛИТАРИСТСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НАМЕРЕНИЙ-И-ДЕЙСТВИЙ
§ 1. ПОНИМАНИЕ БЛАГА И ЗЛА В МУСУЛЬМАНСКОЙ ЭТИКЕ
Для понимания блага и зла в мусульманской этике характерны два момента, отличающие его от аналогичных концепций, созданных в рамках этики в мусульманских обществах. Во-первых, благо и зло не трактуются в качестве метафизических начал или модификаций единого метафизического принципа, как то характерно для зороастризма или неоплатонизма. Благо и зло – это вполне ощутимые, близкие и понятные для любого человека выгоды либо потери, в том числе и даже прежде всего материальные, связанные с его непосредственными интересами в земном существовании. Именно поэтому понятия “благо” и “зло” так легко сближаются с понятиями “полезное” и “вредное”, если не переходят в них. Во-вторых, благо и зло принципиально соотносительны и не абсолютны. Практически все, что может быть оценено как благое или дурное, получает такую квалификацию после взвешивания хорошей и дурной сторон и выражает преобладание одной из них над другой. В этом проявляется второй из фундаментальных принципов мусульманской этики – принцип перевешивающего баланса. Благим является не то, что причастно абсолютному благу и потому удалено от зла, а то, в чем благо перевешивает зло в данный момент и в данной ситуации. Контекстуальность оценки так же принципиальна, как и ее балансовый характер, и вытекает из последнего: с изменением контекста оценка легко может поменяться на противоположную. Хорошо известно, что потребление спиртного (хамр) запрещено исламским религиозным законом (шариатом). Однако это не значит, что спиртное само по себе причастно злому началу: если мусульманин поперхнулся и ему грозит смерть от удушья, он обязан (а не просто может) выпить любую жидкость, в том числе спиртное, если нет другой, чтобы спасти свою жизнь. В данной ситуации благо, связанное с потреблением спиртного (спасение жизни), преобладает над злом, которое оно обычно приносит и которое состоит в том, что оно отвлекает человека от следования установлениям истинного и полезного для него Закона. Таково общее, принципиальное понимание блага и зла в мусульманской этике. Оно конкретизируется в основных положениях, которые выдвигают в связи с вопросом о благе и зле авторитетные тексты – Коран и сунна.
Согласно Корану, Бог является единственным источником блага и зла:
“Если Бог пошлет тебе какое либо бедствие, то Он только один может и избавить от него; и если пошлет тебе какое благо, то потому, что Он всемогущ” [6:17 (17)]. “Скажи: Боже, царь царства! Ты даешь царство кому хочешь, и отъемлешь царство у кого хочешь; Ты возвышаешь кого хочешь, и унижаешь кого хочешь: благо в Твоей руке, потому что Ты всемогущ” [3:26 (25)].
Коран призывает творить благие дела, утверждая, что благочестие – лучшее украшение человека, а благие дела оказываются лучшими в глазах Бога:
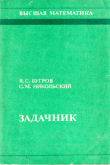


![Книга Психоаналитическая социология Эриха Фромма [Учебное пособие] автора Владимир Добреньков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-psihoanaliticheskaya-sociologiya-eriha-fromma-uchebnoe-posobie-274118.jpg)