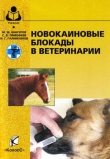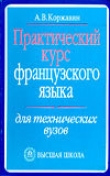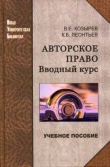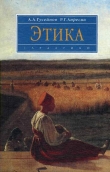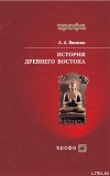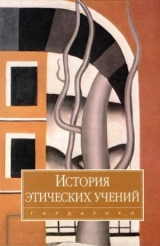
Текст книги "История этических учений"
Автор книги: авторов Коллектив
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 26 страниц]
Поскольку изначальная природа человека (фитра) принципиально достаточна для спасения, этически санкционировано не совершенствование как таковое, а сохранение или восстановление этой природы. Совершенствование возможно, и образцы благонравия (хусн аль-хулюк) или молодечества (футувва) известны (Мухаммед и Али). Однако мусульманская этика не ставит достижение этих образцов или приближение к ним в качестве цели для верующего: достаточно лишь следование примеру в меру собственных сил, но не приближение к нему. Различие между этими двумя стратегиями то же, что между пониманием добродетели как максимума и как усреднен-ности (см. гл. V, § 2, п. 3). Совершенство, хотя и похвально, тем не менее не обязательно. Разрыв между одобряемым и обязательным составляет неустранимое напряжение мусульманской этической мысли.
Проблематика категоричности
С этим связана другая макропроблема – вопрос о категоричности запретов и предписаний. Логическая структура этой макропроблемы образована как невозможность согласовать бинарную оппозицию благо-зло (одобряемое-порицаемое, разрешаемое-запрещаемое) с пя-
281
теричной классификацией поступков, принятой в фикхе (см. гл. I, § 2, п. 2). Если устранить из рассмотрения “безразличные” поступки, то из оставшихся четырех категорий две (обязательные и рекомендуемые) должны выражать причастность благу а другие две (нерекомендуемые и запретные) – злу. Суть проблемы в том, что есть злые поступки, воздержание от которых стимулируется, но совершение которых оказывается фактически разрешенным, поскольку не наказывается (это нерекомендуемые поступки). И, напротив, есть добрые поступки, совершать которые похвально, но несовершение их не вызывает никакого осуждения или иных “отрицательных” санкций (рекомендуемые поступки). По сути дела категорический характер носит совсем небольшое число требований положительного (предписания) и отрицательного (запреты) характера, причем положительные связаны с доктринально-культовой стороной жизни и не имеют прямого отношения к этической проблематике, а из отрицательных таковыми являются фактически лишь запрет прелюбодеяния и воровства. Конечно, мусульманская цивилизация выработала достаточно действенные механизмы стимулирования добрых поступков и удержания от злых, которые компенсируют некатегоричный характер этических предписаний; эти механизмы представлены прежде всего общественным мнением и обусловленностью социального статуса соблюдением мусульманского этоса.
Другой ракурс проблемы категоричности связан с неопределенностью, незакрытостью списков действий, подпадающих под категорический запрет. Это вызывает неразрешимые споры относительно характера запретов, высказанных прежде всего в хадисах в форме “запрещения” (тахрим) без определения конкретно-правового статуса запрещенного (нерекомендуемое или запретное). Определение этого статуса необходимо и для определения этически санкционированного отношения к людям, совершающим подобные поступки. Например, игры (шахматы, нарды) или профессиональное пение запрещаются в силу того, что являются напрасным занятиям и способствуют развитию страстей, а не разумного начала в человеке, а значит, отвлекают человека от блага. Вместе с тем точно не определено, является этот запрет категорическим или нет, и сторонники обеих точек зрения находят некоторые (хотя и не решающие) аргументы в традиции в пользу своей трактовки. В связи с этим невозможно определенно решить, должен ли человек, встретившийся с играющими или занимающимися пением, противодействовать их занятиям, исходя из общего императива поощрения добра и сопротивления злу, или же нет. Если эти поступки запретные, то должен (при неизбеж-
282
ных оговорках – см. гл. VI, § 1, п. 3), а если только нерекомендуемые, то не должен. Эта логическая неопределенность усиливается отсутствием в исламе какой-либо абсолютно авторитетной инстанции (наподобие христианской Церкви), которая могла бы волюнтаристским решением положить конец спорам.
Проблематика определения истинного действователя
Макропроблема определения истинного действователя связана с одним из центральных метафизических вопросов классической арабо-мусульманской философии – вопросом о причинности. Оба выработанных подхода к ее разрешению вели к сходным затруднениям. Согласно одному из них, всякое действие имеет внешнюю (явную) и внутреннюю (скрытую) стороны, которые находятся в согласованном единстве. Такое понимание было проявлением того же принципа, который фундирует мусульманскую этику и который мы назвали принципом непосредственной связанности внешнего и внутреннего. В применении к проблеме причинности в области этики этот принцип проявляется в том, что внешним (явленным) действователем считается человек, тогда как внутренним (скрытым) – Бог. Другой подход рассматривает данное конкретное действие как последнее звено в ряду причин, который начинается Первой причиной, или (на религиозном языке) Богом. Поскольку действие каждой последующей причины определено предшествующей, в конечном счете единственным подлинным (не определенным ничем другим) действователем остается Бог, хотя на поверхности явления действие производит какая-то вещь или человек. Ни одна из этих парадигм не позволяет окончательно установить однозначное “авторство” действия и разрешает считать подлинным агентом действия в одном отношении человека, а в другом – Бога. Но если в области метафизики такой вывод приемлем, то для этики он означает нерешенность вопроса об ответственности. Это и составляло одну из главных проблем для мусульманской этической мысли, которая получила существенное развитие в философии калама (прежде всего мутазилизма) и в суфизме. Религиозно-доктринальная мысль предпочитает занимать уклончивую и в конечном счете противоречивую позицию. С одной стороны, считать Бога исключительной причиной – свидетельство высочайшей степени благочестия (таква); с другой стороны, в таком случае упование на Бога (таваккуль) может обернуться безволием человека. Поэтому обычных верующих призывают действовать так, как если бы они сами были причиной происходя-
283
щих с ними изменений, не забывая вместе с тем и о Боге, а полное препоручение своей судьбы Богу оставляют на долю тех, для кого отсутствует риск впасть в подобные нежелательные крайности.
§ 3. ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ, В КОТОРЫХ ОБСУЖДАЛАСЬ ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
Специальный жанр, посвященный рассмотрению проблематики мусульманской этики, в классической арабо-мусульманской культуре отсутствует. Вопросы этики разрабатывались и освещались наряду с другими проблемами в литературе нескольких жанров: толкования Корана и сунны; фикх; религиозно-доктринальная мысль; адаб. Первые два носят более научный характер, тогда как вторые два скорее ориентированы на широкую публику.
Комментарии к Корану (тафсир, та’виль) писали представители разных наук (филологии, доктринальной мысли, права) и разных школ и направлений мысли. Нередко в комментарии к Корану включались хадисы, а комментаторы Корана были и известными хадисо-ведами. Преимущественно филологический характер носят комментарии Ибн Касира (XIV в.) и “Тафсир аль-Джалялейн” (Комментарий двух Джалялей), составленный Джаляль ад-Дином аль-Махалли (XV в.) и его знаменитым учеником Джаляль ад-Дином ас-Суюты (XV в.), автором “Совершенства в каранических науках”. Более кон-цепутальный характер отличает комментарии ат-Табари (IX-X вв.) и аль-Куртуби (XIII в.). Шиитские комментарии к Корану составляют отдельный жанр. “Ас-Сахихи” аль-Бухари и Муслима комментировали соответственно Ибн Хаджар аль-Аскаляни (XIV-XV вв.) и ан-На-вави (XIII в.), остальные сборники из числа шести общепризнанных в суннитской традиции также были прокомментированы. Трудно найти нюансы, которые не обговаривались бы в этой обширнейшей комментарской литературе, и среди обсуждавшихся вопросов были и этические.
Религиозно-правовая мысль (фикх) развивается на той же текстуальной основе, что и комментаторская, рассматривая Коран и сунну как источник (первоочередной, хотя не единственный) правовых норм. В силу характера исламского Закона и отсутствия разделения на светское и духовное в мусульманском обществе (как это разделение имело место на Западе) в поле зрения факихов попадали и вопросы, непосредственно связанные с этикой. Трудно найти серьезное произведение фикха, в котором вопрос о благочестии и благонравии не обсуждался бы в общем или в деталях.
284
В отсутствие Церкви попытки сформулировать исламскую доктрину, хотя и предпринимались неоднократно, не привели к общепризнанному результату. Отсутствие догматизации имело своим результатом продолжение попыток в этом направлении, которые предпринимались вплоть до сравнительно недавнего времени. Результатом стала обширная литература, посвященная собственно доктрине (‘акида), а также общемировоззренческим вопросам. В сочинениях этого рода обсуждалась и этическая проблематика, и виднейшие ха-дисоведы, историки, факихи приложили свои усилия на этом поприще. Наиболее известные произведения этого жанра принадлежат ат-Тахави (между 844 и 853-933), аль-Ашари (873-936), Ибн Аби Язиду аль-Кайравани (992-996), аль-Газали (1058-1111), Ибн Кудаме (1147-1223), ИбнТаймиййе (1263-1328), аль-Йджи (1281-1355), Абу Абдаллаху ас-Сануси (1435/36-1490), Мухаммеду бен Абдель Ваххабу (1703-1792), аль-Фадали (ум. 1821). Помимо этих суннитских авторов, доктринальные вопросы разрабатывали шииты, ибадиты и др.
Адабная литература, в отличие от перечисленных жанров, в большинстве своем не носит систематического характера. Это сборники изящной словесности, куда включались, в зависимости от вкуса автора, и сведения из различных наук, и биографическая Информация, и исторические анекдоты, афоризмы и наставления. Знаменитый историк Ибн Хальдун (1332-1406) называет в качестве четырех классических авторов этого жанра аль-Джахиза (776-868/9), Ибн Кутайбу (828-889), аль-Мубаррада (826-900) и Абу Али аль-Кали. (901-967), считая остальные произведения слепком или ответвлением от этих. Особый жанр адабной литературы был представлен “зерцалами правителей” (марая аль-мулюк) – наставлениями, обращенными к главам исламских государств с моральными увещеваниями и призывами к справедливости.
Глава VII
ФИЛОСОФСКАЯ РАЗРАБОТКА МУСУЛЬМАНСКОЙ ЭТИКИ В КАЛАМЕ, ИСМАИЛИЗМЕ И СУФИЗМЕ
§ 1. КАЛАМ И РАННЯЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ МЫСЛЬ: РИГОРИЗАЦИЯ ЭТИКИ
Калам (араб, “речь”) – направление средневековой арабо-мусульман-ской философии, возникновение которого обычно связывают с именем Васила Ибн Ата (ум. 748). В каламе выделяют два этапа – ранний, мутазилитский, и поздний, ашаритский, по имени Абу аль-Хасана аль-Ашари (ум.936). Для мутазилизма характерен рационализм, дух полемики и свободной аргументации, который практически исчезает в позднем каламе – ашаризме, приобретающем доктринально-школьный характер и утрачивающем философские черты.
В каламе на первое место выходит проблематика определения истинного действователя и категоричности моральных предписаний. Эти вопросы особенно активно разрабатывали мутазилиты. Наряду с ними к этой проблематике обращались другие ранние мусульманские мыслители, прежде всего рафидиты и хариджиты.
Вопрос об автономии действия. Кaдaриты и джабaриты.
Мутазилиты устанавливают, что, во-первых, человек является подлинным действователем, а во-вторых, человеческая и божественная сферы способности к действию не пересекаются. Последнее означает непредопределенность человеческих поступков и, следовательно, ответственность человека за все свои действия. Мутазилизм не носит школьного характера, поэтому данная позиция характерна далеко не для всех мутазилитов.
Вопрос об истинном (хакика) или метафорическом (маджаз) характере обсуждаемого предмета был одним из способов универсализации постановки проблем у мутазилитов. Так обсуждался характер божественных атрибутов, так же стоял вопрос о том, является ли человек подлинным действователем. За малым исключением, все мутазилиты считали человека истинным действователем. Это означает, что человек обладает совокупностью характеристик, которые стоят за понятием “действие”. Эти характеристики суммируются в поня-
286
тии “могущество” (кудра), или “способность” (истита’а) к совершению действия, а раскрываются как здоровое состояние органов, наличие материала, принадлежностей и орудия действия, а также причины, побуждающей к действию. Такая трактовка “способности” напоминает перипатетическое решение вопроса.
Мусульманская этика рассматривает поступок как единство намерения и действия, при этом намерение считается находящимся во власти человека, тогда как действие зависит и от неподвластных человеку факторов. Это представление о поступке как о соотношении между внешним и внутренним получает свое развитие в мутазилизме. Намерение трактуется здесь как воля (ирада), которая по-прежнему составляет область человеческого суверенитета. Мутазилиты придерживались мнения о том, что человек сам производит собственную волю, т.е. влечение к одному из двух противоположных вариантов действия. Именно воля обусловливает необходимость (иджаб) поступка, однако лишь в том случае, если наличествует способность к действию, которой вместе с тем самой по себе недостаточно для того, чтобы поступок состоялся.
Поскольку воля как таковая автономна, вопрос сводился к тому, является ли способность к действию автономной, принадлежащей самому человеку, или нет, и как соотносятся способности человека и Бога к совершению действия.
Мутазилиты были согласны в том, что Бог наделяет человека способностью к действию. Наиболее радикальные среди них утверждали, что после этого подвластное человеку перестает быть подвластным Богу, а значит, человек совершает свое действие по собственной воле и в соответствии со своей способностью к действию, в которую Бог вмешаться не может. Менее радикальное решение заключалось в том, что подвластные человеку поступки не перестают быть подвластными Богу, поэтому один и тот же поступок может быть и совершен человеком в соответствии с собственной способностью, и сотворен Богом, и в последнем случае совершается человеком не автономно, а “по необходимости”.
Этический аспект проблемы автономии действия был прямо связан с общей метафизикой действия. Характерное для исламской мысли представление о действии как связанности внутреннего и внешнего (намерения и внешнего действия, воли и способности к действию) прямо соотносится с тем, что в ранней исламской мысли только разумные, способные к волевому целеполаганию существа считались истинными действователями, поскольку только у них могла иметь место такая связанность. Между тем языковая привычка
287
заставляет приписывать действия агентам, которые не удовлетворяют этому условию. Например, мы говорим, что “камень катится”, “стрела летит” или “дерево горит”, хотя эти неодушевленные предметы не могут быть истинными действователями. Для решения этой проблемы было выработано понятие “присвоение” (касб): действие “качение”, например, сотворено Богом, тогда как “присвоено” человеком, который сам (автономно) только толкнул, но не покатил камень.
По сути то же рассуждение может быть применено и в отношении действий человека: его можно рассматривать как “присваивающего”; а не производящего собственные действия, которые оказываются сотворены Богом. К этому сводилась позиция тех, кто, в отличие от большинства мутазилитов, считал человека лишенным автономной способности к действию. Таких мыслителей сами мутазилиты называли “джабаритами” (араб. джабарийя, от джабр – принуждение). Сторонники автономии человеческого действия получили общее название “кадаритов” (араб. кадарийя, от кадар – “судьба”).
Термины “кадариты” и “джабариты” имеет домутазилитское происхождение. Первоначально они могли употребляться как синонимы, и лишь позже последовательные сторонники учения о вынужденном, а не автономном характере действия человека стали называть своих соперников кадаритами. Оба термина служили унизительными наименованиями противника и не применялись для характеристики собственных взглядов. Триумф ашаризма над мутазилизмом означал и победу позиции джабаритов в каламе. Схожая картина наблюдается в исламской мысли в целом: за очень редким исключением (например, зейдиты), позиция джабаритов является господствующей. В хадисах встречается, хотя и нечасто, осуждение кадаритов. Согласно ат-Тирмизи (2075), Мухаммед утверждал, что мурджииты и кадариты не принадлежат к исламу; у Абу Дауда (4071) читаем, что, по словам Мухаммеда, кадариты – это “маги” (огнепоклонники-зоро-астрийцы) среди мусульман, и их не следует навещать, если они больны, и участвовать в похоронах после их смерти (а такова обязанность мусульман в отношении мусульман).
Аль-Ашари утвердил в качестве несомненного принцип “присвоения” человеком действий, сотворенных Богом. Так позиция джабаритов была закреплена в качестве обязательного тезиса школы.
288
Принцип строгой ответственности
Представление об автономии действия, сопровождающего автономную (по определению) волю человека, которого придерживались мутазилиты, означало, что человек совершает свои поступки сам, без принуждения и предопределения. Это положение было важно прежде всего потому, что к числу действий мутазилиты относили веру (иман) и неверие (куфр). С их точки зрения, человек, а не Бог несет полную ответственность за то, станет ли он верующим или неверующим и, соответственно, получит ли в качестве воздаяния награду или наказание. Они утверждали, что Бог творит человека без качеств веры или неверия, которые полностью приобретаются им благодаря автономным действиям.
В соответствии с разделением подвластного человеку и подвластного Богу мутазилиты отделяли волю Бога, направленную на человеческие поступки, от воли, направленной на вещи. Последняя тождественна, в отличие от первой, их сотворению. Божественная воля, обращенная к человеку, выражена не в творении его поступков, а в Законе, допускающем послушание или ослушание: эта воля, обусловливающая награду или наказание, является причиной, действующей “по выбору” человека, т.е. в зависимости от его автономного действия.
Джабариты оказываются в более сложном положении при объяснении характера божественных предписаний. Общесуннитская позиция заключается в том, что все благо и зло в судьбе человека – от Бога и что человеческие поступки совершаются по воле Бога. Если человек действует в соответствии с Законом, божественная воля творит его поступок. Если он поступает в противоречии с Законом, божественная воля выражается в “позволении” (тахлия) ему поступить так. В последнем случае создается впечатление, что человеческая воля как будто пересиливает божественную. Но поскольку воля как таковая свободна, тогда как Богом сотворяется непосредственное действие, вызванное этой волей, эта позиция не является открыто противоречивой. Понятие “позволение”, а также “допущение” (хизлян) было выдвинуто в каламе и вошло в доктринальные сочинения суннитов.
289
Считая награду и наказание полностью заслугой человека, мутазилиты занимали ригористичную позицию также в вопросе о возможности прощения совершенных грехов и в вопросе о “разрешенности” малых грехов. Еще мурджиитами было высказано мнение о том, что любое ослушание является “великим” грехом, а значит, за любое ослушание следует наказание. Схожую позицию среди мутазилитов занимал Джафар бен Мубашшир, утверждавший, что любое намерение нарушить запреты и предписания Закона является великим грехом и что любое намеренное ослушание также великий грех. Такова крайняя точка зрения, согласно которой любое прегрешение наказуемо и нет категории “малых” грехов, совершение которых религиозно-доктринальной мыслью как будто позволяется (поскольку не наказывается, обычно при условии несовершения великих грехов). Большинство мутазилитов признавали разделение грехов на великие и малые, однако в их позиции заметна тенденция к более жесткой и расширительной, в сравнении с общесуннитской, трактовке категории великих грехов. Кроме того, мутазилиты считали, что великий грех лишает человека награды за веру, исключая его из числа “обитателей рая”, тогда как общесуннитская позиция состоит в том, что великий грех, за который человек понес наказание в земной жизни, ему прощается безусловно, а грехи, которые были утаены и остались ненаказанными (за исключением отрицания единобожия), могут быть прощены Богом по его желанию или в результате заступничества Мухаммеда.
Бог как источник исключительно блага
Проблематика определения истинного действователя и характерное для мутазилитов стремление к категоричности в сфере этики сочетаются в разрешении вопроса о том, является ли Бог творцом зла, т.е. всякого рода событий, расцениваемых как отрицательные: наказание, несправедливость и т.п.
Человек, совершая плохие поступки, сам заслуживает свое наказание и должен получить его полностью, без снисхождения, считают мутазилиты. Тем самым человек в каком-то смысле оказывается творцом того зла, которое должно его настичь, и в этом исламские авторы усматривают нарушение мутазилитами тавхида – их отход от представления о Боге как единственном творце всего, в том числе блага и зла, что как будто оправдывает данное им название “маги ислама”. Однако заслуженное человеком наказание накладывает Бог, а поскольку страдание расценивается в исламе отрицательно, возникает проблема злого, плохого поступка, который должен быть приписан Богу.
290
Мутазилиты, последовательно проводя мысль о том, что Бог творит исключительно благое, решали эту проблему, опираясь на понятие “пригодность” (салах). С их точки зрения, сотворенный Богом мир – наиболее пригодный из всех возможных. Проклятие Богом неверующих и наказание грешников в загробной жизни – это “наиболее пригодное” для них. Более того, это милость и попечение о них, поскольку такое наказание может удержать людей от совершения грехов. Бедствия, настигающие людей в земной жизни (например, болезни) являются чем-то плохим метафорически, а не в прямом смысле, и то же касается загробных наказаний. Рассматривая эти построения с точки зрения соотношения между утилитаристской и апроприаторной классификациями, заметим, что мутазилиты отдают безусловное предпочтение второй в сравнении с первой. Хотя страдания являются, вне всякого сомнения, злом (иногда действия Бога, насылающего страдания, мутазилиты обозначают словом “саййи’а” – “плохой поступок”, тем самым, что служит общим наименованием для “прегрешения”), а значит, соответствующие божественные действия должны оцениваться отрицательно в утилитаристской классификации намерений-и-действий, это соображение уступает другому: те же действия являются положительными, если рассматривать их в системе апроприаторных оценок, поскольку служат и отдаленному интересу самих грешников, и общему интересу уммы.
В целом же, считали мутазилиты, Бог не творит несправедливость (зульм), хотя они расходились в вопросе о том, способен ли он творить ее в принципе. Все божественные действия – справедливость (адль), утверждали мутазилиты, в связи с чем их именовали (среди прочего) “людьми справедливости”.
§ 2. ИСМАИЛИЗМ: ИМПЕРАТИВНАЯ ЭТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Исмаилиты оформились в качестве самостоятельной группы в шиитской среде во второй половине VIII в. В качестве философского учения исмаилизм приобретает свой законченный характер к началу XI в. в сочинениях Хамид ад-Дина аль-КирмаНи. Хотя исмаилитские философы опирались на идеи перипатетизма, неоплатонизма (например, в объяснении источника зла как недостатка формы и переизбытка материи), стоицизма, их учение отличает печать оригинальной систематичности, благодаря чему оно не сводится к сумме заимствований. Группы исмаилитов активны по сей день в различных регионах мира, в том числе в Средней Азии.
291
Если мутазилиты интересовались в основном проблематикой категоричности и истинного действователя, то исмаилитские теоретики уделяют первоочередное внимание другой макропроблеме мусульманской этики – вопросу изменения. Они разрабатывают стратегию совершенствования отдельного человека и человеческого социума, опираясь на принцип непосредственной связанности внешнего и внутреннего.
Внешнее и внутреннее поклонение
Мусульманская этика рассматривает человека как “раба” (абд) Бога, а его предназначением считает “поклонение” (ибада). Выходя за рамки узко-доктринального понимания (где этот термин обозначает регламентированные культовые действия), “поклонение” охватывает весь комплекс связей и отношений между человеком и Богом. При этом человеку отводится отнюдь не пассивная роль “подневольного”, на него возлагается функция активного действия. Такое понимание поклонения предполагается самой сутью ислама как системы мысли, в которой религиозное не отделено резкой границей от светского. Именно в этом направлении, намеченном, хотя и не разработанном до конца доктринальной мыслью, развиваются построения исмаилитских теоретиков.
Понятие “поклонение” трактуется ими максимально широко. Оно имеет две стороны, явную (внешнюю) и скрытую (внутреннюю). Явное поклонение, именуемое также “поклонение действием”, – это совершение всех предписанных Законом обрядов. Внутреннее поклонение, или “поклонение знанием”, – это приобретение истинных знаний об универсуме, его метафизических, природных и социальных структурах, а также об отношении к нему Бога. Принципиально, что внешнее и внутреннее поклонения не соподчинены как менее и более истинное. Только их непосредственная связанность, когда одно полностью соответствует другому, приносит душе совершенство. Иначе, в отсутствие такого взаимного соответствия, в душе человека образуется не единая форма, даваемая гармонией (связанностью) двух поклонений, а две различные формы, производные от каждого из них в отдельности, и как бы ни было совершенно одно из них, эти две формы будут конфликтовать и бороться друг с другом, доставляя душе терзания.
Внешнее и внутреннее поклонения изменяют человека, и если они практикуются правильно, то приводят его к совершенству. Исма-илитская этика рассматривает достижение совершенства не как что-то избыточное (хотя и похвальное) и необязательное, как то харак-
292
терно для суннитской этики, а как непременное условие спасения. Для нее не составляет вопроса, что человек может меняться и совершенствоваться; весь смысл этических построений исмаилитских философов в том, что он обязан это делать.
Нравственные добродетели и формальная добродетель
Возможность совершенствования в результате практикования двух поклонений концептуализируется как приобретение “добродетелей” (фадыля, мн. фадаиль). Это понятие из лексикона перипатетиков имеет корень, связанный с идеей излишка и превосходства. Совершенствование мыслится как приобретение преимущественного в сравнении с другими положения, что соответствует в данном случае общему эксклюзивистскому духу исмаилитского мировоззрения: только обладающие таким преимущественным положением члены исмаилитской общины могут надеяться на спасение, всех прочих ждут адские муки.
Явное поклонение доставляет человеку “нравственные добродетели” (фадаиль хулькийя). Понятие хульк (нрав) активно используется в мусульманской этике, и его соединение с перипатетической “добродетелью” не случайно. Речь идет о качествах, которые мусульманская этика традиционно причисляет к похвальным нравам: правдивость, щедрость, воздержанность, мужественность, терпение. К ним исмаилиты добавляют “чистоту” (тахара, назафа), которая трактуется не только как ритуальная чистота, но и как очищенносхь души от пятен природных пороков, и “стремление” (шаук) к единению с метафизическими началами сущего. Все эти качества рассматриваются исмаилитами как благоприобретаемые, совершенствующие душу человека.
Скрытое поклонение дает единственную добродетель – мудрость (хикма), которая является “формальной добродетелью” (фадыля сурийя). В понимании исмаилитов мудрость – это подлинное и полное знание, которое в совершенном виде изложено только в их книгах. Дело в том, что знание (как и вообще любая вещь) представляет собой связанность внешнего и внутреннего. Это общее для арабо-мусульманской мысли положение исмаилиты толкуют особым образом: с их точки зрения, внутренняя, или скрытая, сторона знания должна быть извлечена из его явленности с помощью особых приемов истолкования. Явленное знание (а это прежде всего Писание) рассматривается поэтому как своего рода материал для экзегетической деятельности исмаилитских имамов. Кроме того, полнотой знания обладает только высший глава исмаилитской общины, который пользуется
293
непосредственной “поддержкой” (та’йид) метафизических начал мироздания и в силу этого способен к подлинной экзегетической деятельности. Все остальные члены исмаилитского социума полагаются в той или иной степени на получение знаний от этого совершенного главы общины.
Гармония внешнего и внутреннего как путь к совершенству
Если явное и скрытое поклонения, или нравственные и формальная добродетели гармонизированы, результатом их взаимной связанности и согласованности становится возникновение единой добродетели, выражающей собственно совершенство человека. Это “уподобление” (ташаббух) высшим, метафизическим началам мироздания.
Такова высшая точка личного совершенства. Что касается родового, коллективного совершенства, то оно прямо связано с пониманием смысла истории в исмаилитской философии. Любое сущее проходит путь от “первого совершенства”, т.е. обретения существования, ко “второму совершенству”, или обладанию полнотой всех изначально заложенных, но не проявленных качеств и свойств. Не является исключением и мироздание в целом: от первого совершенства, или Первого Предела (Первого Разума, первого в ряду сущего) оно проходит путь своеобразной эволюции, который должен завершиться (но еще не завершен) возникновением Второго Предела. Это – та единая форма, которая возникнет по окончании человеческой истории в результате слияния душ всех праведных людей. Праведное, совершенное человечество, таким образом, призвано сыграть величайшую роль в истории – завершить выстраивание мироздания, которое было начато актом сотворения Первого Разума Богом.
§ 3. СУФИЗМ: ЭТИКА “РАСТЕРЯННОСТИ”
Зрелую философскую форму суфизм приобретает позже других направлений классической арабо-мусульманской философии. Мистический опыт постепенно концепитуализируется у Зу-н-Нуна аль-Мисри (VIII-IX вв.), аль-Харраза (ум. 899), философские идеи прослеживают у Абу Язида аль-Бистами (ум. 875), Абу Мансура аль-Халладжа (казнен 922), Абу аль-Касима аль-Кушайри (986-1072) и др. Наиболее полное выражение философия суфизма получила в трудах Мухйи ад-Дина Ибн Араби (1165-1240). Суфизм наложил заметный отпечаток на развитие духовной и интеллектуальной культуры и остается важным элементом сегодняшней арабо-мусульманской цивилизации.
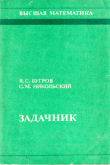


![Книга Психоаналитическая социология Эриха Фромма [Учебное пособие] автора Владимир Добреньков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-psihoanaliticheskaya-sociologiya-eriha-fromma-uchebnoe-posobie-274118.jpg)