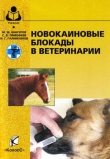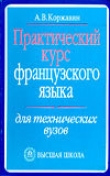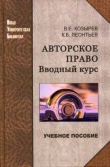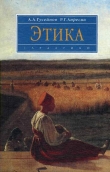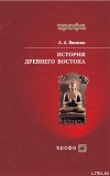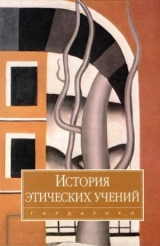
Текст книги "История этических учений"
Автор книги: авторов Коллектив
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 26 страниц]
64
Однако основоположники неоконфуцианской философии, используя положения “Чжоу и” и “Дао дэ цзина”, сделали упор на общеонтологический смысл дао. С точки зрения Шао Юна, бесформенное и самовозвращающееся дао – корень неба, земли и тьмы вещей, порождающий (оживотворяющий) и формирующий их (“Хуан цзи цзин ши” – “Упорядочение мира по канонам [согласно] пределу”, “Гуанъ у нэй пянь” – “Рассмотрение вещей. Внутренняя (авторская. – А.К.) глава”). Чэн Хао вслед за Чжан Цзаем приравнивал дао к индивидуальной природе (“И шу”, цз. 1), а Чэн И различал их как деятельное V проявление и телесную сущность (“Ичуань сянъ шэн вэнь цзи” – “Собрание литературных творений наставника [Чэн] Ичуаня”, цз. 5, “Юй Люй Далинь лунь чжун шу” – “Письмо Люй Далиню о срединности”), хотя говорил и о едином дао, выступающем в виде предопределения, индивидуальной природы и сердца (“И шу”, цз. 18), и о дао, обязательно предполагающем бинарность оппозиций (дуй) (“И шу”, цз. 15).
Чэн И также определял дао с помощью категорий “срединное и неизменное”, или “равновесие и постоянство” (чжун юн), и “гуманность”, что в целом вытекало из понимания этой категории как “собирательного имени” (цзун мин) (“И шу”, цз. 15). Истолковывая высказывание Цзэн-цзы о Конфуциевом дао (“Лунь юй”, IV, 15), Чэн Хао соотносил верность с телесной сущностью, т.е. небесным принципом, а взаимность – с деятельным проявлением, т.е. человеческим дао (“И шу”, цз. 11).
Развивая идеи Чэн И, Чжу Си стал трактовать дао как “объединяющее имя” (тун мин), а принципы – как охватываемую им “детальную рубрикацию” (си му) (“Чжу-цзы юй лэй”, цз. 6). Вслед за Го Сяном, писавшим, что и “у принципов есть совершенный предел (чжи цзи)” (комментарий-чжу2 к гл. 2 “Чжуан-цзы”), он утверждал, что “совершенный предел телесной сущности Пути-дао называется Путем-дао” (“Чжу Вэнь-гун вэнь цзи” – “Собрание литературных творений Чжу [Си], князя Культуры”, цз. 36, “Да Лу Цзыцзин” – “Ответ Лу Цзыцзину”).
В целом Чжу Си отождествил дао с принципом (“корнем порождения-оживотворения вещей”, “телесной сущностью неба”) и Великим пределом (“содержащим в себе тьму принципов”), а “орудийные предметы” – с пневмой, средством порождения-оживотворения вещей и силами инь и ян: “Инь и ян не суть Путь-дао; то, благодаря чему действуют инь и ян, есть Путь-дао” (“Чжу-цзы юй лэй”, цз. 74); “Поскольку одна инь и один ян относятся к обладающим телесной формой (син1) орудийным предметам, постольку то, благодаря чему за одной инь следует один ян, осуществляется телесной сущностью Пути-дао” (” Чжу Вэнь-гун вэнь цзи” – “Собрание литературных творений Чжу [Си], князя Культуры”, цз. 36, “Да Лу Цзыцзин” – “Ответ Лу Цзыцзину”).
Хотя при этом Чжу Си отстаивал единство дао как телесной сущности и деятельного проявления (“Чжу-цзы юй лэй”, цз. 6) и его реальную неотделимость от “орудийных предметов”, в которые дао внедрено (чжун) (“Чжу Вэнь-гун вэнь цзи”, цз. 72), он подвергся критике со стороны Лу Цзююаня, апеллировавшего к исходному определению “Си цы чжуани” и доказывавшего, что инъ и ян суть надформенное дао, а следовательно, между последним и “орудийными предметами” нет той функциональной разницы, которую установил Чжу Си (“Юй Чжу Юанъхуй” – “[Письмо] Чжу Юаньхую”, 2).
Ван Янмин, следуя идеям Лу Цзююаня, отождествил дао с человеческим сердцем и его основой – благосмыслием (лян чжи), (“Чуанъ си лу”, цз. 2, “Си инь шо” – “Изъяснения относительно сбережения времени”), впрочем ранее и Чжу Си заявлял, что “в одном сердце присутствует тьма принципов и, сумев сохранить сердце, можно затем до истощения [исследовать] принципы” (“Чжу-цзы юй лэй”, цз. 9).
Пытаясь синтезировать взгляды своих предшественников, Ван Чуаныпань ратовал за неразрывное единство “орудийных предметов” и дао как конкретной реальности и упорядочивающего (чжи8) ее начала (ср. “Мэн-цзы”, VI Б, 11). Результат этого упорядочения – благодать. Подобно своему современнику Фан Ичжи (1611-1671) (“У ли сяо ши” – “Первичное ознакомление с принципами вещей”, “Цзун лунь” – “Введение”), Ван Чуаньшань считал, что, будучи надформенным, дао не лишено формы или символа, но доминирует над телесными формами, которыми наделено все в мире “орудийных предметов” (“Чжоу и вай чжуань” – “Внешний комментарий к “Чжоуским переменам””, цз. 5-6).
В противовес Фан Ичжи и Ван Чуаньшаню Дай Чжэнь трактовал надформенное как предшествующее появлению телесных форм, но зато подводил под это понятие и силы инь – ян, и пять элементов (у син). Последнее было связано с тем, что дао он определял с помощью его этимологического компонента – син (“движение”, “действие”, “поведение”), образующего термин “у син” (“Мэн-цзы цзыи шу чжэн”, цз. 2). “Человеческий Путь-дао, – утверждал Дай Чжэнь в специальном эссе о дао, – коренится в [индивидуальной] природе, а [индивидуальная] природа имеет исток в небесном Пути-дао” (“Мэн-цзы цзы и шу чжэн”, цз. 3). Далее, разбирая определение дао в “Чжоу и” (“Си цы чжуань”, I, 4/5), он пришел в выводу: “Добро (шань) – необходимость (би жань), а [индивидуальная] природа – естественность (цзы жань). Возвращаясь к необходимости, достигаешь эту естественность, что называется пределом в доведении естественности до конца (цзи чжи). Тут исчерпывается Путь-дао неба, земли и человеческих существ” (“Мэн-цзы цзы и шу чжэн”, цз. 3).
66
Чжан Сюэчэн (1738-1801) также отстаивал совпадающее единство “орудийных предметов” и дао (дао ци хэ и), которые нераздельны, как тело (телесная форма) и его тень (“Вэнь ши тун и” – “Всепроникающий смысл истории и литературы”, “Юань дао” – “Обращение к [истоку] Пути”, ч. 2). Дао в его понимании – “то, благодаря чему тьма дел и тьма вещей таковы, каковы они суть, а не то, что они суть как таковые” (“Вэнь ши тун и”, “Юань дао”, ч. 1). Полемизируя с конфуцианской традицией считать канонические произведения (“Лю цзин” – “Шесть канонов”) носителями дао (ср. утверждение Ван Янмина: “Каноны суть постоянное дао” – в “Цзи шань шу юань цзин гэ цзи” – “Запись о посвященном канонам зале библиотеки у горы [Гуй]цзи”), Чжан Сюэчэн квалифицировал их как “орудийные предметы”, т.е. конкретно-исторические явления (“Вэнь ши тун и”, “Юань дао”, ч. 2). Следуя за Ван Чуаньшанем, Тань Сытун вернулся к прямому определению “орудийных предметов” и дао как телесной сущности и деятельного проявления. Поднебесная – тоже огромный орудийный предмет (ср. “Дао дэ цзин”, § 29). Подверженность мира “орудийных предметов” изменениям влечет за собой изменения дао, которых люди не в силах избежать, поскольку не могут дематериализоваться. Это рассуждение стало у Тань Сытуна теоретическим обоснованием реформизма (“Сы-вэй инь-юнь тай-дуань шу” – “Краткие заметки о беспокойстве за отчизну”, другой перевод: “Беспокойство за судьбу Родины”).
Проделанный анализ смысла термина “дэ” в его категориальном окружении и концептуальной эволюции обнаружил в самом общем плане трансформацию архаического представления о безличной магической силе в идею индивидуального нравственного императива. Однако это был путь синтетической эволюции, сохранявшей в той или иной степени свернутости достижения предыдущих этапов. Обращаясь к истории литературы, можно было бы провести аналогию с движением от магии к реализму в форме магического реализма.
Поэтому превращение онтологически-безоценочной пары дао и дэ (ср. “Дао дэ цзин”) в этически-аксиологизированное сочетание (ср. современное дао-дэ– “мораль”) не повлекло за собой полного разрыва с наследием прошлого. Более того, с помощью подобной терминологии стало возможным построение “моральной метафизики”, представляющей собой высочайшее достижение и наиболее специфическое явление китайской классической философии.
67
Теоретический фундамент подобной онтологизации дао и дэ был заложен создателями неоконфуцианства. В частности, Чжу Си следующим образом связывал эти категории с Великим пределом, который “не имея телесной формы (син1) и обладая принципом” тождествен Отсутствию предела, или Пределу отсутствия (у цзи), и в качестве “метафизического” (син эр шан) абсолюта – “совершенного предела” (чжи цзи) и “предельного совершенства” (цзи чжи1) является высшим благом: “Великий предел – это только [соответствующий] Пути-дао принцип (дао ли) предельно хорошего (цзи хао) и совершенно доброго (чжи шань). Всякий человек имеет единый Великий предел, всякая вещь имеет единый Великий предел. То, что Учитель Чжоу [Дуньи] называл Великим пределом, есть обнаруживающаяся благодать тьмы доброго (вань шань) и совершенно хорошего (чжи хао) у неба и земли, человека и вещи” (“Чжу-цзы юй лэп”, цз. 94).
§ 4. КАТЕГОРИЯ “ГУМАННОСТЬ” (ЖЭНЬ): ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ И ГАРМОНИЯ МИРА
“Жэнь1” – “гуманность”, “человечность”, “истинно-человеческое (начало)”, “человеколюбие”, “милосердие”, “доброта”, “дружелюбие”, “беспристрастность”, англ. “(co-)humanky”, “humaneness”, “human-heartedness”, “true manhood”, “benevolence”, “goodness”, “charity”, “perfect virtue”, “(benevolent) love”, “altruism”, “authoritative person”, фр. “bonte”, “charite”, “bienveillance”, нем. “Gute”, “Wohlwollen” – одна из основополагающих категорий китайской философии и традиционной духовной культуры, совмещающая три главных смысловых аспекта: 1) морально-психологический – “[родственная] любовь-жалость к людям” (ай жэнь), стоящая в одном ряду с “должной справедливостью” (и), ритуальной “благопристойностью” (ли3), “разумностью” (чжи4), “благонадежностью” (синъ2); 2) социально-этический – совокупность всех видов правильного отношения к другому человеку и обществу; 3) этико-метафизический – “приязнь к вещам” (ай у), т.е. симпатически-интегративная взаимосвязь отдельной личности со всем сущим, включая неодушевленные предметы.
Этимологическое значение “жэнь1” – “человек и человек” или “человек среди людей”. Хотя иероглиф “жэнь" в смысле “доброта правителя к подданным” присутствует в современных текстах канонизированной конфуцианцами доконфуцианской классики (“Шу цзин”, “Ши цзин”), возможно, он был не только терминологизирован, но и искусственно создан Конфуцием, а затем включен в указан-
68
ные тексты. С чрезвычайно редким употреблением “жэни” в доконфуцианских памятниках резко контрастирует его изобилие в “Лунь юе”, где, как отметил Чэнь Юнцзе, он использован 105 раз в 58 параграфах из 499, т.е. ему посвящены более чем 10, процентов текста. Отсюда Чэнь Юнцзе заключал, что “до появления Конфуция китайцы не выработали понятия общей добродетели”, а таковым впервые выступило “жэнь1” у Конфуция [1].
1 Chan Wingtsit. Chinese and Western Interpretation of Jen (Humanity) // Journal of Chinese Philosophy. 1975. Vol. 2. P. 107.
В конфуцианстве это понятие, действительно, сразу стало центральной категорией, определявшейся, с одной стороны, как спокой но-самодостаточная “любовь к людям”, рождающая правильный баланс любви и ненависти (“Лунь юй”, XII, 22, IV 2, 3, VI, 21/22; “Мэн-цзы”, IV Б, 28, VII Б, 46, VII Б, 1), а с другой – как “преодоление себя и возвращение к ритуальной благопристойности” (кэ цзи фу ли), реализующее “золотое правило” морали: “не навязывать другим того, чего не желаешь себе”, “упрочивать других в том, в чем желаешь упрочиться сам, и подвигать их на то, на что желаешь подвигнуться сам” (“Лунь юй”, XII, 1/2, VI, 28/30).
У Конфуция жэнь1 представлялось специфическим атрибутом “благородного мужа” (цзюнь цзы), не присущим “ничтожному человеку” (сяо жэнь) (“Лунь юй”, IV, 5, XIV, 6/7, 28/30), но уже у его ближайших последователей оно стало не только долгом правителя, но и универсальным началом человеческой личности и отношений между людьми (“Чжун юн”, § 20; “Мэн-цзы”, III А, 4, VII Б, 16; “Ли цзи”, гл. 7/9). Мэн-цзы усмотрел источник жэнь в полностью лишенном желания вредить другим людям, реагирующем с чувственной непосредственностью, соболезнующем и сострадающем “сердце” (синь), без которого человек перестает быть таковым, и поэтому сформулировал омонимичную максиму “Гуманность (жэнь1) – это человек (жэнь)”, детализированную в дефинициях: “Обретение (дэ1) человека для Поднебесной называется гуманностью” и “Гуманность – это сердце человека” (“Мэн-цзы”, II А, 6, VI А, 6, VII Б, 3i, 16, III A, VI А, 11). Следствием “гуманного [отношения к] людям” (жэнь минь) философ считал “любовь [к миру] вещей” (айу), т.е. всему сущему (“Мэн-цзы, VII А, 45). Он также обобщил суждения “Лунь юя” о социально-политической значимости жэнь как фактора “умиротворения” (пин) и упорядочения (чжи8) Поднебесной” в понятии “жэнь чжэн” – “гуманное правление”. (“Мэн-цзы”, I А,5, I Б, 11, 12, II А, 1, III А,3,4, IV A, 11, 14/15), ставшем впоследствии идеологическим штампом конфуцианской ортодоксии.
69
В “Мо-цзы” даны определения: “Гуманность – это любовь, [соединяющая отдельные] телесные сущности (ти ай)” и “Гуманность – это гуманнизирующая любовь” (гл. 40,43), – обусловленные общим моистским пониманием жэнь1 как компонента предписываемого волей Неба единения Поднебесной посредством “объединяющей (цзянь1) взаимной любви и связующей взаимной пользы-выгоды” (гл. 26, 35).
В раннем даосизме жэнь подверглось критике как искусственное образование, не свойственное природе (“небу и земле”), продукт деградации дао и дэ (“Дао дэ цзин”, § 38). В “Дао дэ цзине” (§ 8) жэнь] признано благотворной основой общения людей, а в “Чжуан-цзы” (гл. 12) распространено и на неживую природу: “Любовь к людям (ай жэнь) и принесение пользы вещам (ли у) называется гуманностью”.
Дун Чжуншу сделал шаг к онтологизации “гуманности”, объявив ее “небесным сердцам (тянь синь), которое любит людей”, воплощением “воли Неба” (тянь чжи) в человеческом теле и результатом “преобразования” (хуа) “пневмы” (ци) крови (“Чунь цю фань лу”, цз. 6, гл. 17-18).
В позднем даосизме, философии сюанъ-сюэ и буддизме жэнь стало играть роль одной из важнейших добродетелей – милосердия, преодолевающего барьер между “я” и “не-я” (у во).
Неоконфуцианцы под влиянием Хань Юя расширили онтологическое содержание понятия “гуманность”. Чэн Хао, Чжан Цзай, Ван Янмин и др. усматривали в ней как атрибут неба (тянь), органическую единосущность индивида со всем мирозданием, уподобляя отсутствие жэнь физическому параличу (“паралич” – медицинский смысл выражения “бу жэнь”, буквально означающего “негуманность”). Ван Янмин утверждал, что жэнь] “образует единое тело (тем) с камнем и черепицей” (“Да сюэ вэнь” – “Вопросы к “Великому учению””).
В трактовках жэнь неоконфуцианскими мыслителями конца империи отразились особенности восприятия ими западной научной мысли.
Кан Ювэй оригинальным образом подытожил многовековое осмысление этой категории в китайской философской традиции и с помощью доступных ему сведений о науке Запада стал трактовать жэнь] как проявление универсальной космической взаимосвязи. В своем важнейшем сочинении “Да тун шу” (“Книги о Великом единении”), идентифицировав жэнъ] с эфиром и-тай, он утверждал, что первосубстанция мироздания – “изначальная пневма” (юань ци),
70
представляющая собой Великую тайну (тай сюань), образует в каждой вещи, в том числе небе и человеке, сочетание духовного, душевного, ментального, интеллектуального, сознающего, разумного, “светло-благодатного” (шэнь1, цзин2, лин1, хунъ, чжи, чжи4, мин дэ) начала с симпатической энергетикой, проявляющейся в качестве электричества, магнетизма, притяжения и “не выносящей” (бу жэнъ1) чужих страданий (см. “Мэн-цзы”, I А,7, II А,6, VII Б,31) “гуманностью”.
Признавший себя учеником Кан Ювэя Тань Сытун первым в Китае посвятил жэнь1 специальную книгу – свое главное произведение “Жэнъ сюэ” (“Учение о гуманности” или “Гуманность и учение”), в котором, максимально развив идеи учителя, опять-таки “впервые стал рассматривать жэнь1 не как только свойство действительности, а как саму действительность” [1]. Он представил жэнь1 единой (и3) и изначальной (юанъ1) общемировой субстанцией – эфиром (и-тай), проявляющимся, с одной стороны, в виде атмосферного электричества (дянь), силы тяготения (си ли), химического сродства (аи ли – буквально: “силы любви”), конфуцианской “[индивидуальной” природы” (син2) и буддийского “[всеобъемлющего] океана природных стихий (bhutatathata)”, а с другой – психики (синь ли – буквально: “силы сердца”), интеллекта (вэй синь), сознания (вэй ши – буддийских vijnanamatra, cittamatra), буддийского “сочувствия и милосердия” (цы бэй), моистской “объединяющей любви” (цзянь ай), христианской “духовности” (лин хунь) и “любви к другому человеку (ай жэнъ), как к себе”.
1 Chan Wingtsit. A. Source Book in Chinese Philosophy. Princeton; L., 1963. P. 738.
Философы XX в., интерпретирующие классические китайские доктрины, истолковывают жэнь1 в изначальном конфуцианстве как сознательное следование этическим нормам (Ху Ши) или спонтанную нравственную интуицию (Лян Шумин), а в неоконфуцианстве – как принцип “моральной метафизики” (дао-дэ ды син-шан-сюэ), выражающий самосозидающее личностное начало (Фэн Юлань, Моу Цзунсань, Ду Вэймин)
§ 5. КАТЕГОРИЯ “ДОЛЖНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ” (Я): БЕСКОРЫСТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СООТВЕТСТВИЕ СМЫСЛУ
“И” – “должная справедливость”, “долг”, “чувство долга”, “справедливость”, “добропорядочность”, “честность”, “правильность”, “принцип”, “значение”, “смысл”, англ. “righteousness”, “Tightness”, “justice”, “signification”, “(moral) duty”, “morality”, “sense of moral responsibility”, “loyality”, “compropriety”, “selfshipfulness” фр. “jequite”, “honnete”, “convenance”, нем. “Gerechtigkeit”, “Rechtlichkeit”, “Pflicht”, “Pflichttrene”, “Recht”, “Das Rechte”, “Rechtschaffenheit”, “Schicklichkeit”, “das Gezieemende” – также одна из основополагающих категорий китайской философии, в особенности конфуцианства. Она заключает в себе идею “правильного (чжэн) соответствия (и4)” содержания форме, субъективных потребностей – объективным требованиям, внутреннего чувства справедливости – внешним императивам общественного долга. В “Чжун юне” (§ 20) дана лапидарная дефиниция: “Должная справедливость (и) – это соответствие (и4)”, построенная, как и многие другие, на омонимичности соответствующих иероглифов и легшая в основу ряда последующих более развернутых определений “должной справедливости”. В период формирования неоконфуцианства его патриарх Чжоу Дуньи, следуя лаконичности оригинала, канонизировал эту дефиницию в инверсированной форме: “Соответствие называется должной справедливостью” (“Тун шу”, § 3). Оппозиционная “и” категория “ли2” (“польза, выгода, корысть, барыш, преимущество, успех, острота, быстрота”) в свою очередь противопоставлялась “дао” (см., например: Дун Чжуншу. “Чунь цю фанъ лу”, цз. 4, гл. 32; Ян Сюн. “Фа янь”, цз. 1), что обнаруживает особую, доходящую до взаимозаменимости близость “должной справедливости” с “Путем-дао”.
Этимологически “и” восходит к сочетанию знаков “я” (во) и “баран” (як). Последний, входя также в состав иероглифов “добро” (шань) и “красота” (мэй), несет идею общепринятого “вкуса”, охватывающего главные ценностно-нормативные сферы – этическую (шань), эстетическую (мэй) и деонтологическую (и). Интерпретация деонтологическои нормы представлена в семантике “и” как общественный вкус (“баран”), ставший внутренним чувством (“я”).
В самом общем антропологическом смысле “и” – неотъемлемый атрибут индивидуальной природы (синч) человека, одно из “пяти постоянств” (у чан) его существования наряду с гуманностью (жэнъ), благопристойностью (ли3), разумностью (чжи4) и благонадежностью (синъ2). В более конкретном социально-этическом смысле “и” – это нормы отношений между пятью парами социальных ролей: отца и сына, старшего и младшего братьев, мужа и жены, старшего и младшего, государя и подданного (“Ли цзи”, гл. 7/9 “Ли юнъ”). В еще более узком смысле – принцип поведения мужа, правителя или харизматического лидера. Стандартная терминологическая оппозиция “и – лиг” (“должное – полезное”, “справедливое – выгодное”, “честное – корыстное”) знаменует собой противопоставление морального долга – эгоистической утилитарности, или обязанности по отношению к другому – соблюдению собственного интереса.
72
В древних протоконфуцианских памятниках “Ши цзине” и “Шу цзине” “и” обозначает умение правителей и чиновников приносить благо своей стране. У Конфуция “и” становится ключевой характеристикой “благородного мужа” (цзюнь цзы), отличающей его от гоняющегося за пользой-выгодой “ничтожного человека” (сяо жэнь), определяющей его “основу” (чжи2) и выражающей единство знания (чжи) и действия (сии), соответствующее благодати (дэ), реализующееся посредством этико-ритуальной благопристойности (ли3) и направленное на осуществление дао (“Лунь юй”, 11, 24, IV,16, XII, 10, XV, 18, XVI, 10, 11, XVII, 21/23, XVIII,7). Поэтому “совершенный человек” (чэн жэнь), “видя пользу-выгоду, помышляет о должной справедливости”, а сам Конфуций “редко говорил о пользе-выгоде” (“Лунь юй”, XIV,12, IX,1). Мэн-цзы радикально универсализировал “и” как одно из четырех начал исконно доброй (шань) человеческой природы – “стыдящееся [за себя] и негодующее [на другого] сердце” (“Мэн-цзы”, II А,6, VI А, 6) и решительно отверг пользу-выгоду во имя должной справедливости и гуманности (“Мэн-цзы”, I А, 1), отличающих человека от животных (“Мэн-цзы”, IV Б, 19). “Должная справедливость – это Путь человека” (“Мэн-цзы”, VI А, 11), совершенствование его “пневмы” (ци) происходит благодаря “накоплению должной справедливости” (“Мэн-цзы”, II А, 2).
Главный оппонент Мэн-цзы в рамках конфуцианства – Сюньцзы, считая человеческую природу исконно “злой” и наделенной врожденным стремлением к пользе-выгоде, вместе с тем еще категоричнее определил и как основной человеческий признак (“Сюньцзы”, гл. 9), которому должно быть подчинено неискоренимое стремление к пользе-выгоде. Общеконфуцианское решение проблемы “и – ли2” дано в “Да сюэ” (II, 10.22-23): “Не польза-выгода полезна-выгодна государству, а должная справедливость”.
Монеты в отличие от конфуцианцев, трактуя “ли2” как “приносящую радость” “общую пользу и взаимную выгоду”, а не частный интерес и эгоистическую корысть, отвергли противопоставление “и – ли2” прямой дефиницией “Должная справедливость есть польза-выгода” (“Мо-цзы”, гл. 40, 43). В специально посвященной “и” главе “Мо-цзы”, носящей название “Ценить должную справедливость” (гл. 47 “Гуй и”), таковая названа “самым ценным из тьмы дел (вань ши)” (гл. 47), поскольку самому “Небу желанна (юй) должная справедливость и ненавистна (э) недолжная несправедливость” (гл. 26). Воле
73
Неба соответствует и всенародная “польза-выгода” (гл. 26), составляющая также один из трех главных гносеологических критериев (сань бяо) – “применимость” (юн) высказываний (гл. 35).
Легисты антиконфуцианский (ср. “Мэн-цзы”, VI А,2) и близкий к моизму тезис о том, что “люди стремятся к пользе-выгоде, как вода вниз” (“Шан цзюнь шу”, гл. 23), соединили с враждебным и моизму и конфуцианству определением “и” как “Пути насилия” (бао чжи дао) ради абсолютной власти и унифицированной “законности” (фа).
В противовес всем указанным школам представители даосизма, отстаивая идеал естественной незаинтересованности, одновременно подвергли критике как пользу-выгоду, так и должную справедливость. Согласно “Дао дэ цзину” (§ 18, 19, 38), и-результат “упразднения великого Пути-дао”, т.е. одна из ступеней общей деградации в мире: “За утратой Пути-дао следует благодать, за утратой благодати следует гуманность, за утратой гуманности следует должная справедливость, за утратой должной справедливости следует благопристойность. Благопристойность – это истощение верности (чжун) и благонадежности (синь), голова смуты” (§ 38). В отличие от “Дао дэ цзина” (§ 38), где проведены тонкие градации упадка, четко разграничены “нецеленаправленная” (у и вэй) гуманность и “целенаправленная” (ю и вэй) должная справедливость, в “Чжуан-цзы” (гл. 2,6,28) провозглашен отказ от различения “жэнь]” и “и”, сопровождающийся призывом “забыть” (ван1) как должную справедливость с гуманностью, так и пользу-выгоду.
Дун Чжуншу, привнесший в официализированное конфуцианство некоторые легистские и моистские идеи, сочетал радикальные формулы: “гуманный человек выправляет свой Путь и не планирует свою пользу-выгоду, совершенствует свои принципы и не тревожится о своем успехе” (вариант: “Гуманный человек выправляет свое должное соответствие (и6) и не планирует свою пользу-выгоду, высветляет (мин2) свой Путь и не рассчитывает на успех”); “Нет человека, для чьей природы должная справедливость не была бы добром, а не способный к должной справедливости теряет и пользу-выгоду, поэтому благородный муж до конца дней слова не молвит о пользе-выгоде”, – с признанием за последней роли столь же необходимого регулятора телесной жизни (“Чунь цю фань лу”, цз. 9, гл. 32, цз. 3, гл. 4). Специально посвященная этой теме глава “Должная справедливость – важнейшее в пестовании телесной личности” (“Шэнъ чжи ян чжун юй и”) “Чунь цю фанъ лу” (цз. 9, гл. 31) начинается следующим пассажем: “Небо, порождая человека, побуждает его порождать должную справедливость и пользу-выгоду. Пользой-выгодой пестует-
74
ся его тело (ти), должной справедливостью – его сердце. Сердце, не достигнув (дэ1) должной справедливости, не способно радоваться (лэ); тело, не достигнув пользы-выгоды, не способно умиротворяться. Должная справедливость – пестун сердца, польза-выгода – пестун тела. В теле самое ценное – сердце, поэтому в пестовании самое важное – должная справедливость”.
Усвоение даосских идей неоконфуцианством выразилось, в частности, в признании Шао Юном совершенномудрых способными “отрешиться от пользы-выгоды и от должной справедливости”. Другой создатель неоконфуцианства, Чжан Цзай, пошел на сближение с моизмом в тезисе “Должная справедливость делает общей (гун1) пользу-выгоду Поднебесной” (“Чжэн мэн”, гл. “Да и” – “Великие перемены”). Открыто в защиту принципа общей пользы-выгоды выступили Ли Гоу (1009-1059), Ху Хун (1102/5-1155/61), Чэнь Лян (1143-1194), Е Ши (1150-1223). Ху Хун наиболее четко провел различие между частной и общей формами пользы-выгоды. Основоположник неоконфуцианской ортодоксии Чэн И прямо отождествил “должную справедливость” с общественно-альтруистическим (гущ) и светло-активным (ян), а пользу-выгоду – с частно-эгоистическим (сы) и темно-пассивным (инь) началом, допустив, однако, возможность их гармонии и полезность-выгодность соблюдения должной справедливости. “[Силою] инь помогающий [силе] ян сформировать (чэн1) вещь – это благородный муж, ею вредящий [силе] ян – это ничтожный человек. Гармония (хэ) пользы-выгоды с должной справедливостью – добро, нанесение ею вреда должной справедливости – недобро” (“И шу”, цз. 17,19).
Ван Чуаньшань соотнес должную справедливость с дао человека, а пользу-выгоду с его жизненными “функциями” (юн). Янь Юань (Сичжай), утверждавший, что “благодаря должной справедливости осуществляется польза-выгода”, переиначил формулу Дун Чжуншу в призыв “выправлять свой долг, чтобы планировать свою пользу-выгоду, и, высветляя (мин2) свой Путь-дао, рассчитывать на свой успех” (“Си шу чжэну”, цз. 1: “Да сюэ”), аргументируя тем, что “совершенно не планировать пользу-выгоду и не рассчитывать на успех – это пустая безучастность (цзи), свойственная гнилым конфуцианцам (фу жу)” (“Янь Сичжай сянъ шэн янь син лу” – “Записки слов и дел наставника Янь Сичжая”).
Глава IV
КОНФУЦИАНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
§ 1. КОНЦЕПЦИИ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ КОНФУЦИЯ ДО ХАНЬ ЮЯ
Одной из наиболее фундаментальных проблем традиционной китайской философии, в особенности конфуцианства, была проблема природы человека (жэнь син). Ее обсуждение Ван Янмин (“Чуань си лу”, цз. 3) относил к тому, что Конфуций называл “разговором о высшем” (“Лунь юй”, VI, 19/21). Уже создателями конфуцианства были предложены такие решения этой проблемы, которые наметили магистральный путь дальнейших теоретических поисков и обусловили решающее значение ее аксиологического аспекта. Ко времени Ван Янмина были последовательно выдвинуты и пересмотрены все основные возможные на этом пути принципиально разнящиеся решения, и его концепция явилась последним существенным шагом вперед, тем более что нашествие маньчжуров, упразднившее идеологическое господство янминизма, поначалу значительно снизило общий уровень философствования, а затем проникновение западных идей изменило направление, которому следовала китайская философская мысль.
Конфуцианские концепции природы человека отличает понятийно-терминологическое единообразие, все они концентрируются вокруг основополагающей для китайской философии категории “син2” (“природная сущность”, “качество”, “характер”, “пол”), которую Дай Чжэнь определил как “реальную телесную сущность и реальное дело” (ши ти ши ши) (“Мэн-цзы цзы и шу чжэн”, цз. 3). Ее главный теоретический смысл – конкретная индивидуальная природа, т.е. естественные и подлинные качества каждой отдельной вещи или категории вещей-дел, и в первую очередь человека. К примеру, согласно формулировкам Чжу Си, “в Поднебесной нет вещи, не имеющей [индивидуальной] природы”, а “[индивидуальная] природа есть то, чем наделен человек” (“Чжу-цзы юй лэй”, цз. 4, 5). Поэтому и без специального определения иероглиф “син2” часто обозначает именно человеческую природу. За этим стоит не терминологическая расплывчатость, а мировоззренческая установка, согласно которой человек мыслился одним (хотя и центральным) из “десяти тысяч [родов] вещей”, образующих весь мир.
76
Этимология иероглифа “син2”, состоящего из знаков “сердце, центр” (синь) и “жизнь, рождение” (шэн), обнаруживает идею витального центра или психосоматической основы живого существа, на что прямо указывал Дун Чжуншу, который из производности “имени (мин1) син2” от “шэн” делал умозаключение: “Естественные (цзы жань) качества (цзы3) рожденного-живущего (шэн) называются [индивидуальной] природой (син2). [Индивидуальная] природа – это основа (чжиг)” (“Чунь цю фань лу”, цз. 10, гл. 35).
В философских построениях “[индивидуальная] природа”, как правило, фигурировала в соотношении с понятиями “добро” (шань), “зло” (э), “сердце” (синь), “предопределение” (мин1), “чувства, чувственность” (цин), “принцип” (ли). В буддийских текстах она соответствовала терминам “svabhava”, “prakrti”, “pradhana”.
В конфуцианском осмыслении основных характеристик природы человека учение самого Конфуция, по всей вероятности, следует считать “нулевым циклом”. В нем были даны предпосылки для различных, даже противоречащих друг другу точек зрения по этой проблеме. В “Лунь юе” сообщается, что “нельзя было услышать рассуждений учителя (т.е. Конфуция. – А.К.) о природе (син2) и небесном пути” (V, 13), но там же приводится и принципиально важное высказывание Конфуция: “По природе [люди] близки друг другу, а по привычкам далеки друг от друга”(ХVII, 2)). Вероятнее всего, в этом высказывании заключена мысль о единстве человеческой природы и ее нейтральности по отношению к добру и злу, которые становятся свойственны человеку под влиянием внешних обстоятельств.
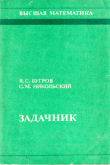


![Книга Психоаналитическая социология Эриха Фромма [Учебное пособие] автора Владимир Добреньков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-psihoanaliticheskaya-sociologiya-eriha-fromma-uchebnoe-posobie-274118.jpg)