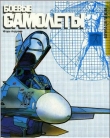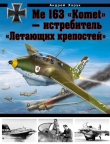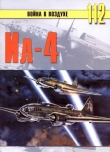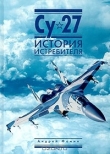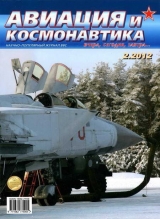
Текст книги "Авиация и космонавтика 2012 02"
Автор книги: Авиация и космонавтика Журнал
Жанры:
Транспорт и авиация
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)

Макет вертолета В-8 в первоначальном виде
В 1959 году был представлен эскизный проект и натурный макет будущей машины, после утверждения которых макетной комиссией в ОКБ приступили к рабочему проектированию вертолета. Первоначальную схему шасси с четырьмя опорами по типу Ми-4 сменила упрощенная конструкция с тремя опорами – двумя основными и одной передней, на которой монтировалась пара свободно ориентирующихся колес. Руление на земле осуществлялось раздельным торможением основных колес. Упростить конструкцию и снизить вес позволила новая компоновка вертолета: если на Ми-4 необходимость двух носовых стоек диктовалась изрядной нагруженностью носовой части с находившимся здесь мотором, то на В-8 силовая установка сместилась к центру тяжести и носовая часть была разгружена.
Для избежания чрезмерного технического риска ряд особо ответственных агрегатов на первой опытной машине оставили аналогичными Ми-4. Некоторые изменения внедрили в конструкции несущей системы. Сами лопасти пока что оставались прежними – цельнометаллическим по типу освоенных на Ми-4, как и четырехлопастная схема несущего винта, автомат перекоса и трехлопастной рулевой винт. Фрикционные демпферы вертикальных шарниров несущего винта заменили гидравлическими, гидроусилители всех четырех каналов управления объединялись в общий гидроблок (он получил название гидрокомбайна), смонтированный вместе с другими агрегатами гидросистемы непосредственно у привода на редукторе. Обеспечивающая питание бустеров гидросистема состояла из основной и дублирующей систем. В систему управления были введены триммеры с загрузочными электромеханизмами.
На первой опытной машине сохранялись также прежняя трансмиссия с главным, промежуточным и хвостовым редукторами, хвостовая и концевая балки, основные опоры шасси и хвостовая пята, а также многие узлы системы управления. Согласно договоренности с руководством отрасли, вносимые новшества конструкторы обязались внедрить в серийном производстве Ми-4, оправдывая заявленную «модернизацию» и добиваясь взаимозаменямости уже производимых «четверок» и вновь создаваемой машины. Однако по мере разработки объем новаций явно переходил в новое качество будущего принципиально отличного вертолета со много большими перспективами, нежели улучшенный вариант заслуженного Ми-4.
Наиболее отличительной чертой выглядела новая носовая часть с обширным остеклением. Помимо улучшенного обзора, качественно изменились условия работы экипажа. Кресла летчика-командира и летчика-штурмана размещались слева и справа от прохода в грузовой отсек, доступ к рабочим местам снаружи открывался через боковые двери по бортам кабины экипажа. При необходимости эти двери сбрасывались, служа аварийными люками. Сиденье борттехника помещалось между пилотскими, перед центральным пультом контроля работы силовой установки. Для удобства перемещения по кабине его сделали откидным. Хорошо проработан был даже интерьер кабины с приборными досками летчиков, занимавшими своё место на стойках, не затенявших обзор. Необходимое оборудование было сгруппировано на панелях верхнего электропульта и задней стенке кабины удобным и легкодоступным образом.
В конструкции вертолета широко внедрялись новые технологии, освоенные авиапромом. В их числе были крупногабаритные дюралюминиевые штамповки и клеесварные соединения с повышенными прочностными качествами и весовой отдачей. Такие агрегаты обладали хорошими ресурсными характеристиками и позволяли снизить трудоемкость за счет снижения ручного труда в изготовлении, хотя на первых порах и обходились существенно дороже освоенных изделий, требуя специальной оснастки и станочного оборудования.
Грузовая кабина В-8 по всем измерениям превосходила предшественника: длина, ширина и высота теперь составляли 5,34x2,34x1,80 м против 4,5x1,6x1,76 м у Ми-4. В грузовой кабине могли размещаться техника и цельные грузы весом до двух тонн (у Ми-4 – не более 1600 кг). Пол кабины выполнялся силовым, на нем размещались ролики полиспаста для затаскивания грузов и швартовочные узлы для их крепления, а в передней части кабины монтировалась погрузочная лебедка. Задняя часть кабины завершалась люком с большим проемом с открывающимися створками. Они распахивались вручную, обеспечивая доступ в кабину при погрузке габаритных грузов и самоходной техники. От силовых приводов открытия и закрытия створок отказались, резонно рассудив, что использоваться задний люк будет лишь при перевозке крупноразмерного груза, в обычной практике не такой уж и частой. Замки открывались и закрывались снаружи борттехником из тех практичных соображений, что при закрытии люка габаритные створки придётся подпирать вручную с внешней стороны. При перевозке длинномерных грузов, выступавших за пределы грузоотсека, створки могли фиксироваться в открытом положении или сниматься. Для удобства погрузки, в том числе раненых на носилках, люк оборудовался навесными трапами. Предусматривалась установка над боковой дверью бортовой стрелы с лебедкой для проведения спасательных операций, обеспечивавшая прием грузов до 150 кг и людей с земли на висении (у Ми-4 предельный груз, поднимаемый лебедкой, ограничивался 120 кг). С помощью стрелы можно было также загружать в кабину мелкие, но увесистые грузы на стоянке. Для перевозки крупногабаритных вещей В-8 мог быть оснащен тросовой наружной подвеской или шарнирно-маятниковым механизмом грузоподъемностью до 2500 кг.

Первый подлет прототипа В-8 на привязи. Для лучшего охлаждения двигателей и вентилятора капоты сняты. Возле машины крайним слева стоит М.Л.Миль
Прибавка характеристик и повышенная энерговооруженность стоили немало в прямом и переносном смысле. Прежде всего, газотурбинная силовая установка имела существенно большие расходные данные, требуя больше топлива. Расчеты показывали, что для обеспечения той же дальности, что и у Ми-4, необходим запас топлива почти вдвое больший. Топливо на В-8 размещалось в основном расходном баке в изолированном контейнере за редукторным отсеком, а также двух наружных подвесных баках, крепившихся стальными лентами по бокам фюзеляжа. Такое расположение выгодно отличалось от принятого на Ми-4, где основной бак с 700 кг бензина нависал прямо над головами пассажиров.
Поскольку основным заказчиком на первых порах выступало руководство гражданской авиации, вертолет В-8 представлялся в базовой компоновке пассажирского варианта. Машина получила большие прямоугольные боковые окна, а в хорошо оборудованном салоне устанавливались 18 пассажирских кресел. Предусматривался также «экономический» вариант на 23 места для полетов на короткие расстояния. Пока шли работы над машиной, заинтересованность новым вертолетом стало проявлять и военное ведомство. В полном объеме сотрудничество с Минобороны завязалось уже в начале 1959 года, годом спустя после выхода правительственного постановления о разработке машины. Военные принимали участие в работе макетной комиссии. В предназначенном для военного использования десантном варианте вертолет мог перевозить до 14 полностью экипированных солдат с оружием на откидных сиденьях вдоль бортов грузопассажирской кабины. Помимо перевозки грузов и бойцов, вертолет мог использоваться в санитарном варианте с установкой в кабине 12 носилок с ранеными и сопровождающим медиком. Однако до переоборудования В-8 согласно требованиям ВВС и отработки на нем соответствующего оборудования военного исполнения реальным образом не дошло ввиду смещения интереса в пользу машины с двумя двигателями.
Работу над опытной машиной серьезно осложняли ограниченные возможности производственной базы ОКБ. Собственно завод № 329 в Сокольниках, при котором работало милевское ОКБ, прежде был деревообделочной фабрикой и с довоенных времен занимался выпуском мебели и упаковочной тары. В годы войны в мастерских вместо шкафов и ящиков стали делать деревянные детали крыльев для истребителей С.А. Лавочкина. После войны на его территории разместили сразу несколько конструкторских коллективов с задачей «создания новых образцов геликоптеров и их модификаций», одновременно используя завод для выпуска аэродромного оборудования разработки своего же спецбюро. После уже известного читателю сталинского распоряжения завод с октября 1951 года полностью перешел в распоряжение ОКБ М.Л. Миля. Вертолетчикам передали все имевшиеся производственные помещения и соседние площади, увеличив территорию предприятия вдвое. И все же для полномасштабных конструкторских и исследовательских работ, особенно с учетом новизны и задуманного размаха, условия были весьма ограниченными. Помимо недостатка оборудования для отработки конструкций создаваемых агрегатов и небогатой научно-экспериментальной базы, на предприятии было попросту тесно.
Для постройки даже единичных экземпляров новых машин не было подходящих помещений, и при сборке размерных агрегатов первых Ми-6 приходилось разбирать стены цехов.
На расширение предприятия в самом центре Москвы рассчитывать не приходилось, и ОКБ было предложено перебираться на территорию крупного завода № 23 в Филях, которому в это время поручался выпуск Ми-6, либо заново обустраивать все конструкторские, опытно-производственные и испытательные службы в Подмосковье, где под нужды вертолетостроителей выделялась территория бывших складов авиационной древесины на станции Панки под Люберцами. Миль со всеми основаниями ожидал, что крупнейший в отрасли филевский завод ему надолго вряд ли достанется, и согласился на переезд в Подмосковье, сохранив, однако, за собой зону в Сокольниках. Как показали дальнейшие события, предусмотрительность Главного была вполне обоснованной: на филевском заводе уже в октябре 1960 года в связи с переводом предприятия на ракетно-космическую тематику обосновались ракетчики В.Н. Челомея, находившегося в особом «фаворе» у руководства страны. Производство Ми-6 здесь было свернуто.

Первый прототип В-8 имел двери пилотской кабины «автомобильного» типа
30 мая 1960 года появилось правительственное постановление о строительстве новой базы государственного завода № 329 в Панках. Однако оборудование целого комплекса с опытным производством и научно-испытательными лабораториями должно было занять изрядное время (строительство и правда растянулось на пять лет), а переезд в Подмосковье устраивал далеко не всех сотрудников. Чтобы не оставить ОКБ без многих квалифицированных работников, не собиравшихся перебираться с обжитых мест, Миль настоял на сохранении самого ОКБ на прежней базе в Сокольниках и даже пополнении кадрами, численность которых к концу 60-х годов возросла вчетверо. Главный конструктор старался лично отбирать специалистов для своей «фирмы», проводя собеседование и назначая им место в конструкторских бригадах. Анкетные данные – немаловажный тогда вопрос! – его интересовали мало, больше ценился профессионализм и направленность работника. Практически все ведущие специалисты и летчики-испытатели поступили на работу в ОКБ с его подачи.
Среди прочих проблем милевской фирмы было и отсутствие на территории ОКБ летно-доводочной базы (да и вряд ли можно было ожидать разрешения на испытательную базу в центре населенного московского района). Первое время для испытаний использовали небольшой аэродром в Измайлово, но тамошний район вскоре стал застраиваться жилыми домами (реализуя хрущевский план жилищного строительства, ставший настоящим бумом 50-х). Пришлось перебираться в Тушино, где на территории летного поля Захарково ОКБ– 329 выделили часть ангара тамошнего авиаотряда МАП под размещение летной станции и сборочного цеха. Со временем ввиду планового разукрупнения московских предприятий и их «выселения» из столицы летно-испытательная станция ОКБ-329 в октябре 1964 года решением Моссовета была перенесена из Захарково на территорию Научно-иследовательского института эксплуатации и ремонта авиационной техники (НИИ ЭРАТ, он же НИИ-13), оказавшись невдалеке от базы ОКБ в Панках.
Однако все эти меры последовали чуть позднее, а пока дефицит производственных помещений оставался насущной проблемой. Чтобы справиться с ожидаемыми трудностями в ходе постройки опытных В-8, изготовление крупных агрегатов и сборку фюзеляжей пяти первых опытных машин по договору вели на филевском заводе № 23, где имелось представительство Милевского ОКБ, сопровождавшее производство Ми-6. Серьезные препятствия создавала и учиненная Н.С. Хрущевым реформация управления народным хозяйством, в ходе которой привычные формы организации министерств упразднялись, и устоявшиеся структуры заменялись территориальными совнархозами, объединявшими промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Совнархозы были объявлены новой формой социалистического хозяйствования, однако деятельность неповоротливых структур сказывалась на темпах работы. Затруднялось сотрудничество и кооперация с предприятиями-смежниками, вместо авиапрома подчинявшихся теперь местному руководству. Попытка руководства авиапрома (в пылу тогдашних реформ преобразованного в Госкомитет по авиационной технике – ГКАТ) отстоять доказавшую свою практичность организацию отрасли успеха не имела – идея принадлежала самому Никите Сергеевичу, провозгласившему передачу управления на места достижением демократического устройства и буквально одержимому затеей. Всякого рода организационные и территориальные хлопоты отнимали массу времени и сил у руководства милевской фирмы и самого Главного, вынужденного разъезжать по инстанциям и отстаивать интересы дела (как известно, два переезда равны по вредности одному пожару).
Постройка первого экземпляра В-8 была завершена к началу лета 1961 года, заняв тем самым почти три с половиной года – куда больше, чем потребовалось для реализации проекта Ми-4 и даже гигантского Ми-6. После отработки систем перешли к первым полетам на привязи – вернее, отрывам от земли на метр-другой, во избежание риска разбить опытную машину. Первый полет был выполнен под управлением летчика-испытателя Б.В. Земскова 24 июня 1961 года. Заводские испытания шли практически без замечаний. Машина удалась – в этом не было сомнений. М.Л. Миль по заведенному обычаю присутствовал почти на всех испытательных полетах. Участники испытаний знали о верности Главного летным традициям и приметам. Как и у многих старых летчиков, давней привычкой Миля был зарок – не держать при себе денег, пока машина в воздухе. Пока шла подготовка к испытательному полету, Миль выгребал всю наличность из карманов и отдавал кому-нибудь поблизости с наказом – спрятать подальше и не возвращать, пока полет не завершится.
При всех обнадеживающих результатах испытаний В-8 конструкторам было ясно, что дальше эта машина не пойдет. Перспективы всё настойчивее связывались с двухмоторным вариантом. В-8 даже не спешили передавать на совместные Госиспытания с заказчиком. Однако прототип сыграл немалую роль в продвижении всей разработки, будучи используемым для всякого рода демонстрационных целей. Уже двумя неделями после первого полета В-8 был представлен на показе новой авиационной техники и воздушном параде в Тушино. После этого он выставлялся на ВДНХ. Интерес к новой машине был настолько велик, что как-то Н.С. Хрущев воспользовался находившимся на выставке вертолетом в качестве конференц-зала, проведя в его салоне выездное заседание Политбюро ЦК КПСС. Следствием такой «пиар-компании» стало увеличение государственной поддержки программе.
В декабре 1961 года В-8 поступил на Госиспытания, хотя самими создателями его перспективы в качестве прототипа для серии оценивались весьма уступающими задуманному двухмоторному варианту. Заказчик также всё больше склонялся к двухмоторной машине, причем в качестве довода приводилась большая надежность такой схемы – как-никак, с повестки дня не снималось задание на представительский вертолет и речь шла о безопасности при использовании первыми лицами страны. В дальнейшем В-8 использовался ОКБ в качестве летающего стенда при отработке новых систем и агрегатов.
Вторая машина, собранная в ноябре 1961 года, даже не поднималась в воздух и на летные испытания не выводилась. Первоначально она предназначалась для прочностных и ресурсных испытаний, но её сразу же использовали в работах по переоборудованию под двухмоторную силовую установку. Макет двухмоторной машины был представлен на рассмотрение комиссии уже в начале 1960 года, еще до первого полета В-8. Поскольку двигателя требуемой мощности в стране не было, несколько авиадвигательных КБ получили задание на создание газотурбинного вертолетного двигателя мощностью 1250 л.с. Наиболее перспективным стало предложение ленинградского КБ– 117 под руководством С. П. Изотова. Этому же конструкторскому коллективу было поручено создание нового редуктора для двухвальной силовой установки. Постройка двухмоторного варианта вертолета под наименованием В-8А приобрела силу правительственного задания Постановлением Совмина СССР от 30 мая 1960 года, пока еще без отказа от выпуска одномоторного В-8.
Создаваемый двигатель ТВ2-117 являлся оригинальной разработкой, будучи изначально предназначенным для использования на вертолете (в отличие от прежних турбовальных двигателей ТВ-2ВМ и Д-25В, использовавшихся на Ми-6, которые были переделкой самолетных силовых установок). Новый турбовальный двигатель имел схему со свободной турбиной, позволявшей регулировать частоту вращения несущего винта в широком диапазоне, обеспечивая набор потребных режимов, от экономичных до максимальных, сочетая высокие несущие характеристики с большой дальностью полета. Особенностью силовой установки со «спаркой» двух двигателей являлась необходимость обеспечения их взаимосвязанной работы, для чего потребовалось внедрение соответствующего управления. Благодаря высоким качествам двигателей реальным было достижение поставленных задач по безопасности полета: так, при отказе одного двигателя мощности остававшегося было достаточно для продолжения полета вертолета без снижения.
ТВ2-117 был выполнен по схеме с десятиступенчатым осевым компрессором, прямоточной кольцевой камерой сгорания двухступенчатой свободной турбиной. Выхлопная труба была отклонена на 60° от оси двигателя для отвода потока газов от поверхности вертолета. На двигателе монтировался стартер– генератор постоянного тока с противовзрывным кожухом на искрящем узле. В конструкции использовались новые материалы и технологии, только осваивавшиеся авиапромом, включая вновь созданные марки сталей и титан в подверженных высоким температурным нагрузкам узлах.
Значительной проблемой при создании малоразмерного турбовального двигателя стала необходимость преодоления неприятного эффекта «парного вихря», присущего осевым компрессорам таких двигателям. При прохождении воздуха через проточную часть вследствие трения потока о стенки конструкции возникают завихрения на втулочном и периферийном радиусе лопаток компрессора. У мощных газотурбинных двигателей с их длинными лопатками вредное влияние вихрей локально и менее заметно, позволяя создать должный напор. Однако при небольших лопатках малоразмерных ГГД (особенно крохотных лопатках последних ступеней компрессора) вихри целиком охватывали всю их высоту, сводя расчетные режимы работы на нет и «съедая» к.п.д. до непозволительно малых значений. Известные решения конструктивной проблемы с осецентробежным компрессором выглядели громоздко, препятствуя намерению создать компактную силовую установку небольшой поперечной размерности.
Конструкторы избрали путь регулировки компрессора, избавляемого от вредных влияний посредством управляемого входного направляющего аппарата и направляющих аппаратов трех первых ступеней, а также клапанов перепуска воздуха. Регулируемый направляющий аппарат был новинкой, позволяя повысить запасы устойчивости компрессора, «настраиваемого» в зависимости от режима работы двигателя и обеспечивающего бессрывное протекание потока. Впервые в практике отечественного двигателестроения использовалась конструкция опущенных замков турбинных лопаток для улучшения охлаждения и снижения напряжений в дисках турбин. Полки турбинных лопаток выполнялись с лабиринтами, демпфировавшими переменные напряжения в лопатках и повышавшими к.п.д… Ротор компрессора имел цельную жесткую конструкцию, точеную из титанового сплава. Для предотвращения раскрутки свободной турбины управление двигателем включало систему защиты, контролировавшую выход на критические обороты.
Двигатель ТВ2-117 проходил отработку параллельно вертолету и его Госиспытания были завершены в 1964 году. Взлетная мощность ТВ2– 117 была доведена до 1500 л.с., крейсерская мощность продолжительного полета, при котором время работы двигателя не ограничивалось, составляла 1000 л.с. Двигатель отличался небольшим весом в 330 кг и компактностью, имея поперечный размер в пределах 550 мм (для сравнения – поршневой мотор Ми-4 имел 1300 мм в поперечнике). Силовая установка из двух ТВ2-117 по сравнению с одним мотором ALU-82B обладала мощностью на три четверти большей и весила на 400 с лишним килограммов меньше, давая более чем 40 % выигрыш весовых характеристик.
Конструкторам изотовского КБ было чем гордиться. Экономичность, обычно «хромающую» у малоразмерных двигателей, создателям ТВ2– 117 удалось довести до весьма приемлемых показателей: на крейсерском режиме удельный расход топлива составлял 0,310 кг/л.с. час против 0,343 кг/л.с. час у гораздо более мощного Д-25В на Ми-6. Такие характеристики удалось обеспечить благодаря прогрессивным конструктивным решениям. Степень сжатия компрессора ТВ2-117, выглядевшего буквально игрушечным по сравнению с «настоящим» Д-25В, превосходила соответствующий показатель того, достигая значения 6,6 против 5,6 у вертолетного гиганта. Расход воздуха, обеспечиваемый малогабаритным компрессором ТВ2-117, на взлетном режиме составлял 6,6 кг в секунду. Что касается весовой отдачи, то у ТВ2-117 она была доведена до уровня полноразмерных турбовальных двигателей: с килограмма веса двигателя при взлетной мощности «снималось» 4,37 л.с. (у Д-25В параметр равнялся 4,42 л.с./кг). Применительно к предшественнику Ми-4 с его поршневой силовой установкой весовая отдача находилась на уровне 1,60 л.с./кг, тем самым эта характеристика у газотурбинного двигателя возросла без малого втрое.

Коллектив создателей В-8 у своего детища
Серийное производство двигателей ТВ2-117 было организовано на моторостроительном заводе в Перми. Поскольку газотурбинный двигатель имел намного большие рабочие обороты, чем поршневые моторы (частота вращения ротора ТВ2-117 впятеро превосходила обороты коленвала АШ-82В), требовался редуктор с качественно иными характеристиками. Примечательным достижением явилось создание нового двухвального редуктора ВР-8, сконструированного двигателистами и имевшего трехступенчатую планетарную схему с передаточным отношением 1:62,6. Крутящий момент со свободных турбин передавался на несущий и рулевой винты через трансмиссию, включавшую главный, промежуточный и хвостовой редукторы. Устройство главного редуктора обеспечивало распределение потока мощности на несущий и рулевой винты, «пропуская» 3000 л.с. (у Ми-4 планетарный двухступенчатый редуктор Р-5 был рассчитан на мощность не более 2000 л.с.).
Редуктор имел собственную маслосистему для смазки и охлаждения шестеренчатых механизмов и подшипников, располагавшую собственными насосами и радиаторами охлаждения отводимого масла. При испытаниях выяснилось, что механизмы редуктора спроектированы с таким запасом выносливости, что способны переносить даже непредусмотренные жесткие условия, в частности, работая при утечке смазки на одной лишь масляной пене.
При отработке редуктора случилось событие, вовсе немыслимое при нормальной эксплуатации: в ходе очередной «гонки» изделия в него по оплошности механиков забыли залить масло. Промашка осталась незамеченной, и редуктор запустили на стенде, где он отработал целых полчаса, после чего всё же «выразил своё возмущение», пойдя вразнос. Происшествие имело все шансы завершиться скандальным разбирательством и карами за преступную халатность, но кому-то из незадачливых испытателей пришла в голову мысль представить результаты эксперимента как исследование работы редуктора в нештатных условиях и на критических режимах, благо и результаты были налицо – можно было считать доказанным, что редуктор оставляет шансы пусть и недолго, но продолжать полет даже в аварийной обстановке, позволяя дотянуть до места, подходящего для вынужденной посадки.
Новые двигатели ТВ2-117 поступили на опытное производство милевского ОКБ летом 1962 года. Сообразно новой силовой установке была перекомпонована верхняя часть фюзеляжа. Соответственно возросшей мощности потребовалось переделать ряд узлов трансмиссии, а также устройство отсека силовой установки и рамы, несущей редуктор. Несущий винт, однако, все еще оставался прежним, четырехлопастным, аналогичной Ми-4 цельнометаллической конструкции.

Силовая установка вертолета с двумя двигателями ТВ2-117
1 – двигатели: 2 – редуктор; 3 – стойки крепления двигателя в передней его части; 4 – приспособление для удержания двигателя при снятии редуктора с вертолета; 5 – сферическая опора редуктора для крепления двигателя в передней его части; 6 – подкосы рамы крепления редуктора

Хорошее капотирование силовой установки обеспечивало отменный доступ к агрегатам двигателей и редуктору, служа рабочими площадками-трапами при обслуживании
Отработка новой силовой установки была проведена довольно быстро и в конце июля 1962 года вертолет вывели на испытания. Эта машина также представляла собой пассажирский вариант с большими боковыми окнами. 2 августа 1962 года вертолет В-8А под управлением летчика-испытателя Н. В. Лешина выполнил подлет на привязи, впервые оторвавшись от земли. Этот день по праву можно считать днем рождения будущей «восьмерки» в её привычном обличье. Избегая неожиданностей, сопутствующих спешке, испытания старались не форсировать. На отработку силовой установки и оценку управляемости вертолета ушло полтора месяца, и лишь убедившись в надежности машины, В-8А выпустили в свободный полет. Первый «настоящий» полет вертолет выполнил 17 сентября. Уже несколькими днями спустя Главный конструктор рапортовал руководству страны о выполнении задания, представив машину на Центральном аэродроме Н.С. Хрущеву и представителям коммунистических и рабочих партий соседних стран. Поводом явилось проходившее в Москве совещание «передовых сил современного мира», участникам которого решено было представить достижения советского авиапрома. От милевского ОКБ в презентации руководству страны и дружественных государств, кроме В-8А, были выставлены Ми-6 и проходивший в это время испытания прототип будущего Ми-2. Любопытно, что спустя несколько лет практически во всех этих странах летали милевские вертолеты. Перед показом В-8А получил дизайнерски выглядевшие обтекатели основных колес и стоек, а его борт украсила надпись «Аэрофлот». К слову, верный себе Миль, придававший вопросам художественного проектирования большой смысл, лично занимался схемами окраски вертолетов, спорил с коллегами о подборе цветов, и опытная «восьмерка» при показах сменила несколько «парадных мундиров», побывав и в красно-бело-синей окраске, и в кремовой.
Заводские испытания В-8А продолжались вплоть до окончания зимы следующего года. Ведущими инженерами по испытаниям были В.А. Изаксон-Елизаров и А.Я. Чулков. Летали на машине испытатели ОКБ-329 Г.В. Алферов, И.Н. Дрындин, В.П. Колошенко, Ю.С. Швачко и другие. В ходе испытательных работ исследовались предполагавшиеся к внедрению на вертолете новации: четырехлопастной рулевой винт со втулкой, оснащенной горизонтальными и вертикальными шарнирами и межпопастными упругими связями, втулка несущего винта с гидравлическими демпферами вертикальных шарниров, экспериментальные лопасти со стальным трубчатым лонжероном и стеклопластиковым носком (прежняя конструкция имела прессованный дюралевый лонжерон и такой же носок, хвостовой отсек образовывала трехслойная панель с алюминиевым сотовым заполнителем). Испытывалась также электротепловая противообледенительная система лопастей. Для оценки новых конструктивных решений использовался специально подготовленный летающий стенд на базе вертолета Ми– 4. Далеко не все новшества нашли применение на «восьмерке»: не выдержали испытания лопасти смешанной конструкции, отказались и от четырехлопастного рулевого винта.
Работы по совершенствованию несущей системы продолжались, приведя к созданию нового пятилопастного несущего винта. Вертолет прибавлял в весе, переходя в более тяжелую категорию – вес пустого В-8А достигал 5860 кг по сравнению с 4900 кг у Ми-4, а нормальный взлетный вес устанавливался равным 9000 кг (у Ми-4 – 7500 кг), и прежний винт уже не соответствовал «подросшей» машине. Кроме того, винт предыдущей конструкции приносил нежелательные вибрации, для снижения уровня которых требовались более радикальные изменения. «Четверочные» лопасти имели ресурс до 2000–2500 часов, их кропотливая отработка стала хорошей практикой, позволяя рассчитывать на успешную разработку новой конструкции. Ведущим специалистом по созданию винтов в ОКБ-329 являлся А.М. Лейканд, однако и сам М.Л. Миль относился к вопросам проектирования винтов самым личностным образом, проводя в отделе часы за кульманом и чертежным столом. Для нового винта была избрана пятилопастная схема, обеспечивавшая повышенную заполняемость ометаемого диска при умеренной нагрузке на лопасти. Был принят новый аэродинамический профиль лопастей с хорошими несущими качествами. Избегая увеличения диаметра несущего винта, что серьезно ухудшило бы возможности вертолета по базированию и десантным качествам – для вертолета с винтом большого размера потребовались бы соответственно возросшие площадки, да и сесть при необходимости он смог бы уже не везде, – прибегли к модернизации конструкции втулки, сместив шарниры по азимуту и разместив еще один, пятый, узел навески лопасти. В результате определяющая размерность длина более крупного вертолета с вращающимися винтами осталась в пределах 25 м, идентичной Ми-4. Удельная нагрузка на диск несущего винта при нормальном взлетном весе достигла 26 кг/м 2(у Ми-4 – 21,7 кг/м 2). Основные элементы сохраняли прежнюю конструкцию, несколько переделанную и упрочненную соответственно новой схеме.
Лопасти унаследовали хорошо отработанную «четверочную» цельнометаллическую конструкцию, имея прямоугольную в плане форму, прессованный дюралевый лонжерон, обработанный соответственно аэродинамическому профилю и несший дюралюминиевый носок– наконечник и хвостовые отсеки с металлическими сотами. Трехслойная конструкция хвостовых отсеков крепилась с использованием пленочного клея ВК-3. На двух отсеках каждой лопасти устанавливались триммеры, которые использовались при регулировке соконусности несущего винта. Втулка по узлу навески каждой лопасти несла горизонтальный, вертикальный и осевой шарниры, обеспечивающие сложное движение лопастей на пути их вращения. Наличие шарнирных соединений обеспечивало маховые движения лопастей относительно горизонтальных шарниров, колебательные движения в плоскости вращения относительно вертикальных шарниров, а также поворот лопастей в осевых шарнирах. Такое крепление лопастей позволяло снизить критичные для конструкции переменные напряжения в несущем винте и уменьшало аэродинамические моменты, предаваемые от винта на фюзеляж. Для гашения колебаний лопастей в плоскости вращения вертикальные шарниры оборудовались гидравлическими демпферами. Втулка несла компенсатор, обеспечивавший уменьшение угла установки лопастей при взмахах. Лопасти оборудовались новой электротепловой противообледенительной системой с нагревательными элементами вдоль передней кромки, представлявшими собой полоску стали-нержавейки. От механических повреждений они защищались слоем резины и оковкой из нержавеющей стали. Лопасти оснащались пневматической системой сигнализации о повреждениях: сохранение давления находившегося в полости лонжерона сжатого воздуха свидетельствовало о целостности конструкции, при появлении трещин или других нарушений падение давления служило предупреждением об угрозе потери работоспособности.