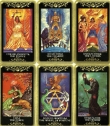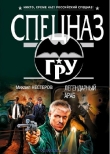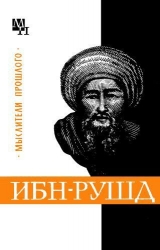
Текст книги "Ибн-Рушд (Аверроэс)"
Автор книги: Артур Сагадеев
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
В конце XIII в. точно такой же перечень еретических тезисов, включавший концепции Ибн-Рушда, был составлен Жилем Римским под названием «Ошибки философов». Помимо этого сочинения Жиль Римский написал целую серию трактатов, посвященных опровержению отдельных «ошибок» кордовского мыслителя, который клеймится им как человек, впервые заявивший о том, что христианская, иудейская и мусульманская религии при всей их возможной практической полезности основаны на лжи.
На рубеже XIII и XIV вв. с такими же яростными нападками на Ибн-Рушда выступил Раймунд Луллий, известный своей фанатичной ненавистью к исламу. Аверроэс был в его глазах воплощением «мусульманства», и он требовал наложить официальный запрет на чтение и преподавание трудов Комментатора. На Венском соборе 1311 г. он пишет три прошения Клименту V, рекомендуя создать новую военную систему для уничтожения «мусульманства», организовать специальные школы для изучения арабского языка и осудить Ибн-Рушда вкупе с его поклонниками из числа христиан. Раймунда Луллия особенно возмущает концепция «двойственной истины». В одном из своих небольших трактатов, направленных против аверроистов, от имени «госпожи Философии» он сетует на учение, согласно которому некоторые суждения могут быть ложными с точки зрения «естественного света» разума и истинными с точки зрения религии. «Госпожа Философия» торжественно отвергает всякие попытки представить ее чем-то большим, чем служанкой богословия. «Я, – говорит она, – простая служанка теологии. Как же можно требовать, чтобы я могла ей противоречить? О я, несчастная! Где те благочестивые мудрецы, которые придут мне на помощь?» (37, VIII, стр. 150).
В годы, когда аверроистские тезисы предавались анафеме Жилем Римским и Раймундом Луллием, Ибн-Рушд из простого мусульманского философа, невольно «совратившего» некоторых «неустойчивых» католиков, становится «богохульником» мирового масштаба. Его объявляют создателем учения «о трех обманщиках» (Моисее, Иисусе и Мухаммеде), соавторами которого в эту и последующие эпохи называли попеременно то Фридриха II, то Боккаччо, то Макиавелли, то Кардана, то Кампанеллу, то Джордано Бруно, то Ванини, то Гоббса, то Спинозу. Поскольку именно Ибн-Рушду приписывалось авторство этого, вероятно, самого бескомпромиссного и смелого для эпохи средневековья атеистического воззрения, следует несколько поближе ознакомиться с его действительными историческими истоками.
Учение о «трех обманщиках», вне всякого сомнения, имело восточное происхождение и, видимо, уходило своими корнями в политические и идеологические движения исмаилитов X в., нашедшие свое философское выражение в творчестве членов тайного общества «Чистые братья». Критикуя режим Аббасидов, «Чистые братья» обрушивались прежде всего на мусульманское вероучение как на духовного защитника ненавистного им «государства зла». Они утверждали, что ислам «оплешивел от старости» и может служить лекарством лишь для больных и слабых рассудков, в то время как здравый интеллект питается глубокой и гордой мудростью философии. «Религия, – говорили они, – запятнана невежеством, смешана с заблуждениями, и ни омыть, ни очистить ее иначе, как посредством философии» (41, I, стр. 228). Для «Чистых братьев» все религии были равны, и перед всеми вероисповеданиями они отдавали предпочтение светским наукам и философии, с помощью которых надеялись приблизить пришествие «государства блага».
О том, что откровенный скептицизм «Чистых братьев» по отношению ко всем религиям был связан с исмаилизмом, свидетельствует высказывание средневекового арабского богослова Ибн-Таймийи об одной из исмаилитских сект, члены которой, по его словам, не верили ни в одного из пророков, ни в одно из «священных» писаний и основывали свои рассуждения на учениях «философов-естествоиспытателей», подобно тому как это делали «Чистые братья».
Критика религий достигала максимальной остроты у той из исмаилитских сект, для которой свойственна была и наибольшая политическая активность. Речь идет о секте карматов, под антифеодальными лозунгами которых в конце IX и первой половине X в. проходили восстания крестьян, кочевников и ремесленного люда на всей территории халифата. Карматы не только отвергали все вероисповедания, но и выступали с разоблачением ислама, христианства и иудаизма как учений, построенных на преднамеренном обмане народа. Три человека, утверждал один из их вождей, внесли в человечество порчу – пастырь (Моисей), лекарь (Иисус) и погонщик верблюдов (Мухаммед). Карматы рассматривали религии не просто как плод фантазии «трех обманщиков», а как духовное средство для материального порабощения людей.
Учение карматов вызвало сочувственное внимание у многих выдающихся деятелей средневековой арабо-мусульманской культуры. С большой симпатией к ним относились Рудаки и Насир-и Хисрау; тайным их поклонником был Ибн-Сина; несомненные следы влияния карматских идей обнаруживаются в творчестве арабского философа и поэта аль-Маарри, заявлявшего, что религия – это ложь и лицемерие, что ее создала алчность, стяжательство ее сохранило, а власть традиции утвердила в человеческих душах. Карматское учение проникло и в иудейскую среду, оставив, например, отпечаток на творчестве близкого к исмаилитам еврейского философа Юды бен-Ниссима ибн-Мальки, характеризовавшего победу религии над философией как торжество мрака над светом, а ее господство над людьми – как владычество глупости.
Неизвестно, какими именно путями учение о «трех обманщиках» проникло в средневековую Европу. Но факт остается фактом – оно пришло с Востока, и свидетельством тому служит приписывание его авторства Ибн-Рушду. Интересно при этом отметить, что в христианском мире учение о «трех обманщиках» окрасилось в «местный колорит»: если карматы, согласно мусульманским источникам, считали худшим из пророков Мухаммеда, то, по домыслам средневековых католических авторов, Аверроэс прежде всего нападал на Иисуса. Одни христианские авторы объясняли эту «тенденциозность» Ибн-Рушда тем, что он пришел в ужас от евхаристии, сочтя христианство за самую безрассудную религию, предписывающую своим адептам поедать собственного любимого бога; другие отмечали, что, несмотря на свое одинаково презрительное отношение ко всем богооткровенным религиям, он рассматривал Христа как наименее искусного из «трех обманщиков», поскольку-де Иисус добился лишь того, что его в конце концов распяли.
В возникновении легенды о том, что создателем этого атеистического учения был Аверроэс, с социально-психологической точки зрения нет ничего удивительного. В рассматриваемую эпоху Ибн-Рушд был наиболее известным арабским мыслителем, воплощавшим в своем лице всю «нечестивую» мусульманскую ученость, с одной стороны, и служил символом вольнодумства среди самих христиан – с другой. Кроме того, проявляя неприкрытую индифферентность к различиям между тремя мировыми религиями, он рассматривал их совокупно не столько в свете единства их божественного происхождения, сколько с точки зрения тех нелепостей, которые проповедовали теологи – мутакаллимы. Появлению этой легенды, возможно, способствовало и то обстоятельство, что термин «мутакаллимы» в латинских переводах калькировался словом loquentes, а последнее воспринималось (например, Жилем Римским) как обозначающее не просто «говорящих», а «говорунов», склонных к краснобайству и пустословию, что придавало этому чисто техническому термину язвительную окраску, сближавшую его со словом «обманщики».
Распространение учения о «трех обманщиках» по времени совпадает с теми изменениями, которые имели место в XIV b. в соотношении между философией и богословием. Эти изменения характеризовались усилившимся размежеванием сфер компетенции науки и теологии, из которых первая оперировала доказательными, аподейктическими рассуждениями, а вторая – вероятностными, или, по тогдашней терминологии, «диалектическими». Если в предшествовавшее столетие схоласты утверждали, что «естественный свет» интеллекта не способен обнаружить истины, противоречащие Писанию, положения которого могут быть сверхразумными, но не противоразумными, то теперь теологическую тематику стали все более относить к области слепой веры или мистики, давая одновременно простор для антидогматического, рационалистического направления, продолжавшего аверроистские традиции XIII в. Типичным представителем этого направления был последний крупный аверроист в Парижском университете Жан Жанденский (ум. в 1328 г.), который советовал своим современникам оставить попытки примирения веры и знания, ссылаясь на то, что такие попытки способны лишь еще отчетливее выявить несостоятельность догматов религии.
В вопросе об отношении между философией и теологией, как мы видим, латинские аверроисты расходились со своим учителем, придерживавшимся точки зрения единой истины. Это расхождение определялось теми различиями, которые имелись в степени институализированности религиозной практики в условиях ислама и христианства. При ситуации, когда религиозные догмы общемировоззренческого характера не могли быть зафиксированы в том или ином виде на основании иджмы, Ибн-Рушд имел хотя бы формальное право обрушиваться на любых – предшествовавших или современных ему – богословов за те толкования, которые они давали священным текстам. Латинские же аверроисты не располагали даже таким правом. Они не могли, например, полемизировать с «отцами церкви», чьи мнения относительно тех или иных положений Писания вменялось христианам в обязанность принимать как непререкаемые истины (с точки зрения авторитетности высказывания представителей патристики можно сравнить в исламе лишь с высказываниями сподвижников и непосредственных последователей Мухаммеда, но таковые в отличие от Тертуллиана и других «отцов церкви» не обсуждали вопросов о сотворении мира, о божественных атрибутах и т. д.). Аверроистская критика мутакаллимов поэтому должна была восприниматься в Европе как критика, направленная не только против теологии, но и против религии вообще. А такая критика была равносильна атеизму и считалась тягчайшим преступлением одинаково и в исламе и в христианстве.
В условиях ислама, как показал опыт Ибн-Рушда, возможность пропагандировать концепцию единой истины и одновременно бороться против теологии была чисто теоретической. В условиях же христианства такая возможность исключалась как практически, так и теоретически. Ввиду этого «легальная» борьба против обскурантизма теологов у латинских аверроистов велась на основе концепции «двойственной истины», которая давала известный простор свободомыслию, но в то же время создавала возможность для появления в ее рамках учений с разной степенью лояльности религиозной догматике, что, в частности, определило характер эволюции итальянского аверроизма.
Начало распространению идей Ибн-Рушда в Италии положила деятельность аверроистов Бодонского университета, крупнейшими из которых были Таддео из Пармы, преподававший на факультете искусств в 1318–1321 гг., и Анджело д’Ареццо, преподававший там же в середине 20-х годов XIV в. Однако вскоре центр аверроизма перемещается в Падуанский университет, являвшийся в ту пору средоточием интеллектуальной жизни всей северо-восточной Италии. Распространение и расцвет аверроизма в Падуе были подготовлены существовавшими здесь традициями свободомыслия, носителями которого выступали местные врачи. Врачом был и Петр Албанский, основоположник падуанского аверроизма, умерший во время следствия по обвинению в ереси. Крупнейшими представителями падуанского аверроизма были Павел Венецианский (ок. 1368–1428), Гаэтано Тиенский (1387–1465), Александр Ахиллини (ум. ок. 1520), Марк-Антонио Зимара(1460–1523), Цезарь Кремонини (1550–1631).
Последний итальянский аверроист, как мы видим, дожил до XVII в. Такая долговечность аверроизма в значительной степени объясняется тем, что начиная с XV в. он не представлял особой угрозы властям, ввиду того что позднейшие аверроисты были более лояльны по отношению к вере в рамках учения о «двойственной истине», чем их предшественники – аверроисты XIV в. Не удивительно поэтому, что некоторые итальянские аверроисты позднего поколения вставали на путь отступничества. Так, например, Николетти Верниас, преподававший в Падуанском университете в 1471–1499 гг., вначале решительно отстаивал концепцию единого для всех людей разума, но под конец отрекся от нее и написал специальный трактат в защиту учения о бессмертии и численном множестве человеческих душ. Аналогичная метаморфоза произошла с учеником Верниаса Августином Нифусом, который столь же решительно выступал за единство общечеловеческого интеллекта, с пренебрежением отвергал доводы Альберта Великого и Фомы Аквинского против Аверроэса, а затем переметнулся на сторону католической ортодоксии и защищал отвергавшуюся им до этого психологическую теорию Аквината. Кроме того, острота концепции единства разума, служившей одной из центральных тем в выступлениях итальянских аверроистов, была сглажена тем, что в XVI в. они стали толковать ее в духе учения Симпликия о распадении единого активного интеллекта на множество бессмертных индивидуальных душ.
Только в свете этой эволюции итальянского аверроизма можно уяснить сущность диспута, тянувшегося десятилетиями в том же XVI в. между аверроистами и александристами (сторонниками психологического учения Александра Афродизийского). Начало диспуту положил «глава александристов» профессор философии и медицины в университетах Падуи, Феррары и Болоньи Пьетро Помпонацци (1462–1525). В своем трактате «О бессмертии души», вышедшем в Болонье в 1516 г. и позднее включенном в список запрещенных книг, он подвергает критике аверроистское учение об объективном существовании надындивидуального человеческого интеллекта. Помпонацци заявляет, что Аверроэс неверно истолковывает Аристотеля, превращая в самосущую реальность то, что может быть только предметом мысли, – единство человеческого интеллекта. Мышление, заявляет он, так же как и воля, зависит от телесных органов, и, как бы наши понятия ни были далеки по степени своей абстрактности от чувственных восприятий, они нуждаются в них так же, как наша воля в своих актах нуждается в телесном предмете. Вот почему, заключает Помпонацци, человеческая душа, с одной стороны, бессмертна, а с другой – смертна: бессмертна потому, что понятия, которыми оперирует разум, имеют вечную природу, а смертна потому, что разум вынужден постоянно обращаться к чувству.
Нетрудно заметить, что содержащаяся в книге «О бессмертии души» критика концепции единого интеллекта практически обращена не против Ибн-Рушда, а против итальянских аверроистов. Если Помпонацци при составлении этого трактата имел в виду действительно Ибн-Рушда, то он, попросту говоря, ломился в открытую дверь. Ибо, так же как Помпонацци, Ибн-Рушд утверждал о сугубо индивидуальном характере чувственных восприятий; столь же индивидуальны, по его убеждению, и другие «низшие» способности человеческой души, ввиду чего, говорил он, после смерти не может быть места ни памяти, ни любви, ни ненависти, ни различению. Так же как и Помпонацци, кордовский мыслитель утверждал о двоякой природе понятий, которые индивидуальны и потому преходящи в той мере, в какой интеллект выводит их из форм воображения, принадлежащих Ивану или Петру, и в то же время общезначимы и потому «бессмертны», поскольку могут быть достоянием не одного человека, а множества людей, ныне живущих и будущих. Так же как Помпонацци, Ибн-Рушд говорил о детерминированности, конечной зависимости объективных факторов, человеческой воли. Наконец, так же как Помпонацци, Ибн-Рушд отвергал личное бессмертие и, признавая известного рода единство интеллекта всех людей, отрицал за этим интеллектом самосущее объективное существование, ибо общее, будь то общее понятие или общее свойство вещей, по его учению, существует лишь постольку, поскольку оно и единичное, т. е. в той мере, в какой понятие связано с формами воображения, которые всегда индивидуальны, и в какой общее свойство есть вместе с тем свойство ряда конкретных предметов. Помпонацци, следовательно, по всем принципиальным пунктам своего психологического учения выступает более последовательным аверроистом, чем его оппоненты – итальянские аверроисты, склонявшиеся к признанию самостоятельно существующего коллективного разума и допускавшие в этой связи двусмысленные трактовки вопроса о бессмертии души.
Обратимся теперь к другим основополагающим идеям Помпонацци. Отрицая абсолютную свободу человеческой воли, он одновременно отвергает и представления о предопределенности действий людей божественной волей как представления, стирающие различия между добродетельными и порочными поступками. Вместе с тем Помпонацци указывает на аморальность следования догмату о потусторонних наказаниях и наградах. Человек, совершающий добрые дела, говорит он, и не ждущий вознаграждения за свою добродетель, более нравствен, чем тог, кто совершает их, рассчитывая на награду; точно так же тот, кто избегает порока потому, что порок безобразен сам по себе, заслуживает большей похвалы, чем тот, кто воздерживается от дурных поступков из страха перед предстоящей в загробной жизни расплатой. Догмат о потустороннем возмездии, утверждает он, необходим как духовная узда для народа; религия, с его точки зрения, выполняет в этом смысле чисто политическую функцию. Что же касается философов, то счастье свое они обретают в посюсторонней жизни, совершенствуя свойственную им добродетель, которая заключается в познании истины. Философия и религия (Помпонацци использует для ее обозначения, так же как и Ибн-Рушд, слово «закон») имеют различные сферы применения. Религиозные законодатели для достижения своих целей обращаются к народу с проповедями; философы же для достижения своих целей обращаются только друг к другу, не разглашая свои рассуждения перед профанами. Истины, говорит Помпонацци, могут быть справедливыми с точки зрения теологии, но несправедливыми с точки зрения философии, и наоборот. С точки зрения богословия надо верить, что прикосновение к мощам способно принести больному исцеление, но с точки зрения философии следует знать, что кости мертвой собаки могли бы дать точно такой же эффект, если бы больной убедил себя в их исцеляющей способности. Все эти идеи суть идеи подлинного аверроиста, и они не имеют почти никакого отношения к Александру Афродизийскому.
Назвать Помпонацци «главой александристов» можно было лишь из чисто технических соображений для отличения его позиции от позиции «главы аверроистов» Ахиллини. Более того, с учетом отмеченной выше близости психологических взглядов Ибн-Рушда и Помпонацци было бы правомернее считать аверроистом автора трактата «О бессмертии души», чем его оппонентов. В общем, как бы там ни было, знаменитый диспут александристов с аверроистами был по существу внутренним спором единомышленников. И недаром Латеранский собор 1512 г. осудил взгляды и той и другой из спорящих сторон совокупно.
При достаточно широком взгляде на умственную жизнь Италии эпохи Возрождения становится не столь принципиальной несколько более резкая грань, разделявшая аверроистов и Франческо Петрарку (1304–1374), считающегося основоположником европейского гуманизма. Дух взаимоотношений между знаменитым поэтом-гуманистом и последователями Ибн-Рушда хорошо передается в рассказе самого Петрарки о его встрече с одним аверроистом. «Однажды к нему пришел в его библиотеку в Венеции один из тех аверроистов, „которые по обычаю современных философов считают своим непременным долгом лаять на Христа и на его сверхъестественное учение“. Петрарка осмелился в разговоре привести какое-то изречение св. Павла; этот человек нахмурил с пренебрежением брови. „Оставь про себя, – сказал он ему, – ученых такого рода. „Что до меня, то у меня есть учитель, и я знаю, в кого уверовал“ [18]18
Это изречение из II послания к Тимофею (гл. I, ст. 12) цитируется в насмешку и относится к Аверроэсу. – Прим. Э. Ренана.
[Закрыть]“. Петрарка попытался защищать апостола. Аверроист засмеялся. „Ну, – сказал он, – оставайся верным христианином; я же не верю ни одному слову из всех этих басен. Твой Павел, твой Августин и все эти люди, которых ты так уважаешь, были просто болтуны. Ах, если бы ты мог читать Аверроэса!.. Ты увидел бы, насколько он выше их всех!“ Петрарка, с трудом сдержав свой гнев, взял аверроиста за плащ и попросил его больше не приходить. В другой раз, когда Петрарка позволил себе цитату из св. Августина, говоря с одним из этих вольнодумцев, тот возразил: „Какая жалость, что такой гениальный ум верит в такие пустые басни. Но я возлагаю на тебя большую надежду, и когда-нибудь, наверное, ты придешь к нам“» (37, IX, стр. 10–11).
Несмотря на всю остроту описываемых в этом рассказе ситуаций, речь в нем идет о столкновении людей, хотя и с противоположными умонастроениями, но примыкавших к единому историческому движению. Дело в том, что Петрарка принадлежал к тому направлению итальянского гуманизма, которое ради эстетического и нравственного совершенствования личности стремилось обновить христианство на основе платонизма. Представители этого направления, лишенные естественнонаучных интересов, рассматривали аверроизм как воплощение «арабского духа», якобы затемнившего и исказившего тот прекрасный дух Эллады, который только что раскрылся перед ними в сочинениях Платона. И все же в данном случае, как и в случае со спором александристов и аверроистов, мы имеем дело не более чем с двумя участками единого фронта борьбы против господствовавшей феодальной идеологии.
То же самое можно сказать о выступлениях против аверроизма тех гуманистов XV–XVI вв., которые обратились к греческим текстам Аристотеля, дабы «черпать философию из чистейших источников, а не из грязных ручейков». Подобно флорентийским платоникам, не проводившим никакого различия между аристотеликами схоластического, александристского и аверроистского толка, эти почитатели «подлинного Аристотеля» считали Ибн-Рушда таким же «варварским философом», как Альберт Великий и Фома Аквинский.
Иначе, чем флорентийские платоники Петрарка и Фичино, иначе, чем аристотелики-«пуристы» Барбаро и Патрицци, но в едином строю с ними аверроисты боролись за освобождение человека от оков средневекового миропонимания и мироощущения. На это были направлены их учения о превосходстве разума над верой, о единосущем и вечном интеллекте людей, о возможности бесконечного расширения человеческих знаний. «Эти три концепции, – пишет З. Куксевич, – содержали в себе в зародыше теорию человека, которую можно включить в традицию светского гуманизма, – концепцию человека без бога, концепцию человека без церкви, концепцию высшего и автономного достоинства человека, открытого безграничным возможностям совершенствования» (51, стр. 493).
Конец популярности аверроизма в европейских странах [19]19
Слава об Ибн-Рушде обошла в течение XIII–XVII вв. всю Европу и докатилась до далекой Руси. Основатели Славяно-греко-латинской академии братья Лихуды при составлении курса аристотелевской натурфилософии привлекали комментарии Аверроэса. Лихуды, так же как их ученик – доктор медицины и философии Петр Постников, получили образование в Падуе – центре итальянского аверроизма.
[Закрыть]был столь же естественным, как ее начало. Новые философские веяния, предварявшие материализм XVIII в., обнаружили ограниченность как натурфилософских, так и теоретико-познавательных принципов аристотелизма. Вместе с авторитетом Аристотеля угасла и слава Комментатора. Но, оценивая историческую роль кордовского мыслителя, не следует забывать, что то «перешедшее от арабов и питавшееся новооткрытой греческой философией жизнерадостное свободомыслие, подготовившее материализм XVIII века», о котором писал в «Диалектике природы» Ф. Энгельс (1, стр. 346), наиболее яркое свое воплощение нашло именно в аверроизме.