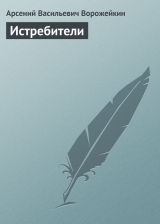
Текст книги "Истребители"
Автор книги: Арсений Ворожейкин
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
Мне плакать захотелось, честное слово! Ну, куда, думаю, ты бежишь? Ну, пробежишь сто, двести метров, а дальше? Ведь до границы шестьдесят километров. А там еще перейти через фронт надо.
Я так думаю: вероятно, он застрелился бы. Не такой человек Забалуев, чтобы даться живым в руки врага.
Рассказываю я это вам долго, а подумать – тысячная доля секунды.
В это время я вижу, что он мне машет рукой: дескать, улетай, не возись со мной! Он, конечно, не знал, что это я. Он думал, какой-то советский летчик просматривает местность и маленько заблудился. Каков Забалуев! Сам он в таком положении, а за другого испугался.
И вот интересно: казалось бы, не до этого, а вдруг я вспомнил, как он накануне про своего сынка маленького рассказывал. Черт его знает, какая-то отчаянная нежность у меня была к Забалуеву в этот момент. «Погибну, – думаю, – а выручу тебя!»
Захожу на посадку, и, знаете, так спокойно, на горке, ну словно сажусь на свой аэродром. Рассчитываю при этом так, чтоб сесть возможно ближе к Забалуеву. Тут ведь каждая секунда дорога. Вы не забыли – мы на вражеской территории.
Приземляюсь. Беру Забалуева в створе – так, чтобы подрулить к нему напрямую, не теряя времени на повороты.
Самолет уже бежит по земле. Прыгает. Место кочковатое. Конечно, была опасность поломки. Но что же, остались бы двое, все же легче.
А он уже бежит ко мне, наперехват.
Самолет остановился. Момент решительный. Надо было действовать без промедления, секунда решала все. Беру пистолет и вылезаю на правый борт. Сам озираюсь: не видать ли японцев? Все боюсь: сбегутся, проклятые, на шум мотора.
Забалуев уже возле самолета. Лезет в кабину. Говорить нет времени. Лихорадочно думаю: «Куда .бы тебя, дорогой, поместить?» Самолет ведь одноместный.
В общем, втискиваю его между левым бортом и бронеспинкой. Вдруг мотор зачихал. Забалуев в этой тесноте захватил газ и прижал его на себя. И винт заколебался, вот-вот остановится. А повернуться ни один из нас не может. Вот момент! Ведь если мотор заглохнет, завести его невозможно здесь!
Но тут я даю газ «на обратно», и самолет у меня как рвануло – и побежал, побежал!
Новая беда. Не отрываемся. Уж, кажется, половину расстояния до Ганьчжура пробежали, а не отрываемся. Поднимаемся! Думаю: «Только бы ни одна кочка под колесо не попалась…»
Оторвались! Убираю шасси.
Теперь новое меня волнует: хватило бы горючего. Ведь груз-то двойной.
Высоты я не набираю, иду бреющим, низенько совсем, чтобы не заметили. Таким манером скользим мы над зеленой маньчжурской травой. Как дошли до речки, легче стало. Тут и фронт показался. Взяли машину «на набор». Взвились. Ну, черт побери, как будто выкарабкались.
Нашел я свой аэродром, сел, выскочил.
– Ну, – кричу всем, – вытаскивайте дорогой багаж!
Никто не понял, думали, что японца привез, вот история!
А когда Забалуев вылез – такой восторг, честное слово! Ведь его в полку страшно любят. Человек он замечательный. Как командир и вообще. И семья у него замечательная. Он с ней меня после познакомил. Я его сынка увидел, про которого, помните, он мне накануне рассказывал.
– Смотри, – говорит мать, – вот дядя, который нашего папу привез. Что надо сказать?
– Спасибо, – говорит мальчик.
Ну вот, кажется, все…»
Этот очерк показался мне не во всем достоверным. Отдельные словечки, точные выражения Грицевца позволили литераторам уловить и верно передать некоторые душевные переживания летчика в те минуты, когда он садился, чтобы спасти Забалуева. Но самый строй его речи, обычно так много сообщающий нам о человеке, не связывался, не совпадал с тем, что лично я вынес из знакомства и встреч с этим выдающимся воздушным бойцом. Таким говорливым, таким словоохотливым по поводу собственной персоны он никогда не был.
Грицевец, как я его понял, относился к той категории летчиков, которые о своих боевых делах, говорят с оттенком некоторой пустячности, шутейности, так что порой кажется, будто рассказчик совершал свои подвиги легко и чувствовал себя при этом совсем «по-домашнему». Но это есть не что иное, как бесхитростная уловка, на которую идет человек, чтобы заставить себя говорить спокойно. На самом же деле во время таких воспоминаний у него порой спазма сжимает горло; он скрашивает свое повествование улыбкой, а душу его сотрясают неслышные рыдания – результат глубоких физических и душевных переживаний.
У летчиков, как это бывает у людей физического труда, профессия не оставляет следов в виде мозолей на руках или угольной пыли, вкрапленной в кожу; она въедается в нервы, оставляет свои заметки на сердце, и время их никогда не выветривает. Эти сильные, скрытые от глаза рубцы во множестве приняло орлиное сердце Сергея Грицевца.
… «Каждый, кто был верен будущему и умер за то, чтобы оно было прекрасно, достоин памятника», – сказал Юлиус Фучик.
Много стоит на Руси памятников воинской славы, монументов в честь пионеров труда и науки, в честь первоначинателей разных великих дел. Подвиг Сергея Грицевца, имя которого давно уже стало символом мужества и благородства, заслуживает такого же увековечения. Верится, настанет день, когда там, где был совершен прекрасный подвиг, поднимется бронзовое изваяние, воспевающее мужество и красоту души советского человека. Я вижу его: на пьедестале, в котором угадываются контуры нашего И-16, стоит над свободной степью летчик, и в его фигуре, в его худощавом лице – спокойствие человека, чья недолгая жизнь – образец для потомков.
3
Наши самолеты – мой и Холина – располагались по соседству, и почти каждое утро мы молча проделывали путь от командного пункта до стоянки.
Ранним утром летчики обычно неразговорчивы: ожидание новых событий вызывает какую-то замкнутость, душевные силы только начинают сосредоточиваться, а голова, не освеженная коротким летним сном, ищет, где бы приклониться… На этот раз Холин, против обыкновения, заговорил, да так, что всю мою сонливость будто ветром сдуло.
– Волнуюсь, товарищ комиссар, – вдруг сказал ОН, трогая свой маленький, выскобленный подбородок, и быстро, нетерпеливым взглядом окинул рассветное небо.
– А, по-моему, все волнуются…
– Кого что волнует, товарищ комиссар… Грицевец, например, вчера, когда за майором садился… Ох, немало, наверно, пережил, как вы считаете?
– Еще бы!
– А некоторые больше переживают, когда о своей несчастной судьбе думают… Разница! Но меня сейчас тоже только бой волнует… Чтобы врезать, значит, как следует быть…
– Один поступок на войне может сделать человека героем, – заметил я.
– И трусом! – горячо подхватил Холин. – Вот я, например… У меня было на жене свет клином сошелся, всякий интерес к жизни пропал, а это разве не та же трусость?
Он помолчал и с силой добавил:
– А теперь, после того что сделал Сергей Грицевец, я готов один против всей Японии идти…
Примеры геройства тем и возвышают людей, что проясняют их мысли; смутная голова может увлечь на слепой порыв, но твердое мужество и отвага как черта характера требуют здравого, убежденного рассудка.
Все мои сомнения, вызванные разговорчиками и шепотками о Холине, развеялись.
Пока я шел по росистой траве к самолету, ноги промокли, в хромовых сапогах хлюпало. Я переменил носки, набросил парашют и забрался в кабину.
Небо светлело, на востоке все рельефнее вырисовывались очертания Большого Хингана. Воздух был прозрачен, и казалось, что горы совсем рядом – рукой подать. Видно, в эти часы природа имеет какое-то оптическое свойство все увеличивать и приближать.
Степь, еще несколько минут назад скрытая от глаза, начинала сереть. Пробудились и завели свои песни птицы. Восток быстро розовел, яркие краски на нем сгустились, потом брызнул золотистый огонь: взошло солнце. Прозрачный воздух усиливал голубизну ничем не затуманенного неба, только горизонт затянула слабая дымка, прикрывшая собой Большой Хинган.
Все предвещало безоблачный и знойный день.
Вскоре меховой жилет стал уже лишним, а свет, распространившись по степи, переключил мое внимание на то, что является предметом постоянных забот человека, несущего дежурство в кабине истребителя. Солнце интересовало меня сейчас только как светило, облегчающее в полете ориентировку, как важный фактор, который может и помешать, и помочь в бою. Ветерок, шевеливший флаг над командным пунктом, не что иное, как сила, о которой нельзя забывать на взлете и при посадке. А раскиданные широким полукругом самолеты меньше всего воспринимались как живописная подробность степного пейзажа… Самым ближним моим соседом по стоянке был командир. Под крылом его самолета находился телефонный аппарат, роль дозорных и наблюдателей за воздухом выполняли техники. Я видел, как дремлет командир в кабине, склонив голову. Чуткое забытье, нервный полусон проникли во многие кабины. Но вот раздался чей-то вскрик, где-то звякнул металл, загудела полуторка – и головы летчиков вскидываются, а руки тянутся к «лапкам» зажигания…
Отмечая эту готовность к мгновенному взлету, к отпору, я вспомнил случай из детства.
Это было в деревне. Рано утром меня разбудила встревоженная мать: коршун утащил цыпленка!
– Вчера одного, сегодня другого, – говорила мать голосом, дрожавшим от обиды и возмущения. – Надо выследить разбойника, не то он может оставить нас совсем без кур!
На другой день на заре мать выпустила клушу с цыплятами со двора и велела мне следить за разбойником – иначе коршуна она не называла. Он долго ждать себя не заставил.
Стояла та пора, когда весенние полевые работы были закончены и деревня пробуждалась не рано; коршун, появившись на большой высоте и не приметив никакой опасности, действовал смело. Высмотрев клушу, он, как опытный истребитель, разгоняя скорость на пикировании, бесшумно бросился в атаку. Я не ожидал такой стремительности. Курица между тем отошла от меня метров на сто, и, когда я, размахивая руками и крича, выбежал из своего укрытия, было уже поздно: коршун, не обращая внимания на мои крики, с налета подхватил цыпленка и взмыл с ним в небо.
.Обозленный до ярости, я бежал за ним целую версту, до самого леса, выследил дерево, где он гнездился, и через несколько минут уже взбирался по сучьям.
Коршун тотчас поднялся и с предупреждающим криком начал кружиться над стволом. Когда я приблизился к гнезду, встревоженная злая птица, издавая какой-то стон, бросилась на меня камнем и ударила клювом так, что кепка слетела с головы. При повторном нападении я изловчился, схватил ее за крыло и швырнул вниз. Гнездо было передо мной. Я глянул в него и от страха едва не полетел с дерева: на меня почти в упор уставились полные дикой животной злобы глаза; загнутый клюв, готовый к удару, был угрожающе поднят. Это была наседка. Набравшись духу, я попытался ухватить ее за голову, но она, расправив сильные крылья, с отчаянным клекотом взметнулась кверху.
Гнездо, сделанное из множества сухих сучьев, было большим. Я успел заметить в нем только одного вылупившегося голенького птенца да несколько яиц, как подвергся ожесточенному нападению обоих коршунов. С каким-то шипением, с ужасными воплями они налетели одновременно с двух сторон, норовя всю силу своих ударов направить в голову, не защищенную даже кепкой. Ничего не видя перед собой, отчаянно отбиваясь и крича не своим голосом, я сумел удержаться, чтобы выбросить вон содержимое гнезда.
Когда мама увидела меня, избитого и окровавленного, она так и ахнула:
– Что с тобой?
Я рассказал.
– Так им и надо, разбойникам. Не лезьте за чужим добром.
– А не перетаскают они теперь со зла всех наших цыплят, да еще и клушу вместе с ними?
– Нет! Когда такого разбойника хорошенько проучишь, так он и нос боится показать.
И верно, коршуны больше не появлялись.
Вот какой случай из детства напоминает мне, что если бы и японцев как следует проучить, то они отказались бы от своих разбойничьих планов.
В небе появилось какое-то неясное, расплывчатое пятно. Мне кажется, что это самолеты, но расстояние слишком велико, и не могу определить, чьи они.
Перевел взгляд на командный пункт. Там по-прежнему спокойно, с биноклем на груди прохаживался наблюдатель. Командир, сидя в самолете, дремал. Тихо. Уж не ошибся ли я? Не мираж ли это?
Я снова смотрю в небо, но теперь ничего не нахожу. «Не следовало бы сводить с него глаз!»
Призываю на подмогу Васильева. Вон оно, загадочное пятно! Я снова его нашел. Сомнений больше нет – это самолеты, они идут плотным строем, на большой высоте и держат курс прямо на аэродром.
До сих пор мне не приходилось видеть с земли чужие самолеты, и теперь, разглядывая нараставшую группу с аэродрома, где ничто не предвещало близкой опасности, я не мог, не хотел допустить мысли, что это враг – в слишком опасной близости находились самолеты. Их гусиный порядок, едва заметные тени неубирающихся шасси – все говорило, что к аэродрому приближаются японцы… Как обычно бывает с летчиками, приученными взлетать по команде, я медлил, ожидая команды на вылет, – сигнала не было.
Аэродром пришел в движение. Многие, подняв головы и заслонившись ладонями от солнца, удивленно разглядывали неизвестно откуда взявшиеся самолеты. Василий Васильевич, получавший задание на вылет по телефону, отчаянно кричал в трубку, поданную ему в кабину, на аппарат, видимо, молчал (как позже выяснилось, диверсанты противника перерезали линию, соединявшую эскадрилью со штабом полка).
Я видел, как командир со злостью бросил трубку и приказал дать ракеты для немедленного подъема эскадрильи в воздух.
Но было уже поздно…
Противник приблизился к аэродрому, вот-вот начнет бомбить или штурмовать беспомощные на земле самолеты…
Меня охватило такое чувство, будто вся эскадрилья оказалась в западне. Постоянные дежурства в кабинах, настороженная бдительность – и вот те на! Мы – в ловушке… От того, что в этот момент еще трудно было определить, бомбардировщики к нам подходят или истребители, волнение усиливалось. Каждый знал, что взлет под бомбами и пулями приведет к большим потерям, что лучше всего забраться в щели и переждать волну огня и металла. Но никто не бросился в укрытие. Единое стремление охватило весь аэродром – скорее поднять самолеты в воздух и ринуться на противника.
4
Бесконечными показались мне сорок секунд, необходимые, чтобы стартер набрал силу и провернул винт для запуска мотора. Целых полминуты и еще десять секунд должен был я отсчитать под гнетом неизвестности, под угрозой, нависшей над нами. Лишь через сорок секунд мог я опустить рычаг, приводящий в движение коленчатый вал мотора. На что невозмутим, на что всегда спокоен Васильев, но тут и он не выдержал: прыгнул на крыло, стал торопливо проверять, исправна ли система запуска. Его неожиданное вмешательство сбило меня со счета, я отпустил рычаг… Винт вяло повернулся, мотор слабо чихнул и остановился. Впервые я остался недоволен своим техником.
Все начинается сначала.
– Раз, два, три…. десять… двадцать… – веду я отсчет вслух, едва удерживаясь, чтобы в нетерпении, охватившем меня, не отпустить рычаг прежде срока. Успеваю глянуть вверх. Высоко над головой – японские истребители. Первые самолеты эскадрильи уже начали взлет. Успеют ли? Не зажгут ли их японцы на разбеге?
Счет мой почти переходит в крик:
– …Сорок!..
Винт, блеснув на солнце, начал вращение.
Красные ракеты рвались в воздухе одна за другой, подхлестывая взлетающих…
Истребитель Василия Васильевича пошел на взлет. Я дал газ – и за ним.
Самолет двинулся, пополз…
Какая ужасная разница между желанием быть в воздухе и возможностью сделать это!
Мотор, кажется, не тянет, мощность, похоже, куда-то улетучилась… Он ревет, старается, но скорость… Скорость!.. Как медленно она нарастает!
Смотреть вверх нельзя, только вперед: нужно выдержать направление. Ошибка на взлете не менее опасна, чем пулеметы японских истребителей. Самолет, наконец, оторвался от земли, и самое сильное мое желание – рвануться в сторону, уйти от смерти, нависшей над головой, – волосы шевелятся под шлемом, так она близка. Но сделать это нельзя: нет скорости. Слух явственно различает, как в моторный рев вплелась пулеметная дробь. Все! Сейчас накроют!
С риском свалиться без скорости на землю перевожу самолет в набор высоты. Наконец-то я могу оглянуться! Поздно, но все же…
Странное дело – японцы висят над аэродромом в прежнем боевом порядке. Кто же стрелял? Неужели обман слуха…
Убираю шасси, пристраиваюсь к командиру. Полегчало. Японские истребители почему-то разворачиваются на обратный курс, не предпринимая штурмовки.
Эскадрилья собирается в пары и звенья. К нам пристроился Холин. Втроем летим на противника. Теперь враг уже не так страшен, хочется его настичь. Газ дан полностью. Спешим… 3000 метров.
Вдруг японские истребители раскалываются на две группы. Одна – самолетов в двадцать – резко пикирует на эскадрилью, а другая остается на высоте.
Противник, упустивший прекрасный момент для атаки, понял, очевидно, свою оплошность и теперь, используя тактическое преимущество в высоте, вступает в бой с остервенением. Мы, защищаясь, подставляем лбы своих самолетов. Мгновение лобовой атаки…
Японцы враз разделились на звенья и очень организованно стали заходить к нам в хвост. Маневр выполнялся с той слаженностью, четкостью и быстротой, которая позволяла думать, что летчики получают указание по радио. Командир группы, должно быть, оставался на высоте, имея прекрасные условия для обзора.
Нашу тройку атаковали два звена. Мы рассыпались, схлестнувшись в отдельные клубки боя. Кто-то из нас камнем пошел вниз. Сбит? Или уходит из-под удара? Кто это? Рядом узнал крутящегося волчком Холина. Значит, пикирует Василий Васильевич. За ним бросился было японец, но, увидав сзади меня, прервал атаку. Я успел заметить, как командир начал выходить из пикирования, – «Жив!» – и бросился выбивать японского истребителя, засевшего в хвосте у Холина. Пулеметная очередь, стеганувшая по мне, заставила круто уйти вниз. На выходе рядом с собой я увидел Холина. Самолет Василия Васильевича, как я понял, подбитый, уже сидел на земле, а сам командир размахивал над головой шлемом, показывая, что с ним все в порядке, что мы должны продолжать свое дело.
После короткой вспышки бой стих – противник стал уходить, набирая высоту. Меня охватило бессильное негодование. Казалось, что это просто преступление – находясь над своей территорией, позволить противнику так безнаказанно уйти. Я не знал, куда направить кипевшую во мне злость. Как говорится, после драки кулаками не машут, но смириться с таким финалом я не мог. Те же чувства владели, видимо, и Холиным: не сговариваясь, мы одновременно бросились вдогонку за японцами… Эта попытка была явно бессмысленной. Немного остепенившись, мы вышли в пологий разворот, направляясь домой, как вдруг Холин, глубоко помахав крыльями, пошел вниз со снижением. «Не подбит ли?» – подумал я, следуя за ним. Он снижался быстро, устойчиво – похоже, что самолет у него исправен.
Впервые после взлета я внимательно и широко осмотрелся. На востоке, где все было залито солнцем, небо и земля линией горизонта не разделялись. В северной стороне, куда мы мчались на максимальных скоростях, лежала равнина, на ее темно-зеленом фоне выделялся беловатый силуэт чужого самолета. Я понял намерение Холина и приготовился к атаке. Этот-то от нас не уйдет!
Холин, опасаясь проскочить самолет противника и оказаться под его пулеметами, резко уменьшил скорость, но сделал это с некоторым опозданием… Японец получил превосходную позицию для атаки, и я не мог понять, почему он не открыл огонь. «Вероятно, не работает оружие!» Под прикрытием Холина, не соблюдая никакой предосторожности – оружие врага молчит! – я стремительно пошел в атаку. Японец, однако, выскользнул. Тогда перешел в нападение Холин – результат был тот же… Ловко маневрируя, одинокий истребитель вырвался в Маньчжурию и, прижимаясь к земле, мог уйти от нас.
«Вот недоучки, – подумал я, – вдвоем не можем сбить!»
Вспомнил прием Грицевца, когда он одним удачным маневром свалил в Халхин-Гол такого же вертлявого самурая, и решил прибегнуть к той же уловке.
Поставив свой самолет параллельно японскому, я приступил к имитации атаки и – о, ужас! – едва не столкнулся с противником. Японец, испугавшись, видно, не меньше моего, шарахнулся кверху.
«Какой глупый таран мог бы получиться: пулеметы и пушки стреляют, под нами территория противника…» У меня не было больше охоты повторять еще не освоенный прием атаки.
Выбрав удобную позицию, я начал прицеливаться, но наложить оптическую сетку прицела на маневрирующий самолет врага никак не удавалось. Страшно досадуя, я со злостью нажал рычаг управления огнем, рассчитывая только на «авось»… Увы! Предупрежденный об опасности трассой, японец стал маневрировать с удвоенной энергией и изощренностью…
Теперь он летел, словно заговоренный.
Низко распластавшись над землей, японский летчик подобрал, видимо, скорость, наивыгоднейшую для прекрасной горизонтальной маневренности своей машины. Нет, не легко приходилось ему, но вряд ли, конечно, этот искусный истребитель мог так же хорошо понять, как я, разъяренный и взмокший, что его спасает. Я понял в эти горестные, унизительные минуты, как мало одного лишь пыла да задора, чтобы проучить наглеца, одержать верх, и что умение вести меткий огонь по маневрирующей цели у меня начисто отсутствует. Познать свой недостаток – тоже победа! Да и откуда быть ему, этому умению, если я, как и большинство летчиков эскадрильи, не более двух раз стрелял по конусу. Ведь стрельба по маневрирующему самолету требует такой же длительной выучки и постоянной тренировки, как и обучение курсанта летного училища посадке: одно неверное движение, ошибка в расчете – и результаты, бесспорно, будут самые плачевные. Для овладения этим сложнейшим искусством нужны не две стрельбы по конусу, а по меньшей мере тридцать – сорок.
Да, воздушная стрельба оказалась в нашей подготовке самым слабым местом, и трудно передать то жгучее чувство стыда, бессилия и гнева, которое я испытывал при мысли, что в моих беспомощных руках – две пушки и два пулемета…
И вдруг – счастливый миг! – мне удалось схватить вертлявого, как уж, японца в перекрестие. Он словно замер в самом центре тонких белых нитей. Я нажал гашетки. Стрельбы не было. Я не взревел от злобы, нет: мне показалось, что я постиг секрет своего удачного маневра и сумею его повторить. В волнующем предчувствии близкого торжества я быстро перезарядил оружие и повторил заход. Еще секунда… В решающее мгновение что-то словно толкнуло меня изнутри – это опыт, крошечный боевой опыт, вынесенный из первых боев, спасительно заявлял о себе: оглянись! И я увидел: сверху на нас сыплются два звена вражеских истребителей.
Я метнулся в сторону. В моей разом похолодевшей голове пронеслось: зарвались!
Холин, заметивший опасность раньше меня, разворачивался навстречу нападающим. Я немедленно последовал за ним, пробуя оружие: пушки и пулеметы молчали…
Воздушный бой подобен грозе, единой по своей природе и бесконечной в формах проявления: он то бурно разразится и пронесется ураганом, оставляющим после себя хаос; то, сверкнув коротким ослепительным ударом, отзовется по небу затухающим эхом; то, начавшись в одной точке, расширится по сторонам, рождая новые испепеляющие вспышки. Секундная растерянность – и ты повергнут.
Мы вдвоем вступили в бой против шесги – другого выхода не было. В этой обстановке нападение являлось все-таки лучшим средством самообороны, да и вообще истребитель может обороняться только нападением.
Противник, изготовившийся к разящему удару сзади, вынужден был принять защитную лобовую атаку. Этого оказалось достаточным, чтобы мы смогли немного оторваться от шестерки, прижаться к земле и уходить в Монголию. Тут я увидел не шесть, а семь вражеских самолетов, седьмой был японец, за которым мы гнались. Почуяв помощь, он немедленно перешел от обороны к очень активному наступлению. Мы, предполагавшие до этого, что у него не стреляют пулеметы, почувствовали себя несколько иначе, когда он оказался в хвосте: а вдруг да он боеспособен и может вести огонь на поражение? Нельзя не опасаться врага, пока он не уничтожен. «Наш» японец жал на Холина сзади. Намеревался ли он действительно сбить его или просто пугал, решить было трудно, но, во всяком случае, именно из-за не снятого нами истребителя снова возник напряженный момент: мы не могли произвести какой-нибудь маневр отворотом в сторону, потому что это значило бы потерять скорость и поставить себя под удар всей шестерке, более маневренной, уже настигавшей нас. Непосредственная угроза создавалась, однако, одиночным истребителем, получившим возможность с короткой дистанции атаковать любого из нас – на выбор. Холин, отрываясь от него, изменил наш боевой порядок. Теперь мы держались не клином, не уступом – я впереди, Холин – сбоку и сзади, – а растянули свою пару по фронту и шли нос в нос. И точно так же, как в начале полета, когда мы, не сговариваясь, бросились одновременно за японцами, и теперь, повинуясь обстановке и продолжая полет в сторону своей границы, начали отсекать друг от друга противника, меняясь местами.
Так получились у нас своего рода «воздушные ножницы» – прием активной обороны, прежде нам неизвестный, хотя он использовался в Испании и имел место в практике отдельных летчиков здесь, в Монголии. В военной литературе он узаконен еще не был, а уставные плотные боевые порядки просто исключали его применение…
Так, меняясь только местами, мы на максимальной скорости спешили к своей территории. Шестерка, пользуясь преимуществом в высоте, все же догоняла нас. Японцы учли характер нашей самозащиты. Они разделились на два звена и теперь пытались взять каждого из нас в «клещи». Развернуться навстречу вражеским звеньям было, конечно, правильней всего над своей землей.
Когда впереди блеснул Халхин-Гол, японцы, видимо, уже ловили нас в прицелы. «Ножницы» при таком количественном превосходстве противника больше помочь не могли. Боевыми разворотами в разные стороны направили мы на японцев широкие лбы своих самолетов. Но маневр встречной, защитной атаки не вышел: мы запоздали. Японцы сумели крепко зажать нас, оторвав друг от друга. Казалось, выхода нет: вверху – противник, вниз уйти невозможно – рядом земля, любое порывистое движение в сторону исключено – плотно обложил опытный враг, со всех сторон – губительный огонь.
Глухая безнадежность, когда и отчаяние не придает больше сил, страшная апатия вторглась в душу; все вокруг потеряло свои краски и значительность. Продолжать борьбу, казалось, уже бессмысленно. Слепой случай – вот единственное, на что можно еще положиться. Пусть не живым – мертвым, но перетянуть бы реку, перевалить этот змеистый ров с водой – и все; последнее желание, бессильный порыв – туда, к своей земле… Так сдают уставшие нервы. А разум, мобилизованный волей, говорит: держись! Пока ты жив, не все потеряно!
Японцы открыли по нашим самолетам огонь, мешая друг другу. В обоих звеньях возникла сутолока. Я мог воспользоваться этим, чтобы броситься только в одну сторону – к Холину. А Холин помчался навстречу мне. Мы потянули за собой японцев, скучившихся за нашими хвостами, и принудили их столкнуться лбами. Этих нескольких мгновений нам хватило, чтобы круто развернуться в свою сторону и вырваться из «клещей».
Под крыльями – монгольская земля! Японцы уже не могли нас достать: запас высоты, необходимой для разгона скорости, ими потерян.
Холин шел рядом, плотно ко мне пристроившись. Я заметил на его лице довольную улыбку. Я тоже улыбнулся товарищу. Мне вдруг стало до чертиков весело и легко. Обернулся назад и помахал рукой безнадежно отставшим японцам:
– До скорой встречи!
И в тот же самый момент какая-то страшная сила, будто не позволяя мне расстаться с врагом, вцепилась в левое крыло – самолет разом завалился набок и пошел к земле, зарываясь носом и теряя скорость.
Я не мог понять, что случилось. Усилий правой руки не хватило, чтобы вытянуть машину. Я дал до отказа правую ногу, но положение не менялось. Земля приближалась. Я убрал газ и обеими руками со всей силой хватил ручку «на себя», двинув вперед правую ногу. Самолет нехотя приподнял нос и застыл – без скорости, готовый рухнуть на землю. Вот машина задрожала, затряслась… Я пустил сектор газа вперед, «на всю железку», давая мотору полную мощность. Это предотвратило катастрофу. На малой скорости, поддерживаемый правой ногой и ручкой, самолет пошел по прямой.
Я взглянул влево, на крыло – там зияла брешь. Пули разрезали крепление пушки, щиток и часть покрытия сорвало, обтекаемость самолета резко нарушилась…
Положение мое было предельно беспомощным, и я с опаской, сознавая, что каждую секунду могу снова стать объектом нападения, оглянулся назад. Там, отвлекая противника, связав его боем, один против семи дрался Холин. Зачем продолжать полет? Я должен немедленно сесть, тем самым я развяжу Холину руки! Японцы шарахались в стороны, боясь, что он ударит их своим самолетом, но «клещи», в которых оказался товарищ, становились все неумолимее и жестче… Видеть такую трагедию и чувствовать свою беспомощность – нет участи более тяжелой. У меня невольно вырвался крик, похожий на заклятье: «Уходи!»
Шасси были выпущены, я шел на посадку прямо перед собой… Вдруг в поведении японских истребителей произошла крутая перемена: бросив Холина, они развернулись в Маньчжурию. Все объяснилось просто: сверху на самолеты противника шла тройка И-16. Это было звено лейтенанта Красноюрченко.
5
В воздухе я находился почти сорок минут.
Горючего хватило бы долететь и до своего аэродрома, но руки и ноги, напряженные до крайней степени, отказывались повиноваться. Я сел на ближайшем аэродроме.
Вопреки ожиданию, посадка не показалась трудной – все было пустяшным в сравнении с последними минутами полета…
Я не рассчитывал, что буду встречен здесь с распростертыми объятиями. Но мне не оказали даже элементарного гостеприимства. Сколько ни вертел я головой по сторонам, нигде не было видно поднятых рук, указывающих место для заруливания. На своем фронтовом аэродроме мы так не поступали. Война – войной, а добрые порядки – добрыми порядками. Внимательность к незнакомцу на летном поле никому не делает вреда.
Я зарулил и в конце стоянки выключил мотор. Сидел не шевелясь – наступил момент разрядки. Воля, главная сила, движущая человеком в бою, обмякла. Я упивался блаженством тихого покоя. Вдруг словно из-под земли вырос техник:
– Вы не ранены?
Я отрицательно покачал головой.
– Но как вы долетели? – он уставился на брешь в крыле.
Я сам не знал – как, и мне очень не хотелось начинать объяснения на эту тему. Идти на командный пункт, выпрашивать ремонтников, потом поторапливать их, чтобы не мешкали… Надо бы все попроще, а главное – побыстрее… Все-таки люди земли порой очень далеки от тех, кто оставляет их на время воздушного боя. Кто на этом аэродроме знает, что несколько минут назад происходило в небе со мной, с моим самолетом?








