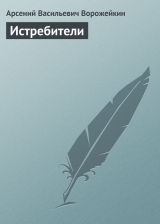
Текст книги "Истребители"
Автор книги: Арсений Ворожейкин
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
В клубах черного дыма внизу вскидывались ослепительно желтые языки бушевавшего пламени – это взрывались бензиновые баки японских истребителей.
Над летным полем и стоянкой дымы вытягивались кверху спокойными столбами, предвещавшими хорошую погоду.
Сделав три захода, мы пошли домой. Погода на обратном пути резко улучшилась. Отдельные облачные массивы, пуская серебристые от солнца полосы дождя, растворялись в небе.
Налет на этот аэродром был повторен еще раз.
Мы начали переходить в воздухе от оборонительных действий к активным, наступательным.
Уничтожение авиации противника на его аэродромах – один из самых надежных способов завоевания господства в воздухе. Опыт показал, что при хорошей организации такие действия могут проходить почти без потерь, так как самолеты противника на земле беспомощны, как рыба, выброшенная на сушу. Потом всем известно, что большую часть времени самолеты проводят все-таки на базах и застигнуть их там вероятнее всего.
3
По возвращении из госпиталя мне пришлось сразу включиться в интенсивную боевую работу, делать в день по 5 – 8 вылетов.
Поврежденный позвоночник, напоминавший о себе даже при незначительных нагрузках, не давал покоя. В воздухе, в горячке боя, это замечалось не всегда, но на земле, когда вылезал из кабины, иногда становилось до того плохо, что кружилась голова. Частенько, не отходя от самолета, я ложился на землю и в полузабытьи дремал, а отдышавшись, решал про себя: попрошу на пару дней освобождение от полетов. Но обстановка оказалась очень напряженной, и я не мог себе позволить оторваться от боевой жизни; продолжал летать, рассчитывая отдохнуть, когда наступит затишье.
Кроме того, я видел, понимал и чувствовал, что за время перерыва многое утратил…
Несколько встреч с противником помогли наверстать упущенное, восстановить прежние навыки. Я снова стал быстро и правильно оценивать обстановку в воздушных боях. Все мои надежды покоились на твердой вере в то, что и здоровье тоже скоро окрепнет. Усиленной тренировкой я старался добиться нормального самочувствия. Но этого как раз и не получилось. Моя настойчивость оказалась выше физических возможностей, и это незаметно подрывало здоровье: постоянное перенапряжение приводило к постепенному упадку сил. Как и у большинства летчиков, профессиональное самолюбие мое было сильно развито, и я не хотел в глазах товарищей выглядеть слабым, невыносливым. На свои головокружения и слабость я никому не жаловался. Врач же, обязанный знать особенности психологии летчиков, не обращал на меня внимания, считая, по-видимому, что, раз жалоб нет, значит, все в порядке.
И вот однажды, когда я, усталый, растянулся под крылом своего самолета, на стоянке появился врач, приехавший из штаба полка. Он направлялся прямо ко мне. Я испугался. Мне вдруг пришло в голову, что он что-то узнал о заключении, сделанном в госпитале. В напряженном молчании ожидал начала разговора. К счастью, подозрения не подтвердились: врач, оказывается, приехал по настоянию Трубаченко. Василий Петрович заметил, что я стал необычно быстро утомляться, и советовал мне делать, пока не втянусь, не более 3 – 4 вылетов в день. Я не соглашался. Тогда он обратился к врачу.
Врач прослушал меня и осмотрел. О поврежденном позвоночнике ничего, конечно, не узнал, но все же посоветовал летать поменьше.
Наш разговор закончился как раз к тому моменту, когда эскадрилья была поднята на штурмовку железнодорожных эшелонов, только что пришедших на станцию Халун-Аршан.
Эта станция, в шестидесяти километрах от района боевых действий, была для японцев самым близким пунктом разгрузки. Наше командование держало ее под постоянным воздействием авиации. Кроме бомбардировщиков, для этой цели привлекались и истребители, в том числе и наша эскадрилья, укомплектованная И-16 с пушечным вооружением. Чтобы скрыть сосредоточение войск и избежать лишних потерь, японцы подавали эшелоны и производили выгрузку, как правило, только ночью. На сей раз они поспешили с доставкой и были засечены воздушными разведчиками. Но своевременно захватить эшелоны на выгрузке могли только истребители.
Около пятидесяти километров маршрута пролегало над безжизненными горами Большого Хингана, среди которых и находилась станция. Горы начинались холмистыми отрогами и постепенно переходили в отвесные скалы. Своими блестевшими на солнце вершинами и затененными впадинами они походили с воздуха на застывшие морские волны с белесыми гребешками, способными в любой момент поглотить летчика вместе с самолетом. Нам уже приходилось летать над этими хребтами и всякий раз, едва почудится в гуле мотора фальшивая нота, невольно цепенеешь, застываешь и весь обращаешься в слух. Ровное, чистое металлическое гудение успокаивает; с облегчением вздохнешь и снова начнешь с настороженным любопытством рассматривать плывущие под тобой островерхие громады.
…Кругом только горы и горы. Но вот вдали появляется странная темная полоса; она быстро растет, расширяется, словно гигантский плуг раздвинул угрюмые склоны, и в этой извилистой борозде с растрескавшимися ущельями и оказалась железнодорожная станция.
Рыжие черепичные крыши пристанционных построек. Тонкая нить железной дороги едва заметна. На ней дымит товарный состав. Другой эшелон стоит под выгрузкой.
Василий Петрович, возглавляя девятку, довернул на приближающийся поезд. Летчики другой группы, продолжая полет по прямой, напряженно следили за воздухом – нет ли в небе японских истребителей. В то же время они ждали, когда заговорят укрытые на склонах гор зенитные точки. Нужно не прозевать самый момент открытия огня, чтобы тут же подавить его снарядами и пулями. Вот блеснули внизу светлые языки пламени… Зенитная артиллерия установлена здесь стационарно и бьет довольно точно. Когда мы в последний раз налетали на станцию, зенитки ударили прямо под строй эскадрильи. На этот раз они начали бить заградительным огнем: очевидно, не хватило выдержки, не утерпели, сами раскрыли себя раньше времени.
Девятка, специально выделенная для борьбы с зенитками, без промедления обрушилась на батареи, а ведущая пошла в атаку на поезд.
Трубаченко пикировал под крутым углом, скорость нарастала довольно быстро. Как и в предыдущих штурмовках, оказавшись на дистанции прицельного огня, я дал по поезду несколько длинных очередей и круто начал выходить из пикирования… Земля, горы, вагоны – все разом исчезло. Темень и боль накрыли меня. Сознавая, что это от перегрузки, я ослабил, слегка отпустил ручку управления. Вместе с тем это грозило и опасностью: не успеешь вывести самолет, догонишь свои пули и снаряды в земле. Снова тяну ручку на себя и, ничего не видя, управляю самолетом по чутью. В глазах – свет: мой самолет с огромным креном неуклюже проносится над крышами товарняка… Успев выхватить машину из пикирования, я уже не взмываю ракетой ввысь за командиром, а очень плавно, совсем не по-истребительски перехожу в набор высоты. Настроение резко упало, стало ясно, что дальше летать невозможно; выбился из сил, вконец ослаб, нужен немедленный отдых. «Хорошо, хоть заход был не на гору, а то бы…» Со злостью на себя, что так раскис – и где? над целью! – крепко сжал ручку управления, двинул сектор газа до отказа; увеличил скорость, догнал Василия Петровича.
В момент разворота на повторный заход все ущелье было видно очень хорошо. Разрывы зенитных снарядов покрыли станцию барашковой папахой, из-под которой вылетали истребители. Вслед им, уже не так стройно, как при первом залпе, выстраивались черные разрывы. Состав, находившийся в пути, остановился. Паровоз окутался белым облаком пара, из вагонов выскакивали люди, посередине эшелона, освещая затененные склоны гор, пылали вагоны.
Зенитный огонь заметно ослаб, и группа, выделенная для его подавления, пошла на второй эшелон, а Трубаченко повел свою девятку уже на горящий. В этот момент одна из батарей противника «ожила» и ударила прямо нам навстречу. Василий Петрович довернулся и сквозь разрывы ринулся на нее. На этот раз заход был в сторону высокой горы, и я, как ни храбрился, трезво рассудил, что круто выхватывать машину не в моих силах; пошел вслед за командиром под небольшим уголком.
Отстрелявшись, я так же полого пошел вверх, намереваясь спокойно перевалить через гору. К моему удивлению, гора начала быстро расти в размерах. Чтобы снова не создать больших перегрузок, которых я уже не мог выдержать, пришлось осторожно увеличить угол набора. Самолет, как бы прижимаясь к склону горы, вползал на нее. Впереди открылась прежняя панорама – нагромождение волнистых гор Большого Хингана, через которые предстоит обратный путь.
На западе, в той стороне, где был наш аэродром, скрывалось солнце. Вдруг что-то с треском блеснуло в глазах, и меня, как пушинку, швырнуло кверху. «Неужели зацепил за вершину?» Но это был зенитный снаряд, пущенный японскими артиллеристами по верхушке горы, очевидно служившей пристрелочной точкой. Мой самолет как раз оказался над ней, и вражеские зенитчики не упустили момента.
Машина, поставленная взрывом на дыбы, судорожно затряслась и, потеряв скорость, на какой-то момент застыла, готовая рухнуть на скалы. Чтобы не свалиться, я отдал ручку «от себя» и двинул вперед до упора сектор управления мощностью мотора, который захлебнулся, страшно зачихал. К счастью, он продолжал тянуть, но только с меньшей силой.. Самолет опустил нос и провалился, набирая скорость. В горизонтальное положение он уже вышел в другом ущелье, за горой, что и спасло меня от прицельных залпов японских зенитчиков и удара о скалы.
Мотор сильно трясло. Я попытался уменьшить обороты, но он чуть было совсем не заглох. Стало ясно – мотор поврежден. В нем заключалась моя жизнь, и все теперь подчинилось его неровному, задыхающемуся гудению. Ничего другого на свете, кроме него, не существовало. Вот уж, действительно, когда летчик и мотор сливаются воедино. Нет, не воедино – господствовал мотор! Я себя позабыл и видел, и чувствовал пульс жизни только в механических силах, которые нехотя потащили меня из гор, где возможна гибель, но не посадка…
Из разбитого цилиндра начало выбивать масло, его брызги втягивало в кабину. Через одну – две минуты полета прозрачный козырек, предохраняющий от встречного потока воздуха, весь был залит маслом. Чтобы смотреть вперед, пришлось голову высовывать за борт кабины, отчего стекла летных очков, и без того уже помутневшие от масляной эмульсии, сразу потемнели. Сначала я пробовал протирать их руками, но масло делало стекла темно-матовыми, прозрачность их не улучшалась. Тогда я сбросил очки, рассчитывая, что буду продолжать полет и без них. Едва сделав это, я почувствовал, как горячая липкая жидкость залепляет глаза. Попытка протереть глаза не удалась, потому что перчатки также были испачканы маслом; все передо мной окончательно заволокло, пилотировать самолет стало невозможно: черный непроглядный туман окружил со всех сторон.
Выпрыгнуть на парашюте!
Я торопливо снял перчатки, чтобы удобнее было отстегнуть привязные ремни и опираться о борта кабины при отталкивании от самолета. Ударил по замку – привязные ремни распались. Поднял ногу на сиденье, готовый к прыжку… А позвоночник?! Ведь для меня прыжок – самоубийство!
Как быть? Очень живо представил себе, что, если даже спуск на парашюте окажется благополучным, все равно очень мало шансов выбраться из этих гор. И при мысли, что мне никак, ни при каких условиях нельзя покидать самолет, я испытал какое-то облегчение. Есть единственный выход – лететь!
Голыми, еще не очень грязными от масла руками протер глаза, увидел, что самолет с большим креном идет на снижение. Выправляя его и защищаясь от масла, я приподнялся над кабиной. Встречный поток обдал лицо. Голову, оказавшуюся выше козырька, обдувало чистым воздухом, масло уже не било в лицо… у меня не было другого чувства, кроме ожидания, которое длилось пятнадцать минут, пока я висел над ощетинившимися в своем страшном спокойствии скалами Большого Хингана: вот-вот остановится винт, и я встречусь с ними… А мой спаситель – мотор с жалобным стоном, плача гарью и маслом, тянул меня и тянул, пока внизу не показалась равнина, не появился родной аэродром.
Твердо стою на земле. Беда миновала.
В своих порывах в воздухе впредь следует быть более рассудительным. Смотрю на багрово-красную зарю.
Хорошо бы завтра ненастье – отдохну!
4
Но погода стояла хорошая, и еще до обеда я сделал три вылета. В четвертый раз готовился пойти на разведку звеном.
Взлетали мы, как всегда, прямо со стоянки. На этот раз дул неустойчивый ветер слева. Сигнальный флаг у командного пункта при отдельных порывах вытягивался и туго трепетал, скорость ветра достигала десяти, а может, и больше метров в секунду. И я подумал: не мешало бы перерулить, чтобы встать для взлета строго против ветра. Но когда командир ставил задачу, об этом ничего не сказал. Меня же какой-то ложный стыд удержал высказать эту разумную предосторожность. «Взлечу, как и все».
И вот взлет.
Это один из самых ответственных моментов полета. Он длится каких-то 10 – 15 секунд и требует от летчика полного внимания. Мотор работает на всю свою мощность; его металлические силы бульдожьей хваткой вцепляются в каждую частицу самолета, в каждую твою клеточку и тащат вперед с такой бешеной скоростью, что тебя прижимает к стенке сиденья и вырывает из рук управление. Машина вся судорожно трясется. Рев мотора бьет в барабанные перепонки, струи воздуха врываются в кабину и слепят глаза. А ты, глядя только на нос самолета и горизонт, должен выдержать прямую, как луч, линию разбега и, не видя под собой мелькающей земли, только одним чутьем, без приборов, точно определить скорость и в зависимости от нее пилотировать машину, чтобы она плавно, незаметно оторвалась от земли и ушла в воздух. В этом искусство взлета. Стоит допустить ошибку – не выдержать прямую на разбеге, больше или меньше положенного поднять хвост машины, раньше времени ее отделить от земли – и произойдет ничем не поправимая неприятность.
Я дал газ.
При боковом ветре не следует преждевременно поднимать хвост самолета, и в начале разбега я прочно удерживал ручку «на себя». Но вот меня повело влево. Разворот парировал ногой, борясь с ветром, точно с живым существом. А ветер, действительно, как живой, в этот день капризничал. Когда я попал на неровную землю, самолет подпрыгнул и грубо ударился хвостом. Толчки болезненно передались на мою спину. В глазах потоки искр! На какой-то миг я потерял горизонт. Это очень опасно, очень! Стараясь придать самолету устойчивость разбега, машинально отдал ручку «от себя». Машина уже не прыгала, и я снова увидел горизонт, его резал влево капот мотора. Страшная мысль сверкнула в голове – самолет в развороте. Я сунул до отказа ногу, но машина не послушалась и продолжала норовистое движение, мотор ревел и тянул меня к гибели. Чтобы не сгореть, нужно было немедленно убрать газ и прекратить взлет. И может быть, все закончилось бы благополучно, если бы не мое оцепенение…
Я с бешеным упорством пытался прекратить разворот, хотя сделать это было уже не в моих силах. Момент был упущен, и самолет, получив инерцию вращения, подгоняемый боковым ветром, все больше и больше уходил влево.
Привычка – вторая натура. И у летчика установившийся порядок действия подчас доходит до автоматизма; сознание становится как бы подчинено рефлексам. Так и я, чувствуя опасные движения самолета, боролся с разворотом, боролся по привычке, ничего не предпринимая, тогда как где-то в глубине постукивала разумная мысль: «Убери газ и прекрати взлет». Только когда перед глазами встала картина неотвратимой катастрофы, я понял весь ужас положения, но было уже поздно. Чужие, необузданные силы выхватили у меня власть над машиной.
Они, подобно ненасытным хищникам, разрывали самолет. Меня юзом потащило вправо, накренило… Послы шалея треск, удар…
Чувствуя, как самолет осел и намеревается перевалиться через нос, я бросил управление (теперь уже оно было бесполезно), а чтобы при капоте не снесло голову, утопил ее вниз и обеими руками крепко ухватился за кабину. Немного меня еще потрясло, потом все замерло.
Через какое-то мгновение я понял, что самолет не перевернулся, и поднял голову: машина подломила шасси и сидела на животе, правое крыло смято, лопасти винта, рывшие землю, изогнуты… Авария?
Щемящая боль, досада, ужас охватили меня Чередой пронесся печальный вихрь мыслей. Вспомнился госпиталь, заключение комиссии о непригодности к летной службе, последние мучительные полеты… Отлетался. Зачем было скрывать свою болезнь? В авиации нельзя шутить со здоровьем. О том, что сам остался на волоске от смерти, об этом и не подумал. Я без всякого движения, как парализованный, сидел в кабине.
…Кто-то меня трясет за плечо, что-то говорит. Спокойно поворачиваюсь – Васильев. Он с озабоченным и тревожным лицом спрашивает:
– Что случилось?
Над нами, точно с плачущим ревом, проносится пара истребителей. Это разведчики, посмотрев, что стряслось со мной, пошли к линии фронта. Я на них смотрю как во сне, они для меня стали далекими, недосягаемыми. Васильев опять что-то говорит, но я его не слышу. Он, наконец, не выдерживает, сам отстегивает привязные ремни и пытается поднять из кабины мое вялое тело. Таким же вялым безразличным движением руки я отстраняю его:
– Не надо.
– Вы же побились, у вас все лицо в крови!
Боли я никакой не чувствую. Удивительное спокойное безразличие вселилось в душу, словно я отделился от всего мира Снимаю перчатки и кладу их за фонарь, отвязываюсь и, оставив парашют на сиденье, медленно вылезаю из кабины.
– Что случилось? – спрашивает подбежавший старший техник эскадрильи Табелов. По его голосу и лицу нельзя сразу понять, что же его интересует, неисправность самолета или мое состояние.
– Не удержал направление, просто не справился со взлетом – тихо проговорил я.
Я заметил, что Табелову стало неловко за меня, и он несколько секунд в нерешительности молчал. Потом, видно, решив, что причина тяжелого происшествия ясна (виноват летчик), сочувственно произнес:
– Ой, вы все лицо разбили!
– Да?
Я руками ощупал лоб, щеки и только сейчас вспомнил, что ударился головой о прицел. Раздавленные очки все еще находились на глазах. Осколки стекол впились в кожу, переносица разрезана, кровь обильно текла по шее, капала на гимнастерку.
– Заживет, – сбрасывая очки на землю, ответил я, начиная понимать и ощущать, как мне неудобно смотреть в лица прибежавшим людям.
Подоспел врач и тут же начал обрабатывать поврежденные места. Я сидел на крыле сломанной машины, подавленный случившимся. Мне казалось, что все смотрят на меня с укором, осуждающе. Стыд, позор! В голову назойливо лезли госпитальные мысли: «Рискну. Разобьюсь – один в ответе». Ну вот и достукался – самолет разбит, а он, наверное, стоит не меньше четверти миллиона. Теперь надо отвечать! Ну что ж, отвечу, один отвечу! И скидки ни на что не попрошу: заслужил.
Эта жестокая безжалостность к себе, так свойственная в первые минуты летного происшествия каждому летчику, где-то в глубине души подняла естественные, хотя и робкие нотки самозащиты: «Ведь ты этого не хотел, получилось случайно… А потом, ты ведь уже после госпиталя летал, много японцев отправил на тот свет, сбил самолет противника – все это командование должно учесть».
– Готово, – раздался голос врача, наложившего пластырные заплаты на моем лице. – Денька три не полетаете, и все заживет.
Я встал с крыла. Собравшиеся техники уже готовились поднять самолет и отвести его на стоянку. Вид разбитой машины и озабоченно работающих около нее людей разом придавили все появившиеся во мне оправдательные надежды: «Виновник всему этому только я».
На следующий день проснулся поздно. Выспавшийся, отдохнувший, – очевидно, порядочная доза забайкальского спирта, принятого накануне, сыграла в этом свою успокоительно-лекарственную роль – я чувствовал себя физически крепким, почти здоровым. Вчерашнее происшествие, конечно, угнетало, но оно уже потеряло свою остроту, притупилось. Особенно обрадовало меня сообщение Табелова, что у самолета только поломка и к вечеру машина будет введена в строй. Все это вселило в меня уверенность. Вчерашняя решимость, так остро вспыхнувшая, – уйти с летной работы, поколебалась. Я просто выдохся и должен отдохнуть. Теперь же, пока не заживет лицо, все равно летать нельзя. В несчастье была и полезная сторона.
Меня вызвал комиссар полка старший политрук Калачев. Трубаченко подбадривал:
– Ничего, не бойся! Больше выговора не дадут.
Василий Петрович не мог знать, какие мысли кипели во мне. Сказать истинную причину поломки – больше никогда не управлять истребителем. Скрыть?..
И вот я в юрте, на полковом КП, стою перед командиром и комиссаром полка.
Кравченко сидит за столом и, слушая мой рассказ, молчит. Калачев сердит, глаза горят злым огоньком. Невысокий, складный, он беспокойно движется по юрте.
– Как это ты, комиссар, мог поломать самолет?.. Проявил явную недисциплинированность! Ты не можешь быть больше комиссаром!
Я заикнулся насчет ветра и неровности взлетной площадки. Он же только махнул рукой, не дав мне закончить мысль.
– Все взлетели, ветер никому не помешал! Плохому танцору всегда что-нибудь мешает… Оправдываешься? Не хочешь признать свою вину?
«Плохому танцору… Зачем он так говорит?» – подумал я. И вдруг до меня дошло: если я скажу насчет повреждения позвоночника, то никто сейчас не поверит, да еще после таких моих напряженных полетов… Сочтут, что я испугался и не хочу больше летать. Каким жалким предстану я перед этими мужественными людьми. Нет! Нет и нет!.. Этого сейчас говорить нельзя – лучше когда-нибудь позднее.
А Калачев все в том жетоне продолжал:
– Комиссар примером должен воспитывать людей. В этом и сила комиссаров-летчиков! А ты?
– Он воевал хорошо, – заметил Кравченко. – Летал неплохо, допущен до инструкторской работы на УТИ-4 и вывозил своих летчиков.
– Тем хуже для него! – подхватил Калачев. – Самоуспокоился! Переоценил свои силы…
– Виноват! Сломал самолет – накажите… Но только без лишних слов! – вырвалось у меня.
В свой голос я вложил, пожалуй, больше силы, чем дозволено подчиненному при подобных объяснениях. Калачев замолчал и, к моему удивлению, улыбнулся. Лицо подобрело, и он, подсев к Кравченко, внимательно глядя на меня, мягко сказал:
– Вот это деловой ответ. Тебе он больше подходит. – И, указывая на свободный стул, предложил: – А теперь давай все выкладывай о своем здоровье.
«Что это значит?» – подумал я.
Калачев посмотрел на Кравченко и, обменявшись с ним взглядом, ответил на мой безмолвный вопрос:
– Не думай, что нам ничего не известно из госпиталя.
В первый момент я опешил от этих слов, испугался, и у меня вырвалось:
– Все-е-е?..
Они оба засмеялись. Кравченко сказал:
– Воевать тебе мы не можем запретить, но и самолеты бить не позволим.
Глядя на них, я понял, что они знают заключение врачебной комиссии, но от полетов меня не отстранят. Они-то меня понимают!
Уезжая к себе, я видел, как полк во главе с командиром и комиссаром собрался в большую группу и строем клина эскадрилий, машин этак в девяносто (силища, какой еще не бывало!), пошел к линии фронта. Провожая строй, я уже твердо верил, что буду летать. Пускай накажут, снимут с должности – все переживу, но летать буду, а теперь даже обязан!
Вынужденный отдых все-таки обошелся мне дешево. Могло быть и значительно хуже. …А могло и ничего не быть… Ну что ж, кабы знать, где упасть, соломки постлал бы!
5
С конца июля действия нашей авиации приобрели явно выраженный наступательный характер. Мы все чаще и чаще наносили удары по вражеским аэродромам. Противник, усиливаясь численно, оказывал жесточайшее сопротивление, не допуская, чтобы инициатива в воздухе окончательно перешла в наши руки. Воздушные бои с обеих сторон приобрели особенно упорный характер. Истребители действовали с полным напряжением сил.
В один из вечеров к нам приехал Маршал Монгольской Народной Республики Чойбалсан.
Встреча с маршалом состоялась в большой полевой палатке на аэродроме 22-го истребительного полка. Свыше ста летчиков разместились за столами, составленными буквой «П». Электрический свет от движка, тарахтевшего рядом, празднично освещал собравшихся.
– В тесноте, да не в обиде, можно жить, – усаживаясь со мной, негромко говорил Василий Васильевич, не желая, видимо, привлекать к себе внимание старших начальников, разместившихся впереди. Он занимал теперь должность командира звена в другой эскадрилье полка, воевал неплохо, но «срывы» по-прежнему случались… Мы давно с ним не виделись и очень обрадовались встрече.
– Вон мой комэска, – Василий Васильевич почтительно указал на старшего лейтенанта, сидевшего напротив.
Это был Виталий Федорович Скобарихин. Недавно он первым из советских летчиков совершил таран. Весть об этом подвиге, как в свое время и поступке Грицевца, мгновенно облетела весь фронт.
20 июля командир эскадрильи Виталий Скобарихин вылетел на прикрытие наземных войск. От степных пожаров в воздухе стояла густая дымка. По небу плыли высокие кучевые облака. Это настораживало: бомбардировщики противника могли подойти скрытно к позициям наших войск.
Виталий вел девятку под облаками на высоте 3500 метров и не спускал глаз с просветов, откуда в любую минуту могли вывалиться вражеские самолеты. Командир не ошибся, Скоро И-97 мелькнули в окнах облачности.
Атака противника не застала врасплох наших истребителей. Завязался бой. Летчик Вусс, совершавший первый боевой вылет, сразу же отстал от группы. Японцы не замедлили воспользоваться этим. Пара И-97 бросилась к одиночному самолету.
Скобарихин сразу оценил обстановку: «Вусс, очевидно, не видит противника и летит по прямой». Виталий, не теряя ни секунды, развернул свою машину навстречу нападающим. Один из японцев уже сидел близко у Вусса в хвосте. Еще секунда промедления, и он срежет Вусса. Требовалось немедленно атаковать противника почти в лоб. «Но ведь при лобовой атаке очень трудно сбить самолет?» Это понимал Скобарихин. А сбить нужно, и обязательно с первой атаки, иначе будет поздно. Он также прекрасно знал, если пули и достигнут вражеской машины, то летчику они вряд ли принесут вред: спереди он защищен мотором. И решение пришло: «Если не собью, не отгоню, то самолетом ударю, а своего летчика выручу!» Он знал, что после удара от обоих самолетов может остаться только пыль, да на какой-то миг в воздухе сверкнут огненным шаром брызги бензина. Но решения не изменил. Он так стремительно и упорно помчался на врага, словно от этого зависела его собственная жизнь. А судьей для него в этот миг стала собственная совесть.
Пули с И-16, оставляя разноцветный след, струями мелькали вокруг японца. Враг, то ли зная, что на встречных курсах он почти неуязвим, то ли рассчитывая, что Скобарихин отвернет, не делал никакой попытки прекратить атаку. Словом, не обращая внимания на встречный огонь, японец не выпускал намеченную жертву и лишь в последнее мгновение понял, на что идет советский истребитель. Японец хотел увернуться и избежать столкновения, но было уже поздно: Виталий своим самолетом пропорол ему фюзеляж…
И-97 вспыхнул и рассыпался на кусочки.
От оглушительного удара Скобарихин потерял сознание. Самолет беспорядочно падал. И только придя в себя, Виталий сумел дотянуть до аэродрома, на котором производила посадку его эскадрилья, возвратившаяся из боя. Командир на изуродованной машине мог сесть с ходу, но не сделал этого. Вися, что называется, на волоске от смерти, он и здесь в первую очередь думал не о себе, а о товарищах. Опасаясь, что самолет при касании о землю рассыплется и помешает посадке другим летчикам, он отошел подальше от полосы и кое-как прикорнул в степи.
Со Скобарихиным я встречался и ранее, до этого случая. И что прежде всего в нем замечал? Задушевность и подкупающую простоту. Виталий Федорович небольшого роста, русоволосый, с очень типичным русским лицом, не производил впечатления богатыря. И как-то трудно было подумать, что именно этот человек обладает таким выдающимся мужеством. А после тарана он стал более понятным и близким, словно я заглянул в душу к нему.
Народная мудрость хотя и гласит, что человека познать, нужно с ним пуд соли съесть, но, видно, и без соли, за каких-то несколько секунд человек может раскрыться во всей своей душевной полноте.
Когда побываешь не раз в воздушных боях, легче разбираться в психологии их участников. Поступки летчиков становятся до ощутимости объяснимыми. Вот почему в блеске светлых глаз Виталия Федоровича, в его чистой улыбке и в уравновешенных движениях теперь особенно чувствовалась спокойная внутренняя сила, решимость, так свойственная скромным и смелым людям.
Глядя на Скобарихина, я вспомнил два случая, происшедшие с японскими летчиками-смертниками. Хоть они и набрасывались на наши строи, но не таранили, предпочитая только продемонстрировать свое намерение. А ведь японцы эти специально для тарана готовили себя еще в мирное время, и кажется, получив приказ, должны бы и выполнить его.
Эти примеры раскрыли для меня душу летчиков иного мира, того мира, где человек человеку волк. .
– Что так уставился на него? – уловив, как я внимательно смотрю на Скобарихина, перебил меня Василий Васильевич. – И, не ожидая ответа, продолжал: – Силен, силен, Виталий!.. Ничего не скажешь. Только вот не пьет и меня сдерживает. Из-за этого ругаемся. А так: душа-человек!
– Ты после тарана видел его самолет? – спросил я.
– Конечно! Видел, как техники из крыла выдирали пол-колеса от японского истребителя. Очевидно, Скобарихин ударил левым крылом японца прямо по пузу. Вот и привез вещественное доказательство!.. Сначала даже сам Кравченко усомнился в таране… Шутишь ты, на встречных курсах врезаться – и живым остаться?! Чудо! Признаться, я тоже не верил, думал, что он случайно столкнулся, но Вусс все подтвердил… Вот какой наш Скобарихин!
– А как сейчас он себя чувствует?
– Ничего. Только, наверно, в животе что-то повредил, сильно побаливает. При таране он порвал привязные ремни… Ты знаешь, ремни с палец толщиной. А сейчас Виталий даже шутит… Говорит, что если бы погиб, то счет был бы равным – один к одному. Так что государственного проигрыша все равно бы не было…
Мы немного потеснились: рядом усаживался Красноюрченко. Василий Васильевич, бурно здороваясь с ним, спросил:
– Это что у тебя с глазами?
– От перегрузок.
В тот день Иван Иванович провел поединок с японским асом. И-16 в его руках оказался маневреннее японского истребителя, и японец врезался в землю. Победа далась, однако, нелегко: глаза Красноюрченко налились кровью, долго кровоточил нос…








