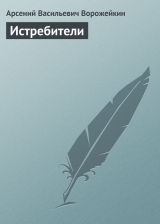
Текст книги "Истребители"
Автор книги: Арсений Ворожейкин
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
Широкое, красное лицо командира было растерянным и виноватым, но без тени уныния. Оно как бы говорило: «Ну что ж, ошибся, с кем этого не бывает!» Однако я видел, что в глазах людей он начинает терять уважение не только как человек, но и как летчик. От общего внимания не ускользнуло, что Василий Васильевич, чувствуя за собой вину, все разговоры со штабом полка, все щекотливые телефонные объяснения по поводу минувшего боя поручил адъютанту и, стоя рядом, внимательно слушал его ответы.
Наконец волна возбуждения спала.
Василий Васильевич дал указание всем разойтись по самолетам. Мы остались вдвоем. Сдерживая себя, я стал говорить как можно спокойней о перипетиях прошедшего боя. Командир слушал меня с большим вниманием и заметил:
– Хорошо хоть, что у нас никто не погиб.
– Но ведь из-за тебя и в бою многие не участвовали! Гонялся как угорелый, всю эскадрилью рассыпал…
– Грешен: не мог различить японцев… Стрела эта… с гулькин нос. Разве ее с высоты заметишь?..
Эта ложь, словно он с маленьким разговаривает, меня возмутила.
– Ты себя не оправдывай, не поможет. Я-то знаю, в чем причина!..
– Не рассчитывал, что будет вылет, – удрученно сказал Василий Васильевич. – Да и немного принял… Грамм сто двадцать…
– Брось пить, все пойдет нормально!
– Хочу… Да как-то все не получается, комиссар… Своей откровенностью, бесхитростным прямодушием он разоружал меня.
– Но ведь ты же долго держался… Почему теперь не можешь? Попытайся.
– Попробую! – не то чтобы твердо, а как-то напряженно, с гримасой боли, произнес Василий Васильевич. – Разбора боя я делать не буду. Ты воевал, ты и делай.
– Так дело не пойдет. Ты командир, ты повел эскадрилью в бой, ты и должен разобрать весь этот вылет.
– И свою пьянку?
– Зачем? Я считаю, пьянку мы уже обсудили, можно и не повторяться. А остальное следует разобрать подробно. Основной недостаток – твоя плохая осмотрительность и горячность. Так прямо и скажи.
Василий Васильевич вскинул свою крупную голову, пронзил меня глазами, но возражать не стал.
– Будет урок для всех, – продолжал я. – Командиры звеньев тоже допустили ошибки: старались не отстать от тебя и растянули строй. А им бы лучше немного приотстать, да звенья сохранить. И вообще, все мы плохо смотрели за воздухом. Надо напомнить летному составу об изучении района, а то вот многие не нашли своего аэродрома
– Хорошо! Давай проведем разбор, – сказал командир. – Все!
Если уж он сказал «Все!», дальше разговаривать с ним невозможно, это я знал хорошо.
До моего прибытия в эскадрилью обязанности комиссара более полугода исполнял Иван Иванович Красноюрченко; он хорошо знал всех летчиков, командира, я с ним часто советовался. На этот раз Красноюрченко высказался с полной категоричностью:
– Гнать нужно таких командиров. Не то по его пьяной милости не одна еще голова пропадет…
Первые мгновения боя, до сих пор как-то еще не прояснившиеся, ускользавшие, вдруг необычайно ярко встали в памяти. «Японцев не видит!» – повторил я, только сейчас до конца постигая жестокий, беспощадный трагизм этого простого, все определяющего обстоятельства. И вот как оборачивается упоение талантом, когда его считают самоценным «божьим даром». «Блестящие» способности! Они тоже оказываются пустоцветом, если твердая воля и ясный разум не могут владеть ими, не прикладывают к тому главному, ради чего они существуют…
Новые нормы отношений, новая мерка человека начинала складываться в сознании, опаленном боем. Жалкими, пустыми показались мне недавние сомнения насчет того, вправе ли я на боевом аэродроме проявить нетерпимость к слабости товарища… Да, я обязан это сделать – во имя многих жизней и победы.
4
Если бы на какой-то срок от всего отойти, замедлить дальнейшие события, чтобы сосредоточиться на происшедшем час назад!.. Но я снова возле самолета. Крыло бросало на светлые чехлы короткую, узкую тень, целиком укрыться в ней не удавалось – ноги припекало солнцем. Васильев латал пробоины. Методически передвигаясь, он покончил с моторным капотом и занимался правой плоскостью. Оставался хвост и левое крыло. Когда следующий вылет – неизвестно, возможно, и успеет…
Я лежал на спине, закрыв глаза, охваченный досадой, радостью, недоумением.
Первая схватка с противником, первый бой – и я подбит!
Враг, конечно, силен и хитер, но все же – в этом я был убежден – событиям надлежало развиваться так, что все уловки его мы вовремя разглядим, все случайности предусмотрим и выйдем из боя победителями.
О том, что меня самого могут сбить, я всерьез не думал; такое положение было чуждо моему сознанию; мыслей о самозащите в голове попросту не водилось. С какой бы стороны к воздушному бою ни подходил, я видел себя только нападающим. Точнее говоря, это как раз и была та единственная ситуация, которую умело и охотнее всего создавало воображение.
Такой склад мышления был свойствен и большинству моих товарищей, необстрелянных летчиков. Ведь молодость, думая о жизни, всегда придает своим взглядам активный, наступательный характер. А если иной раз мне и приходила на ум черная смерть, то выступала она как предмет раздумий, лично ко мне не относящийся…
О своей гибели я мог думать только как о героической, громкой, торжественной, что ли; о ней будут знать не только моя жена, мать, живущая в глухой лесной деревушке Прокофьево, Горьковской области, но и вся страна!..
С трезвой, отчетливой ясностью представил я, как мог сегодня, абсолютно никем не замеченный, оказаться похороненным под обломками своего самолета и вился бы над моими останками дымок, как тянется он сейчас в степи над грудами сплющенного металла… От такой картины ледяные мурашки прошли по спине. Естественный инстинкт боязни смерти, заглушенный нервным напряжением, заговорил только сейчас, в спокойной обстановке… Видно, и у страха фитиль длинный, жжет позднее.
Две ракеты взвились над КП – немедленный вылет всей эскадрильи!
Я вскочил… Но к парашюту не потянулся. Васильев еще не закончил ремонт; на хвосте и левой плоскости белели пробоины.
Снова опустился на чехлы.
Человек, впервые бухнувшийся в бассейн и ушедший под воду, закрывает глаза. Он ничего не видит, только ощущает. Так и летчик в первом воздушном бою. Он чувствует и схватывает лишь то, с чем непосредственно соприкасается, не проникая вглубь, не охватывая общей картины. А вообще-то говоря, восстановить динамику воздушного сражения, в котором участвовало с обеих сторон более двухсот истребителей, было бы трудно даже очень опытному боевому командиру…
Отдельные мгновения схватки вспыхивали в памяти одно за другим, рождая множество вопросов, но и вопросы эти, и сами отрывочные картины проносились в голове без всякого порядка, вихрем: уж очень все показалось необычным. Я мог приходить в восторг, изумляться, испытывать жгучую горечь и гнев, – анализ событий не давался…
Было уже известно о сегодняшней гибели командира полка майора Глазыкина. Его труп без единой пулевой царапины, но сильно разбитый тупым ударом опустился на парашюте рядом с упавшим самолетом. «Наверно, это был он», – подумал я, вспоминая, как напористый И-16, сбивший двух японских истребителей, вдруг вспыхнул и как летчик, выбросившийся на парашюте, был накрыт во время спуска своим же падающим самолетом… Как жаль, что не удалось рассмотреть номер – уж очень мелкой цифрой он был написан.
Первый бой, первый бой!.. Какой ты бурный, стремительный, опьяняющий! Что главное в тебе? Кажется – все, потому что все памятно и ничего нельзя забыть.
Привязные ремни…
Я снова, но еще острее, глубже переживал отчаянные секунды. Видимо, такие положения в бою, когда летчик короткое время не в состоянии управлять самолетом, могут возникнуть из-за потери сознания, при большой перегрузке или ранении, и тогда неуправляемая машина быстро врежется в землю. Как это предотвратить? Мне пришла мысль сделать так, чтобы самолет, переставший чувствовать летчика, сам набирал высоту. Для этого надо его отрегулировать, чтобы он не сваливался на крыло и всегда имел тенденцию к кабрированию. А как быть с сектором газа? Ведь рычаг управления мотором может оказаться в заднем положении, и мощность сразу упадет… Резинка! Обыкновенная резинка, которая тянула бы сектор газа вперед, выводила бы мотор на полные обороты… Васильев заверил, что сегодня же ночью реализует мою идею…
А таинственная грозность лобовой атаки! Раньше считалось, что она посильна якобы лишь выдающимся воздушным бойцам. Теперь же эта таинственность перестала существовать, хотя никакого определенного мнения относительно места и роли этого приема в тактике воздушного боя у меня, конечно, не сложилось. И на то, что строи и боевые порядки, предусмотренные наставлениями, в бою не соблюдались, я смотрел, как на естественное следствие нашей неопытности, недостаточной тренированности в групповых полетах, не подозревая даже, что тут возможны и другие, более глубокие причины. Наглядным, выразительным образцом самообладания и находчивости стоял передо мной летчик с И-16, расчетливым маневром и короткой очередью сваливший противника в реку, – высокий и очень доходчивый пример мастерства. О таком истребителе я мог думать только одно: «Умница!»
Когда же из рассказов других участников сражения стало известно, что это был не кто иной, как Сергей Иванович Грицевец, мое восхищение этим человеком еще более возросло…
…С нарастающим гулом, очень низко пронеслась над летным полем наша эскадрилья; строй соблюдался безупречно – воздушного боя, значит, не было. Ну а к утру мой самолет будет готов…
Над аэродромом опускались сумерки. Разорвались и погасли зеленые ракеты, возвещая конец первого дня нашей боевой жизни. Люди облегченно вздохнули.
Первый шаг сделан…
Хорошо начать – сделать половину дела.
Я все прислушивался к себе, сопоставляя факты, картины, навсегда запечатлевшиеся… И единственное, о чем мог судить уверенно, касалось не тактики и не техники пилотирования, а одного несомненного, возвышающего душу факта: я стал не таким, каким был еще сегодня утром. Главный итог дня состоял именно в этом. Понюхал пороха в бою, глянул смерти в глаза. Правда, в нашей эскадрилье потерь не было, но двенадцать советских самолетов не вернулись на свои аэродромы. А встреча со смертью накоротке, как быстротечно она ни проходила, опаляет, и человек после такого свидания либо становится крепче, либо сдает, слабеет. Все зависит от того, как он подготовлен к трудному, испытанию.
Анализируя свои впечатления, я должен был допустить, что, возможно, кто-то из летчиков и оробел, почувствовал слабость, растерянность; но когда вся эскадрилья вновь собралась вместе и мы узнали боевой результат дня – уничтожено свыше тридцати самолетов противника! – то радость и сила летного коллектива, сплоченного первым огневым испытанием, вызвали новый прилив бодрости, целебно коснувшийся каждой души.
Как позже выяснилось, в официальном сообщении Квантунской армии об этом бое говорилось: «22 июня около четырех часов дня 105 советских самолетов нелегально пересекли границу около Ганьчжура и были встречены в воздухе восемнадцатью японскими истребителями. В последовавшем бою было сбито 49 вражеских самолетов, в то время как не вернулись на свои базы, из-за отдаленности, 5 японских самолетов. Сюда входит самолет, пилотируемый капитаном Моримото».
Врать так уж врать!
Подвиг
1
Шел пятый день воздушной битвы.
В монгольском небе состоялось уже несколько крупных и мелких схваток. Японцы, имея численное преимущество в истребительной авиации, поднимали в воздух, как правило, крупные группы. Мы с зари до зари не покидали своих кабин. Большинство летчиков эскадрильи получили в течение этих дней боевое крещение, и тот, кто еще не успел сразиться с врагом, уже чувствовал некоторую неловкость перед товарищами. Одни, быстро наращивая боевой опыт, уходили вперед, другие старались от них не отстать. В массе же своей все мы пока походили на птенцов, едва вылетевших из гнезда: уже чувствуется в крылышках упругая, прибывающая сила, но не познана воздушная стихия, где совершаются события; не познаны каждым по-настоящему и свои собственные возможности. Холин, которого я стараюсь не упускать из виду, ждал начала боевых действий нетерпеливо, как никто другой, но после нескольких вылетов сегодня вдруг снова сник. Никаких видимых причин к тому, казалось бы, нет.
Это утро отличалось от минувших только тем, что появилась, наконец, желанная определенность в обстановке. До сего дня перелетать государственную границу и преследовать врага на его территории нам не разрешалось. Сидя в кабинах под палящим солнцем, мы покорно и терпеливо ждали, пока противник первым совершит нападение. В хорошей маневренности японских истребителей мы уже убедились. Наши И-16 превосходили их по скорости, вооружению и прекрасным качествам на пикировании. Недостаток боевого опыта мы могли компенсировать отвагой, дерзостью, неукротимым желанием победить Но, занимая позицию пассивного ожидания, мы не могли сбросить со счета серьезный численный перевес противника, не учитывать того, что японские летчики имели немалый опыт боев в Китае. Это тревожило нас и раздражало. Разговоры о том, что японцы своими полетами хотят спровоцировать войну и мы на эту удочку не должны поддаваться, не могли внести ни успокоения, ни ясности. Каждый летчик видел и на себе испытал, что противник имеет самые решительные намерения, действует с предельной нахальностью. Вряд ли в таких условиях наша оборонительная тактика и выжидательная политика уймут японских агрессоров. В девяносто девяти случаях из ста генералы нападающей стороны истолковывают такое поведение противника как слабость. Их аппетиты, Скорее всего, только разгорятся.
И вот сегодня впервые получен приказ: в случае воздушного боя уничтожать врага на его территории. Это справедливо. Такая перспектива отвечает нашему духу. Но когда девиз, на котором мы воспитаны, перестает быть лестной для самолюбия, горделивой формулой, когда он должен стать обыденной реальностью, то заключенное в нем суровое требование и радует, и пугает Одно дело вступить на землю врага в плотном строю верных товарищей, для которых, как и для тебя, нет интереса более высокого, чем интересы безопасности твоей страны, твоего народа; и совсем другое дело – оказаться на земле противника в полном одиночестве. Для нас, летчиков-истребителей, такая возможность не исключена: ведь в бою каждый может оказаться подбитым.
Только этим и отличалось то июньское утро от других.
Самолет старшего лейтенанта Холина был неисправен, и я подумал, что это даже к лучшему: не годится, когда люди видят, в каком подавленном состоянии поднимается летчик в полет, связанный с пересечением вражеской границы. Мало ли как могут развернуться события! Все эти обстоятельства делали разговор с Холиным совершенно неотложным.
Он сидел неподалеку от штабной палатки, задумчиво попыхивая папироской. Как видно, не брился сегодня. Черная, жесткая щетина, охватившая впалые щеки и маленький злой подбородок, делала землистое лицо еще более изможденным, старила его. При своей щупленькой фигуре, нелюдимый и такой понурый сейчас, он походил на завядший гриб.
Я помнил его жену, высокую, молодую, интересную женщину. Красота ее была яркой, ослепительной, даже пугающей. Она была скромна и застенчива, но в темных глазах угадывались своенравие и страстность Обычно такие женщины с глазу на глаз говорливы, непосредственны и как-то легко, необыкновенно быстро упрощают самые сложные понятия, представления, чувства. Я познакомился и беседовал с нею незадолго до нашего отъезда в Монголию, когда Холин, бывший в эскадрилье на самом хорошем счету, вдруг запил. «Я его не люблю, бывают моменты, он становится мне ненавистным… Мы не дети, вы, конечно, меня понимаете…»
В эскадрилье мало кто знал о семейной трагедии этого маленького, не очень-то общительного человека. Находились охотники пошутить над ним, бросить в его огород камешек…
На третьи сутки после нашего отъезда из Москвы, когда поезд громыхал по сибирской земле, мы очутились с Павлом Александровичем наедине в пыльном тамбуре вагона. На Холина, что называется, нашло, и этот нелюдим вдруг заговорил – сам, без единого моего вопроса. Не отвлекаясь, с каждым словом все глубже и глубже уходя в историю своей любви, где один день не был похож на другой, где мгновения сказочного счастья сменялись приступами таких страданий, что сердце должно было разорваться от боли; утоляя потребность перед кем-то излиться, он говорил без всякой пощады к себе. И тогда мне впервые открылась истинная, сокровенная жизнь этой души, охваченной в острой тоске по жене какой-то отчаянной злобной решимостью… После той исповеди я мог расценивать лишь как заблуждение слова о Холине как о прирожденном истребителе. От рождения этот человек меньше всего был предрасположен к роли воздушного бойца. В этом хилом, тщедушном теле билось нежное, сильное сердце однолюба, охваченное глубокой, если не сказать великой, страстью. Только ради женщины, им боготворимой, добился он перевода из бомбардировочной авиации в истребительную, где можно проявить себя быстрее. Он совершит подвиг, прославится – и она изменится к нему, станет его уважать и не будет от него отворачиваться. Он видел в боевом самолете средство, верный ключ к сердцу этой своенравной женщины, ставшей его женой словно бы для того, чтобы сделаться для него еще недоступней… И он нетерпеливо ждал, когда же, наконец, наступит его час, представится случай показать в бою отвагу, которая всегда очаровывает женщин.
Не много времени надо пробыть на фронтовом аэродроме, чтобы понять, как возрастает здесь людская потребность в товарищеской заботе, в добром, внимательном слове. Но найти, подобрать это слово порой ничуть не легче, чем в условиях гарнизонного быта. Как подступиться к Холину? Такой разговор, как в поезде, уже не повторится. Но и бесследно он, конечно, не прошел.
– Ты слышал, Павел, будем бить врага на его территории, – начал я, чтобы хоть как-то завязать разговор.
– Я и на монгольской не очень-то успел. А дома, говорят, и стены помогают…
Несколько вылетов, в которых он участвовал, проходили под руководством Василия Васильевича и окончились безрезультатно. Это могло породить не только досаду. Как ни скромен был мой личный опыт, но я твердо усвоил, что первые боевые шаги летчика имеют исключительное значение для всей его судьбы. Существует, должно быть, какая-то грань, за которой вылеты без результата, да еще сопровождаемые потерями (а они были), начинают действовать самым отрицательным образом.
– Тяжело? – спросил я.
– Тяжело! – отозвался Холин, с доверием поднимая свои усталые глаза. – Тяжело, товарищ комиссар… Думал, ввязну в драку, себя не пощажу, забудусь… и еще прочтет обо мне в газетке, еще услышит Павла Холина! Я ничего не забываю. Ничего! И вроде все для меня теперь едино, и нет у меня своего личного тыла… А греметь над японской землей или над своей – для меня разницы нет.
– Нет тыла, – заметил я. – А Родина?
– Ро-о-о-дина, – значительно произнес Холин. – И она начинается с семьи…
Я вспомнил свой отъезд, расставание с женой .. Жестокостью было бы говорить сейчас Холину о счастье, которым я владел. Да и не в силах я был передать ему хотя бы сотую долю тепла и нежности, охвативших меня при одной мысли о родном, самом близком мне человеке, проводившем меня в этот путь…
Что говорить, любовь, семья, как и крепкий тыл армии, сообщают бойцу не только уверенность в победе, но и постоянно питают его душевные силы, придают ему энергию, которая так необходима для борьбы…
Сигнал на вылет прервал разговор: нас подняли на подмогу истребителям соседнего полка, завязавшим с японцами бой в районе границы.
Бывает такое состояние, когда человек, прежде чем вступить в холодную воду, весь дрожит; мурашки пробегают по его телу, он колеблется – окунаться или нет? Но вот, собравшись с духом – воды не миновать! – он проявляет решимость, берет себя в руки – и страхов как не бывало. Уж другие чувства владеют им. Так и летчик перед боем. Как только «нырнул» в схватку, и мысли, и воля – все подчиняется борьбе. Летчик как бы забывает себя…
Когда эскадрилья отошла от аэродрома, я с неприязнью глянул на солнце: слепящее, оно могло оказать нам плохую услугу. Загородившись ладонью, я осматривал небосвод. Опасности пока нет. Внизу лежала монгольская степь, но все во мне уже ожидало Халхин-Гола, за которым начнется чужая территория.
Вот и река, окаймленная зеленой поймой, поросшей редким кустарником. Мы – над Маньчжурией. Зловещий холодок прошел по спине, а все, что было внизу, показалось безжизненным, черным – словно под нами расстилалась не земля, кормилица человека, а притаилась сама смерть. Ухо настороженно прослушивает гудение мотора, случись ему остановиться – и можно оказаться внизу… Но песня мотора ровна, стрелки приборов на своих местах.
Диск винта, поблескивая на солнце, точно зеркало, мешает смотреть прямо перед собой. Чуть изменяя направление полета, я отворачиваюсь и от неожиданности вздрагиваю: перед глазами – вспышка. Точно такая, как в первом бою, когда по мне откуда-то сверху ударила очередь. В то же самое мгновение я успеваю понять, что за блеск пулеметного огня мною принят безобидный солнечный зайчик, скользнувший по металлическому винту. Строй не нарушен, я продолжаю занимать свое место справа от командира, наблюдаю за воздухом. Моя задача – не допустить внезапного нападения со стороны японцев.
Нервы натянуты. Глаза шарят по всему небу. Вот появилась еле заметная точка. Враг? Впиваюсь в призрачное маленькое пятнышко, и оно исчезает. Это еще больше настораживает. Солнце мешает, но все же мне удается разглядеть, что там снова что-то маячит. Птица?! Фу ты, проклятая! Я плотнее прижимаюсь к самолету командира. Тот показывает что-то внизу.
На земле двигаются небольшие группы солдат, отдельные машины, видна линия старых окопов… Тлеют черным и белым дымом груды металла, ярко белеют в разных местах шелковистые пятна: воздушный бой закончился, догорают самолеты, валяются парашюты… Сердце сжалось от боли. Ведь среди сбитых на вражеской земле могут быть и наши!
Я отвлекся только на секунду и теперь лихорадочно начинаю осматриваться. Кроме нас, в воздухе никого. Глаз снова, помимо воли, тянется к земле.
Бой кончился. Опоздали. Идем домой.
Предбоевое возбуждение не нашло себе естественного выхода. Волнение, не смытое боем, продолжает теснить грудь. Костры на черной земле стоят перед глазами.
Почему эскадрилья опять не смогла принять участия в бою? Василий Васильевич на этот раз вывел нас быстро и точно в указанный район.
Значит, поздно подняли.
2
Говорят, у доброй славы шаг короче и медленней, чем у плохой.
Может быть, иногда так и бывает. На войне, однако, молва о хороших делах людей, о ратных подвигах разносится с быстротою молнии, о них узнают моментально, как будто сердца бойцов наделены какой-то удивительной способностью пересылать на любые расстояния весть о геройском поступке товарища. Трусость же, как и всякая другая подлость, привлекает к себе внимание, как зловоние, только там, где эта мерзость гнездилась…
Не более десяти минут прошло с того момента, как я зарулил свою машину, а первое, что услышал, появившись на командном пункте, были восторженные слова Василия Васильевича:
– Комиссар! Ты знаешь, что в бою, на который мы сейчас не поспели, был сбит командир полка Забалуев, а майор Грицевец сел на И-16 и вывез его? В Маньчжурии сел, оттуда и вывез!
В первую минуту это известие о беспримерном в истории авиации подвиге произвело на меня ошеломляющее впечатление. Мне показалось вначале, что такой поступок просто невозможен. Разве кто-нибудь имеет право садиться на территории противника? Достаточно какой-то ничтожной случайности – камера лопнет или мотор заглохнет на малом газу, – и отважившийся на такое дело сам может остаться там, на чужой земле! Кто докажет тогда, что он не сдался добровольно в плен, не изменил Родине? Позор падет не только на него, но и на всю семью, на родственников. Допустим, кончится война, его обменяют как военнопленного. Кто же поверит ему, что он сел к врагу, движимый благородными намерениями?!
А потом, – как можно разместить на истребителе второго человека? Где? В кабине? Но в кабину сам едва втискиваешься. Разве что посадить товарища себе на плечи… Но туловище останется торчать, его вырвет из кабины скоростным напором… Да и самолет, пожалуй, не оторвется от земли, мощности мотора не хватит…
– Нет, ты что-то путаешь, – нерешительно проговорил я.
– Да я сам не поверил! – почти кричал Василий Васильевич, – А все, оказывается, кроме нас с тобой, давно уже об этом знают. Солдатский вестник свое дело сделал! Вон, видишь, люди собираются кучками, только об этом и говорят…
Я поспешил к телефону, попросил к аппарату комиссара полка. Тот, называя Забалуева «первым», Грицевца «семеркой», прибегая к другим средствам довольно прозрачного кода, подтвердил необычайную новость. Прибывший представитель политотдела ВВС посоветовал тут же провести митинг. Это как нельзя лучше отвечало состоянию, охватившему нас. Но все экипажи эскадрильи несли дежурство – в любую минуту мог прозвучать сигнал на вылет. Собирать людей при таких обстоятельствах мы не имели права. Тогда я попросил представителя политотдела рассказать нам, как совершил Грицевец свой подвиг, чтобы еще до отбоя, когда появится возможность созвать весь личный состав эскадрильи, организовать беседы по экипажам.
Суть была в следующем.
В середине дня у озера Буир-Нур завязался воздушный бой пятидесяти советских истребителей с шестьюдесятью японскими. Противник был разбит и бросился наутек. Японцы над своей территорией сумели зажечь самолет майора Забалуева. Он выбросился на парашюте. Сергей Грицевец приземлился рядом с Забалуевым и на глазах у японцев, пытавшихся их обоих взять живыми, посадил Забалуева к себе в кабину, взлетел и благополучно возвратился на свой аэродром. С воздуха их прикрывал лейтенант Петр Полоз.
Слушался этот рассказ с затаенным дыханием. Мы, молодые летчики, знавшие много примеров воинской доблести, не сразу могли осмыслить происшедшее. Что побудило Грицевца на поступок столь большого мужества? Жажда личной славы? Нет. Слава и без того не обошла Сергея. Его имя, занесенное в список Героев Советского Союза, гремело по всей стране. Большей славы и быть не могло (звания дважды и трижды Героев тогда еще установлены не были). Этот человек рисовался нашему воображению как живое и вполне законченное воплощение всех ратных достоинств. И вдруг он раскрылся перед нами какой-то новой, неожиданной стороной…
Никогда прежде не приходилось мне испытывать так глубоко заразительную силу геройского поступка. То же самое происходило, видимо, и с другими.
– Вот это человек, – услыхал я позади себя и обернулся.
Это сказал Холин – худой, небритый, с глазами, полными волнения. Должно быть, он тоже ставил себя на место героя. Должно быть, он тоже задавался вопросом: «А я бы смог?» И, должно быть, отвечал про себя: «Да, смог бы».
В тот день мне посчастливилось увидеть Сергея Грицевца. Для нас, молодых истребителей, подробности той встречи были интересны и очень поучительны. Раньше мне не приходилось наблюдать, как держит себя человек, вдруг оказавшийся в центре внимания целого фронта. Ни одним словом, ни одним жестом не выказывал он своего превосходства перед другими летчиками и был совершенно свободен от благосклонной, всегда унижающей других снисходительности. Немного смущенный повышенным к нему интересом, он охотно говорил о товарищах, и все видели, что делается это не из дешевого кокетства, а потому, во-первых, что он прекрасно их знает, и, во-вторых, потому, что говорить о них – уж коль выпал такой случай, – доставляет ему удовольствие. Его суждения о людях были коротки и отличались меткостью. Отзываясь о ком-нибудь из летчиков, он любил подчеркнуть не столько его профессиональные, сколько человеческие качества: «Очень добр душой и не мямля», «Свободно входит в чужие беды, но принципиален…»
Когда же речь заходила о самом Грицевце, он будто отвечал на вопросы анкеты: «да», «нет», «был», «сделал»…
Среди нас находился корреспондент армейской газеты. Он спросил Грицевца:
– Что вы думали, когда садились в тылу японцев? Грицевец ответил просто:
– Спасти человека.
– А если бы что-нибудь случилось с самолетом? Летчик улыбнулся:
– Помирать вдвоем все легче, чем одному.
– Разве вам смерть не страшна, что вы так легко говорите о ней?
Выражение его лица переменилось.
– Только ненормальные люди смерти не боятся. Но есть совесть, она сильнее смерти.
А вот что позже писали литераторы об этом беспримерном подвиге:
«Навстречу нам, улыбаясь, шел молодой худощавый человек легкой походкой спортсмена.
Он приветливо помахал рукой, в которой были полевые цветы. Можно подумать, что он возвращается с прогулки. Впрочем, все отлично знали, что после каждой «прогулки» Грицевца японцы не досчитываются нескольких самолетов.
Весь фронт гремел рассказами о замечательном подвиге Грицевца – о том, как он, снизившись на вражеской территории, спас своего друга и командира – Забалуева.
Почти каждый день над степью происходили воздушные бои, и почти каждый день умножались рассказы о подвигах Грицевца.
Мы спросили у одного его товарища: какие самые сильные стороны Грицевца раскрылись во время халхингольских боев.
Во-первых, сказал нам собеседник, молниеносная находчивость.
Во-вторых, острая летная наблюдательность. Он как бы предугадывает замыслы противника.
В-третьих, самоотверженная забота о «соседях». Грицевец приходит на помощь всегда точно, в самую критическую секунду.
В-четвертых, виртуозность владения самолетом в боевом строю…
Мы сидели под крылом его прославленного самолета, и Грицевец рассказал нам историю одного из своих подвигов. При этом лицо его, сухое и сильное, обтесанное ветром больших высот и в то же время полное какой-то детской чистоты, с необыкновенной живостью меняло выражение.
– Был у нас воздушный бой с японцами. Не стану вам описывать его. Врага мы потрепали здорово и гнали его далеко. Вдруг замечаю я, что Забалуева нет. А бились мы рядом. Делаю круг, ищу его сначала вверху, потом внизу и вдруг вижу: Забалуев сидит на земле. А земля-то чужая, маньчжурская. От границы километров шестьдесят. На горизонте уж город виден – Ганьчжур. Крыши домов, столбы телеграфные, грузовые машины.
И уже я ничего не чувствую, ни о чем не думаю. Одна мысль у меня: забрать командира и улететь.
Начинаю спускаться. Все время не отрываясь смотрю на Забалуева. И вижу: он выскочил из самолета и бежит. Бежит и на ходу все с себя скидывает – парашют, ремень, ну, словом, все тяжелое. Бежит с пистолетом в руке.








